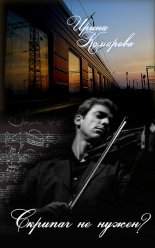Последний виток прогресса Секацкий Александр

Но непосредственный интерес вызывает, так сказать, сфера внутреннего обращения: во взаимозачетах и взаиморасчетах ближайшего круга болепричиняющие средства остаются вне конкуренции. И по сей день широко распространены случаи причинения собственно физической боли – вспомним пословицу «Бьет – значит любит», – не говоря уже о физическом наказании детей и рутинных шлепках. Если бы можно было измерить и сравнить «общее количество» боли, циркулирующей внутри близкородственного круга, с той, которую первые встречные причиняют друг другу, вполне могло бы оказаться, что резервуар «междоусобной» боли превосходит залежи боли, причиняемой случайным другим.
Но физическая боль как таковая все же периферийна для расчетов между родными и любящими. Куда более распространен и востребован ее коррелят, боль «метафизическая», причиняемая в форме весьма изобретательных страданий или, лучше сказать, терзаний. Русский писатель Иван Гончаров, назвавший свою знаменитую статью «Мильон терзаний», невольно дал прекрасное обозначение для важнейших взаиморасчетов близкородственного круга. Если измерять приобретаемый капитал в этих расчетных единицах, едва ли не каждый второй окажется миллионером… Звукоряд терзаний – это не гармошка-трехрядка, хотя клавиатура боли может быть незатейливой и в этом случае. Тем не менее по своему диапазону клавиатура мучительных взаиморасчетов соответствует большому органу. Боль не наносится непосредственно на поверхность тела, она, посредством терзания, передается опосредованным образом. Болевые рецепторы при этом, конечно, подключаются, но подключаются изнутри.
Присмотревшись внимательно, мы можем увидеть вполне самодостаточный характер возникающих ценностей – различных сумм причиняемой боли. Пресловутые «упреки» крайне редко носят рациональный характер, но ведь и нужны они не для поддержания рациональности, не для защиты ее юрисдикции. Они, терзания, суть индикативы и демонстративы, специфические ценности, удовлетворяющие жажду в момент предъявления.
Когда жена, обращаясь к мужу, в характерном демонстративном тоне говорит: «Ты неудачник! Ничего толком сделать не можешь… И зачем я только с тобой связалась?» – она при этом отнюдь не проявляет целерационального поведения, да, похоже, и не стремится к конкретной практической цели. Производимое ею «терзание» скорее служит препятствием к получению осязаемой практической выгоды. И все же акт терзания совершается, ибо он является самостоятельной ценностью, некой формой платежа. Похоже, что даже единичное терзание ближнего облегчает душу, удовлетворяя актуальную потребность, подобно тому, как материальные потребности удовлетворяются с помощью денег. В нашем случае пытка должна обернуться успехом, так сказать, принести плоды, если муж почувствует себя виноватым и признает свою вину, – тогда «гонорар», полученный супругой, будет максимальным. Если же муж посчитает, что с него пытаются взыскать несправедливую, непомерную плату, он, скорее всего, потребует сдачи и, к примеру, скажет: «Ты на себя посмотри, во что ты превратилась», – и далее в том же духе, пока не будет исчерпана сумма задолженности по терзаниям.
Стремление к взаимозачету, как правило, перевешивает через край, в результате чего процесс обмена терзаниями возобновляется с новой силой. К стихии близкородственных обменов любезностями прекрасно подходит изречение Гераклита: «Весь этот космос есть огонь, мерами потухающий, мерами возгорающийся». С точки зрения политической экономии перед нами опять-таки необычный товар: ведь прочие товары раскрывают свою потребительскую стоимость после того, как мы их приобретаем, – характерным исключением являются деньги, которые должны быть инвестированы или попросту растрачены для подтверждения их потребительной стоимости. При этом, как уже отмечалось, воображаемые инвестиции, воспаляющие и распаляющие воображение, легко заменяют реальные затраты, достигаемая здесь капитализация способна вполне успешно, на долгосрочной основе инициировать деятельность. Взаимные терзания имеют сходную форму потребительной стоимости, и они как особенный товар реализуют свою ценность в момент инвестиций – с тем важным отличием, что поле инвестиций не является безграничным, оно охватывает не весь универсум Mitsein, a лишь круг родных и близких. Но уж зато на этой территории, в родных пенатах, номинал одного «щипка» далеко превосходит номинал любой классической денежной единицы. Опять же физическое страдание отмеривается грубыми, приблизительными порциями, отвесить затрещину не удается с такой точностью, с какой отвешивался, например, фунт стерлингов. То ли дело болезненные уколы самолюбия и прочие терзания, тут на чашу весов непрерывно бросаются разновесы, и сам процесс платежа (азартные игры обмена) оказывается несравненно важнее достигнутого хрупкого равновесия.
В этих обменах, несомненно, присутствует садомазохистский компонент, регулирующий экономию либидо, однако в целом «теория удовольствия Фрейда» не годится для объяснения тонких взаиморасчетов в первичной валюте. Фрейд говорит: «Мы без сомнения принимаем положение, что ход психических процессов автоматически регулируется принципом наслаждения, мы считаем, что этот процесс каждый раз возбуждается связанным с неудовольствием напряжением и затем принимает такое направление, что его конечный результат совпадает с уменьшением этого напряжения – с избежанием неудовольствия или порождением удовольствия»[125]. Все дело, однако, в том, что ближние в ответ платят той же монетой, и, если бы «экономическая точка зрения», принимаемая Фрейдом, была верна, мы имели бы типичную игру с нулевой суммой вроде той, в которую играли Джон и Билл, ковбои из анекдота, которые в результате бесплатно наелись дерьма… Внешне ссоры между самыми близкими людьми действительно напоминают подобную игру с нулевой суммой, но сходство носит именно внешний характер.
Отправитель страдания в момент его вручения получателю испытывает некое мгновенное острое наслаждение и в то же время совершает рискованную инвестицию. Риск связан с почти неизбежным возмездием, и тем не менее, учитывая сугубую рутинность «покупки», нельзя не признать, что обмен булавочными уколами терзаний представляет собой самодостаточную ценность. «Пострадавшие», в отличие от Билла и Джона, преисполнены решимости совершить сделку еще раз, фактически оборот капитала внутри малого круга родных и близких совершается непрерывно.
Подобно тому как есть люди, «жадные до денег», существуют, и в немалом количестве, субъекты, жадные до терзаний, субъекты, предпочитающие получать гонорар именно в этой валюте. Они смело идут в атаку, даже в случае легко предвидимой симметричной расплаты, и уж тем более, когда светит чистая прибыль. Отнюдь не является редкостью брак, прочность которого гарантируется готовностью одной из сторон терпеливо сносить упреки супруга или супруги. Если буквально следовать содержанию упреков, применяемых для терзания партнера, можно прийти в недоумение: и как только терзательница живет с таким чудовищем? Но сама того не сознавая, обвиняющая сторона руководствуется принципом: а где еще я столько заработаю?
Боль в уплату обусловливает интенсивность особого круга обменов, характеризующегося принципом «чужие здесь не гадят». В рабочем порядке круг родных и близких можно определить как территорию, где валюта терзаний имеет хождение и принимается без ограничений. Если субъект вдруг замечает, что платежи не проходят и требуется другая монета, он тут же понимает (если почему-то забыл), что покинул родные пенаты и вышел в большой мир. Таков водораздел, по одну сторону которого родные и близкие – и с ними всегда можно рассчитаться «по-свойски», – а по другую – чужие, и как раз денежные связи стягивают совокупность чужих в некое минимальное единство. Универсальность платежей образует порог различимости человечества как единого целого: на это обстоятельство обращали внимание множество мыслителей от Аристотеля до Георга Зиммеля. В китайском средневековом трактате мы читаем:
«Среди всех человеческих устремлений деньгам принадлежит срединная позиция. По своей интенсивности <чунь> стремление к деньгам родственно телесным вожделениям, и оно, некоторым образом, телесно – вызывает одышку, пот, оцепенение, а у иных и обморок. Но по своей форме тяга к деньгам родственна тяге к знаниям. В самом деле, подобно знанию, деньги, как наличные, так и отсутствующие, располагают к вычислениям, к совершению воображаемых операций. Общеизвестно, что новые знания быстрее и надежнее приобретает тот, кто уже владеет какими-то знаниями, – в еще большей степени это относится к деньгам. И тут и там мы сталкиваемся с одинаковым вопросом: где приобрести и как лучше распорядиться. Таким образом, общего немало, хотя обычно принято указывать на моменты отличия: знание, в отличие от денег, если поделиться им с другими, не уменьшится, а даже возрастет. Правда, богатейшие купцы Поднебесной и владельцы крупнейших торговых домов ровно то же самое утверждают и о деньгах.
Срединная позиция денежного интереса делает этот интерес самым общим. В потворстве телесным вожделениям нет ни сюцаев, ни императоров, там все простолюдины. Стремление к мудрости позволяет пребывать в кругу людей, где все благородны независимо от рождения. Но общение посредством денег, это общение со всеми людьми, в том числе и с теми, кого мы никогда не увидим, и с теми, кого уже нет. Поэтому полное одиночество начинается с полного безденежья. Ибо даже если у тебя не осталось ни родных, ни близких, но есть хотя бы один юань, ты еще не совсем одинок в этом мире. Ты еще можешь вступить в общение с первым встречным, купив у него что-нибудь или, по крайней мере, поторговавшись»[126].
Параллелизм двух валют прослежен здесь в своих основных моментах. Требуется лишь подчеркнуть, что взаимное причинение страданий отнюдь не является разобщающей силой, вызванной слишком тесным сближением. В каком-то смысле речь идет о важнейшей составляющей самой любви, о полноте эротических инвестиций. Тонкий баланс взаиморасчетов сопровождает чувственную глубину:
- Опять начнешь суммировать укусы комаров
- Как бесконечно малые обиды на меня.
Продолжим, однако, рассмотрение специфических свойств особого товара, именуемого терзанием. Каким образом причиняемая другому боль резонирует с принципом наслаждения причиняющего? Ведь ясно, что логика победы над врагом здесь не работает, как уже отмечалось, боль в уплату принимается именно в близкородственном кругу, и отмеченная Фридрихом Ницше «жажда мести» как составляющая рессентимента играет весьма скромную роль в поле близкодействующих сил. Очевидно, что в обменах, опосредуемых монетой терзаний, должен быть и некий симметричный участок, опыт собственной боли. Терзание другого было бы бессмысленным, если бы не опиралось на чувственный коррелят претерпевания, хотя бы на многокрасочную палитру обиды.
Человек, равнодушный к страданиям, скажем, нечувствительный к ним, едва ли согласится принять боль в уплату, здесь имеет место, как принято говорить, «диалектическое соотношение моментов». Во-первых, месть врагу проходит по другому ведомству, она может оставаться в рамках прямой чувственности, не затрагивая механизма идентификаций. Человек, претерпевший страдания и боль, иногда склонен говорить: такого и врагу не пожелаешь. В таких случаях речь идет о бессмысленных, неавторизованных страданиях, о тех страданиях, в которые «не удается вмыслить» никакого эквивалента. Однако авторизация анонимного, щедро рассыпанного повсюду страдания входит в саму суть бытия субъектом, является, выражаясь в терминах Джудит Батлер, ключевым моментом субъекции. Резонатор страданий, однажды сработав, отнюдь не стремится к отключению, как можно было бы подумать. Он стремится к переходу в режим инотелесности.
Ощущение боли другого есть удивительная, привилегированная форма идентификации: при этом открывается картина чувственной реальности, когда за пределами моего единичного тела пульсирует знакомая мне и, в сущности, моя собственная, боль. В таком случае ценность причинения страдания определяется переносом центра тяжести переживаний в иное тело – и можно заметить, что не любое тело для этого подойдет, а лишь тело достаточно знакомое и близкое, создающее минимум препятствий для идентификации. Происходит специфическое преобразование самочувствия в иночувствие, одновременно оказывающееся расширением горизонта самочувствия.
По-видимому, мы имеем дело с проявлением более общего феномена, описанного Августином. У Августина речь идет о сопереживании актеру, присутствующему на сцене, о ситуации, когда мы приветствуем в теле актера то, что осуждаем в себе самих. Сценическая убедительность плута, мошенника или негодяя заставляет нас непроизвольно восхищаться этими персонажами независимо от степени преодоленности соответствующих качеств в себе. Удвоение некоторого аффекта или состояния путем его перемещения в инотелесность легко меняет ценностный знак на противоположный[127].
Можно предположить, что взаимная ретрансляция боли в форме обмена терзаниями составляет корень этого феномена. Будучи субъектами, мы способны соприсутствовать в перемещенной боли, но если до перемещения мы от нее страдали, то теперь она предстает как некое благо (Транспаро Аутисто мог бы смело зачислить данное обстоятельство в атрибуты классического субъекта). Благо это имеет отчетливую товарную форму, поскольку является результатом проделанной работы, следствием нелегкого труда субъектообразования, субъекции. Товарообмен внутри малого, интимного круга и конституирует реальность родственных отношений, которые даются авансом, но требуют глубокой, обстоятельной проработки для перехода от возможного к действительному.
Понимание способа специфического мучительства как медиатора близости, как действительного, а не просто декларированного родства, позволяет переосмыслить ряд «проклятых вопросов». Например, крик души, озвученный Львом Толстым: доколе можно бить людей? Или уже упоминавшуюся трактовку главного вопроса философии Ричардом Рорти, в соответствии с которой все дело состоит в том, чтобы избежать причинения боли друг другу…
Ответ может показаться странным, но при некотором размышлении он представляется единственно возможным: чтобы перестать мучить друг друга, необходимо максимально ослабить узы родства и близости, то есть пойти по пути, который максимально противоположен действенной любви к своему ближнему. Именно такой путь фактически и диктовался идеалами Просвещения, именно он и был избран в качестве магистральной линии развития «межперсонального общения». Транспарация закрепила этот выбор и обеспечила ему подходящие каналы социализации, важнейшим из которых является уже не раз упоминавшаяся политкорректность. Мы теперь подошли к ней с другой стороны, что дает повод еще раз оценить этот важнейший феномен современности. Политкорректность можно описывать по-разному. С позитивной стороны – как терпимость, тактичность, превалирующий учет интересов другого. С негативной – как глубокий страх перед спонтанным проявлением собственной самости. Но в любом случае перед нами тип отношений, в основу которого положено отношение не к другу, брату и свояку, а именно к первому встречному. Ты мне ни сват ни брат, и звать тебя никак – зачем же я буду тебя мучить, зачем инвестировать полноту присутствия в инотелесность, возможная идентификация с которой утрачена?
Таким образом, политкорректность есть простой социальный инстинкт из набора тех модусов вторичной, обретенной простоты, которые описаны под общим именем рефлорации. Окончательный отказ от принципа «боль в уплату» означает ревизию важнейшей сферы самоопределения субъекта, свертывание целого региона межперсональных контактов и соответствующее изъятие мерности, казавшейся абсолютно необходимой для человеческого бытия. Эта необходимость, однако, относилась лишь к одному из возможных экзистенциальных проектов.
Тематизированная Гегелем превратность Weltlauf находит здесь очередное подтверждение. Сколько нравственных подвигов было совершено во имя утверждения человеколюбия, какие только аргументы не высказывались на тему «Доколе можно бить людей?», но любая изощренность теоретического разума всякий раз оказывалась бессильной перед вовлеченностью в контактное проживание, перед «ангажированностью самой жизнью». Мыслителям, в том числе и провозвестникам Просвещения, казалось, что нужно совершить еще одно решающее усилие человеколюбия, нужно полюбить по-настоящему, и ежедневная порция взаимно причиняемых страданий тут же уменьшится… Едва ли кому приходило в голову, что подлинная близость способна лишь увеличить, интенсифицировать обмен страданиями. Как бы там ни было, но случилось то, что только и могло случиться: революция в человеческих отношениях произошла не благодаря углублению контактного проживания, а, наоборот, в силу выравнивания рельефа Mitsein. Только лишившись чувственной реальности родства, люди стали меньше мучить друг друга – речь, разумеется, идет о передовых американских людях, о самых образцовых подданных ПСК.
Остается рассмотреть еще механизм перехода от обмена «грубой», физической болью к сложному балансу взаимных терзаний, по-прежнему процветающему на периферии ПСК, там, где сохраняется полновластие субъекта. Ницше склонялся к тому, чтобы рассматривать зримую, членораздельную боль как исходную матрицу расчетов, своего рода отчеканенную монету. Возникает соблазн сопоставить душевные страдания с усовершенствованной, безналичной формой расчетов, но яркая экспрессия, подтверждающая реальность терзаний, не позволяет этого сделать. Более точной выглядит другая аналогия: возможность рассматривать причинение душевных страданий как капитализацию боли. Ведь предшествующие формы прямой и ответной агрессии (схватка воинов, драка подростков, etc.) укладываются в логику потлача, тут речь как раз идет о дистрибуции насилия, описанного Рене Жираром[128].
Конечно, способность осмыслять болезнь и несчастные случаи, готовность «вмысливать смыслы» (Ницше) в осадочные породы и россыпи страданий, – эта способность является ведущей субъектообразующей силой вообще. Но и она традиционно делится на различные регионы – некоторые из них обустроены с помощью простых бинарных оппозиций вроде противостояния добра и зла, другие смогли породить разветвленные сети обменов. Таковы, в частности, два концентрических круга, в которых властвуют соответственно экономия либидо и миллион терзаний с его депозитами и кредитными учреждениями. Здесь процесс капитализации боли носит систематический характер и может быть прослежен вплоть до стремления к монополизму (желанию быть персональным мучителем избранных – любимых и любящих) и возможному оттоку капитала, когда попадается особо черствый объект для инвестиций, не поддающийся тонким мучениям и совершенно неспособный оценить изощренность инвестора.
Тем не менее на сегодняшний день терзания утратили свою значимость, превратившись в сугубо региональную валюту остаточной субъектности. Отказ принимать боль в уплату является одним из самых ярких симптомов прогрессирующей транспарации, когерентность синтезируемого Плоско-Субъектного Континуума избавляет подданных от всех несистемных регуляторов и аннулирует неэквивалентные обмены как принцип. Универсальный метаболизм ПСК осуществляется с помощью трех простых медиаторов, перекликающихся с названием фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Деньги, новости, считалки[129] – вот три кита, на которых стоит современная цивилизация. Деньги поставлены на первое место отнюдь не случайно; попробуем рассмотреть их в несколько ином ракурсе.
14
Основной ресурс и онтология дефицита
Конституирование языка воображения на основе денег объясняет их универсальное хождение и неограниченную предъявимость. Но отсюда еще не ясно, откуда берется их ценность: в объяснении нуждается и природа ценности как таковой.
Изначальным условием ценности sine qua non является дефицитность, понимаемая предельно широко. Обратимся вновь к Платону, давшему первое обоснование идеи ценности, при том что обоснование идеи, эйдоса и было одновременно установлением шкалы ценностей. Ценность того или иного сущего определяется его близостью к эйдосу-первообразцу, степенью воплощенности соответствующей идеи, среди которых и Единое само по себе, и Благо, и само по себе Прекрасное. Однако теневым условием ценности вещей является неравномерность присутствия небесных эталонов в земных воплощениях, иными словами – дефицитность истины, красоты и блага, некая принципиальная лимитированность «всего хорошего». Такой дефицит предстает как род небытия, но не того, которое постигается чистой мыслью, а небытия, сброшенного в материю желания.
Когда Сократ говорит о «прекрасной амфоре» и «прекрасной кобылице», его речь имеет смысл лишь потому, что не все амфоры и кобылицы прекрасны. Множество посредственных амфор и сивых кобыл заставляют влечение вспыхнуть при виде близости к эталону. Вот и деньги, замещая любой имеющийся товар (и даже любой воображаемый), оповещают о его дефиците здесь и сейчас[130]. Но и товар оповещает о себе, о своем принципиальном наличии лишь постольку, поскольку находит язык, на котором можно обратиться к потенциальному потребителю, – язык денег, обеспечивающий новую членораздельность воображения.
Деньги демонстрируют динамический смысл лишенности – вполне в духе Плотина и Шнеура Залмана. Движимые ими потоки влечения направлены к восстановлению полноты целого, которое они сами же и фрагментируют благодаря своей дискретности. Определенность той или иной суммы напоминает языковую игру в гипостазирование, то есть в полагание предмета там, где предмет отсутствует[131]. Любая произведенная номинация, независимо от того, случилась ли она в круговороте воображения или зафиксировалась в случайном эмпирическом ценнике, номинирует на премию самодостаточного существования полагаемую таким образом ценность: подобно тому как в языковых играх всякое существительное имеет шанс стать существующим, в скоростных играх обмена сформулированное предложение потенциально продуцирует дискретную единицу желания и воли, то есть ценность.
Мы имеем дело с далеко идущим сходством предложений именно потому, что в обоих случаях мы имеем дело с языком. Полнота Плеромы, создающая идеальный космос изобилия, перестает быть единственным аттрактором всех устремлений в момент своей членораздельной репрезентации, каждое предложение завершается знаком препинания как препоной, мимолетной задержкой на пути к восполнению утраченной целостности. Деньги подобны искрам Божьим, плененным материей, их возвратно-восходящее движение преобразует материю желания в товарную форму. Так, для Шехины, пребывающей в изгнании, запрещен кратчайший путь возврата, поэтому в своем центростремительном движении она влечет за собой преобразованные фрагменты воплощенности, которые в противном случае никогда не отслоились бы от чистой лишенности: так преодолевается скудость мира[132].
По Марксу, необходимость в деньгах может возникнуть лишь в случае товарного избытка, однако очевидно, что систематическое воспроизводство этой избыточности – а только оно и имеет значение – есть отклик на запрос, формулируемый разгоряченным воображением на языке денег. Избыток провоцируется преднаходимым дефицитом подобно тому, как излияние Торы в мир провоцируется встречной духовной жаждой. Тут, впрочем, действует принцип кругового причинения, ибо дефицит наличного (как наличного бытия, так и собственно наличности) вырисовывается благодаря полноте воображаемого, в контрасте с которым возникает скудость мира. Вот ведь и ценность произведения искусства оттеняется (и конституируется) первой встречной безыскусностью – кажется, что безыскусное должно первым выйти навстречу для того, чтобы встреча с искусством вообще состоялась. Еще сто лет назад можно было смело провозгласить: если бы деньги исчезли, мир утратил бы половину своей ценности. Сегодня, благодаря синтезу имманентного пространства ПСК, ситуация изменилась: с исчезновением денег мир обесценился бы как минимум на три четверти. И то ли еще будет.
Георг Зиммель впервые четко сформулировал давно витавшее подозрение, что деньги не есть простой номинал для обозначения содержания обменов, скорее само содержание в большинстве случаев может рассматриваться как повод для совершения желанных операций: «Для обмена нельзя найти привилегированную основу, которую искали в торговле, браке, религии, ибо он возникает в момент установления связи между людьми. Следовательно, это означает, что любое взаимодействие должно рассматриваться как обмен»[133]. Если бы эта простая мысль пришла в голову Марксу, возможно, что его политэкономия выглядела бы совершенно по-другому. Ведь речь идет если не об исходной мотивации, то по крайней мере о господствующем типе причинения, пусть даже в какой-то момент вторгающемся извне, но преобразующем всю картину дистрибуции вещей, включая и их производство: «Деньги также являются посредником просто в личных отношениях, будучи счетоводом множества связей, которые устанавливаются каждое мгновение. Очевидно, у них есть сила связать меня с другим человеком – торговцем, у которого я покупаю коробку сигар, незнакомцем, которому я предлагаю выпить, женщиной или мужчиной, которых я соблазняю с их помощью. Драма современности проистекает именно из того, что люди не могут иметь между собой связей, в которых не присутствовали бы деньги»[134].
Итак, в спекулятивном плане, не вдаваясь в исторические детали, можно исходить из того, что «в один прекрасный момент» появляется или, лучше сказать, заявляет о себе сверхактивный фермент обменов. Органическим аналогом этого фермента будет даже не кровь, как у Левиафана, описанного Гоббсом, а несравненно более универсальный медиатор, соединяющий в себе свойства адреналина, инсулина, эндорфинов и естественных алкалоидов. Благодаря мощи и универсальности фермента исходный континуум даров (потлач), компенсирующий инфляцию слов, был перекрыт сетью новых обменов – континуумом, в котором язык воображения на лету подхватывал голос вещей и предоставлял этому голосу членораздельность, благодаря чему расположение, признательность, симпатия, равно как и любые степени дистанцирования, теперь могли быть выражены в дискретных суммах всепроникающих сообщений. Возник язык, на котором можно было отдавать приказы экономике.
Одним словом, в отношении постиндустриального общества деньги можно вкратце охарактеризовать как основной ресурс. Пока даже не обязательно уточнять, основной ресурс чего – товарного производства, экономики, рутинной коммуникации, – ибо на сегодняшний день автономия этих сфер весьма относительна и проблематична. Мы установили, что язык денег является исторически самым новым всеобщим языком воображения, отчасти альтернативным понятийному мышлению, отчасти же подспорьем для мысли, придающим шагам рефлексии специфическую окраску. В активированном и тем более в воспаленном состоянии воображение неспособно выполнять регулятивную функцию, но содержащееся в нем повелительное наклонение абстрагируется в сферу целеполагания. В способе проникновения в эту сферу есть очень важные различия между воображением, разгоряченным Эросом (либидо) и тем, которое оперирует воображаемыми талерами.
Либидо поддается сублимации, механизм которой, несмотря на усилия Фрейда, все еще остается таинственным. Но только систематические грезы деньгами о деньгах могут принять характер абстрактной воли: при этом эротическое воображение так или иначе препятствует сублимации, его приходится превозмогать. Денежные же грезы всего лишь отвлекают абстрактную волю, обволакивая ее благоприятной питательной средой. Рассмотрим подробнее горизонты инобытия двух основных потоков воображаемого.
Язык либидо посредством сублимации оказывается способным к достаточно далеким переносам, он незримо, а то и зримо, сопутствует великим взлетам человеческого духа. Опора на эротические образы характерна для «до-протестантского» христианства, в то время как специфическая религиозность лютеранства и кальвинизма могла быть создана только посредством «сублимации» конкурирующего языка воображения, денежных грез. Детали денежных расчетов и перерасчетов, освященные именем Бога, составляли саму сердцевину сокровенного духовного know how, описанного Максом Вебером. На этом же языке записаны и скрижали «капиталистической действительности», подлинные духовные основания для существования банков, бирж и прочих элементов разветвленной инфраструктуры.
Крайне важно, что первичная запись содержит возможность трансцендентного расширения, в соответствии с которым магия самовозрастающей суммы денег свидетельствует о богоизбранности, да и о присутствии Бога вообще. Этот момент в высшей степени мистический, до него в принципе невозможно домыслиться, но, как выяснилось, можно догрезиться. Воспаленное воображение однажды оказалось способным на такое трансцендентное расширение. Способ, которым берется барьер, был закреплен в составе духовных практик, оказавшись едва ли не последним историческим новообразованием субъекта. Впрочем, по аналогии с синтезом линейного времени можно предположить, что речь идет все же о разовом импульсе, о первотолчке, вбросившем в мир такую духовную энергию и силу причинения, которых хватает и до сих пор[135]. В сущности, это было воистину удивительное трансцендентное расширение едва ли не самого профанного измерения человеческого бытия, «купли-продажи». Только субъект мог вместить столь радикальную несовместимость, но даже субъект подвергся преобразованиям для повышения вместимости, общего уровня смыслоемкости мира.
Реформа вместимости происходила не на ровном месте, нечто подобное уже было. Преднаходимый голос телесности, модулируемый как позыв либидо, допускает сублимацию, в ходе которой сопрягаются воля-к-бессмертию и «основной инстинкт», его сам Фрейд с некоторым сомнением называет инстинктом продолжения рода[136]. В результате возникает насыщенная эротическими компонентами любовь к Богу, чувственная реальность, в которой импульс либидо был глубоко преобразован, но все же не укрылся от внимания теологов.
И тем не менее если такое объединение можно считать греховным (именно так и считало большинство теологов), то каким верхом греховности должно предстать тогда второе трансцендентное расширение – попытка на языке денег догрезиться до Бога! Конечно, этот язык прекрасно подходит для быстрых счетных операций внутри любого множества конкретных благ, и соблазн подкрепить высшие чаяния денежным эквивалентом существовал всегда. Однако все попытки прорыва, представлявшие собой, в сущности, разновидность подкупа, на эксплицитном уровне решительно пресекались. Новый Завет преисполнен обличениями стяжательства. Бог, в отличие от его земных служителей, неподкупен – эта мысль изложена с предельной ясностью и отчетливостью, поэтому десятина и прочие платежи неизменно рассматривались как некий компромисс, явно противоположный тому, что Кьеркегор называл подвигом веры. Церковь, впрочем, время от времени погружалась в грех сребролюбия, что всегда соответствовало периодам упадка живой подлинной веры, – самый глубокий кризис пришелся как раз на эпоху Возрождения. А далее случился воистину удивительный синтез, ознаменовавший саму суть Реформации.
Да, посредством подкупа Бога догрезиться до трансцендентного не удалось, зато увенчался успехом другой, куда более экзотичный ход. Деньги, как их количество, так и принцип их возрастания, пригрезились в качестве прямой и непосредственной благодати. Произошло соединение пучка экзистенциальных чаяний и неукротимой жажды обладания, в результате чего возник абсолютный монотеизм. Впервые зов Золотого Тельца, обеспечивавший фоновый дуализм веры, оказался включенным в состав сакрального. Тезис Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно» обрел новый смысл: если можно так выразиться, содержавшаяся в нем несовместимость стала еще на порядок несовместимее, ведь оборотной стороной благословенности свыше (и одновременно ее градуированной шкалой) стала квинтэссенция меркантилизма. Никакая умопостигаемость, никакое здравое моральное суждение не могли бы примирить непримиримое, на это оказалась способной лишь новая редакция формулы Тертуллиана. Тем самым субъект в качестве сущего, не разрушаемого своей противоположностью, подвергся новому испытанию, не уступающему по своей замысловатости афоризму Евгения Шварца, – и вышел с честью из этой ловушки, не повредив даже логики, остающейся инструментом локального применения.
Понятно, что подобно тому, как происходит преобразование либидо в результате его трансцендентного расширения (в целом подобное преобразование можно расшифровать как общее облагораживание любви), притягательность денег, воспаливших воображение, тоже приобрела некие более пристойные формы, не сводящиеся к алчности и сребролюбию (хотя и выводящиеся из них). Макс Вебер в основных чертах дал картину монотеизма, в котором алчность и самопожертвование переходят друг в друга без какого-либо опосредования, прямо как скромность и прозрачное платьице у прекрасной девушки. Помимо всего прочего, произошедший синтез вызвал смещение центра тяжести воображения с конечного звена (вроде бочки варенья и корзины печенья) к центральному звену, представленному самими деньгами с их чудесной способностью к самовозрастанию. Чистый разум, утрачивая свою чистоту под воздействием грез, услужливо подсказывает, что взор Всевидящего сосредоточен на самовозрастании капитала, соответственно, именно здесь синтезируется топливо абстрактной воли, то есть воли, оторванной от желания чего-то особенного и ведомой единством благополучия и благословенности.
Обоснование этого момента, по существу, и является сердцевиной этического учения Канта. Ведь если всмотреться, в каком именно отношении чистый практический разум чист, от чего он в первую очередь очищен, откроется любопытная картина. Он отнюдь не свободен от подозрений, эта задача оказалась непосильной Просвещению и решается уже сегодня средствами транспарации. В кантовском практическом разуме подозрения попросту обобщены и вынесены за скобки – поэтому в каждом отдельном акте чистого практического разума подозрения имеются в виду или по крайней мере имеются в невидимости.
От какой же гетерономии избавлен чистый разум Иммануила Канта? Он избавлен от трансцендентного расширения чувственности – конкретно от тех сублимаций либидо, в которых еще просматривается их первоисточник. Отсюда столь характерные призывы Канта к избавлению от психологических (гетерономных) коррелятов «добрых дел», отсюда же его стремление к рациональному милосердию, к спокойной доброжелательности и в идеале к нулевому самочувствию вообще. Отсюда же, вероятно, и «странная враждебность» к Канту всей русской религиозной философии (впервые отмеченная Густавом Шпетом), ибо за соответствующими этическими постулатами интуитивно ощущается иной опыт веры, опыт, чуждый православной традиции с ее опорой на преображенный эрос.
Действительно, в «Критике практического разума» речь идет о рафинировании отношений к Богу, об очистке этих отношений от компонентов чувственной любви – в первую очередь отфильтровывается оргиастическая составляющая, так часто прорывавшаяся наружу на всем протяжении христианской истории. В Латинской Америке и в некоторых католических странах Европы она до сих пор сохраняет свою силу. Именно эта экзальтация – родственная, хотя и не тождественная дионисийскому началу, была выкорчевана в протестантстве совокупными усилиями Лютера, Кальвина, Цвингли и Канта. Но свято место пусто не бывает – на смену преображенному (и не очень преображенному) Эросу пришел альтернативный язык воображения, уже достаточно описанный здесь. Теоретически обоснованная бесстрастность Канта действительно свободна от страстей из группы либидо, но отнюдь не от чувственного коррелята вообще. В этом хорошо ведомом Канту тайном языке нефрейдовского бессознательного сотня воображаемых талеров принимала форму мерцающего аттрактора. Искренне верующий протестант, вглядываясь в это мигающую точку, мог повторять про себя: я их все равно заработаю. И далее пытаться совершать богоборческий жест Иакова на новый лад, вознамерившись восхитить Божественное благословение путем подчинения своего бытия чистой абстрактной воле к приумножению наличного (номинального). На языке этой воли записан призыв к новому Аврааму, призыв, который невозможно расшифровать при прежнем типе трансцендентного расширения чувственности.
Так, сугубая рациональность, счетность, сама пресловутая меркантильность приземленной буржуазной жизни опирается на пронизанное иррациональностью основание. Деньги, будучи простым посредником по доставке материальных благ, должны стать даже не оболочкой, а внутренней формой денатурированного желания, для того чтобы расширенное производство этих самых благ получило трансцендентную санкцию. При этом язык денег как настоящий полноценный язык не мог не породить собственных праздных языковых игр, без которых, в свою очередь, не могут быть составлены и скрижали завета. А их смысл, выявившийся уже к концу эпохи Просвещения, таков: переход от денег как транспортного средства по доставке уже существующих ценностей, признанных объектов желания, к деньгам как всеобщему ценнику. Дело не в том, что все, имеющее ценность, может получить денежное выражение, а в том, что все, выражаемое в деньгах, именно поэтому имеет ценность.
Подобно тому как в нормальной человеческой речи действует презумпция смысла и любой произвольно взятый текст исследуется на наличие смысла, язык денежных грез, будучи развитым языком с собственным словарем и грамматикой, обретает аналогичную презумпцию: грезы есть некие фразы, выражающие соотношение наличного и основного ресурса. В социологических терминах это хорошо известное обстоятельство описывается обычно как навязывание покупки или как синтез искусственных потребностей. Близость товарного предложения к предложению в грамматическом смысле завораживает. Ибо в случае простого наличия ценника всевозможные дезодоранты для кошек, шторки для очков, упакованный в консервную банку воздух Санкт-Петербурга и великое множество других подобных кунштюков оказываются приемлемыми предложениями. При этом ясно, что они не являются априорными ценностями, получившими наконец денежное выражение, – напротив, они суть конструкты языка, в силу грамматической правильности обретшие ценностный статус.
Этот момент чрезвычайно важен, он дает простор для творчества, для направленного потока инноваций в онтическом слое экзистенциального проекта. Он позволяет оспорить некоторые исходные утверждения Маркса, например известные строки из письма к Энгельсу: «Господа экономисты проглядели чрезвычайно простую вещь, а именно что форма "20 аршин холста равны одному сюртуку" есть лишь неразвитая основа формы "20 аршин холста равны 20 фунтам стерлингов", что таким образом простейшая форма товара, в котором его стоимость выражена еще не в виде отношения ко всем другим товарам, но лишь в виде отличия от его собственной натуральной формы, заключает в себе всю тайну денежной формы и тем самым, в зародыше, тайну всех буржуазных форм продукта труда»[137].
В действительности в этом зародыше еще не содержится тайна нового типа дистрибуции вещей, подобно тому как человеческий зародыш на стадиях бластулы и гаструлы еще не содержит решающих отличий от предковых форм. Необходимо, чтобы произошло развертывание еще одного измерения, передача импульса, источника активации к «грамматически правильной» форме предложения, именно эта передача и обеспечивает работу perpetuum mobile индустриального и постиндустриального общества. Лишь когда 20 фунтов стерлингов или сто воображаемых талеров соотносятся не только с 20 аршинами холста, не только с насущной здесь и сейчас покупкой, но когда они актуализуют все гнездо своих означающих в быстром пробеге, причем так, что легкое количественное смещение в воображении, скажем от ста к ста двадцати двум талерам, тут же открывает новые пороги качественной определенности, – лишь тогда можно говорить, что вечный двигатель запущен. Что же касается проблемы интерференции двух господствующих языков воображения, следует отметить, что вся мировая художественная литература до сих пор не исчерпала эту безбрежную тему. Есть что сказать по этому поводу и аналитикам ПСК, несмотря на происходящую сегодня редукцию эротических грез, – ведь даже монтаж порношаблонов в рамках восторжествовавших наконец эквивалентных обменов служит источником психологических нюансов, напоминанием о всевластии субъекта.
Осмысленные предложения, обильно уснащающие тексты денежных грез, тяготеют, конечно, от сложносочиненных к простым. Сокращается дистанция между явленной в воображении картинкой и ее распечаткой (сбросом в овеществление) – тем более что и то и другое располагается сегодня, по существу, в одной плоскости, на витринно-гламурной поверхности отражающихся друг в друге экранов. Но доступность для пользователя остается лимитированной, и уж тем паче такова эксклюзивная принадлежность. Иначе деньги потеряли бы всякий смысл.
Едва ли не самый важный аспект власти денег состоит в одновременной членораздельности и лимитированности основного ресурса. В экзистенциальном проекте упрощенного субъекта ограниченность основного ресурса играет ту же роль, что и теснота желаний в проекте «классического» (скажем так, гегелевского) субъекта, – они прогоняют тоску бессмертия, инициируя осмысленность и интенсивность бытия. Самая захватывающая деятельность стремительно достигает порога оскучнения, если не поддерживается топливом основного ресурса. Роскошная графика, впечатляющая панорама, хитроумные трюки уснащают современные компьютерные игры – но играть в них, испытывая азарт и удовольствие, можно лишь потому, что в ходе игры расходуется и пополняется лимитированный ресурс: деньги или заменяющие их счетные единицы. В бесчисленных произведениях жанра фэнтези, где легко отменяются любые законы природы и фантомы самого изощренного воображения осуществляются без проблем, лимитирующий ресурс (какие-нибудь космобаксы) выполняет все ту же роль возгонки желания – исключением не является ни киберпанк Филипа Дика, ни психоделика Уильяма Гибсона. Подданные ПСК готовы расстаться со многими атрибутами субъекта, но только не с основным ресурсом.
15
Выпуск новостей
Пронизывающая сила и всепроникающая способность бегущей строки новостей сопоставима лишь с аналогичной способностью денег. Происходя из разнородных полей сущего, эти медиаторы неуклонно движутся навстречу друг другу, их сближение является важнейшим источником когерентности континуума – той обретенной умопостигаемости или вторичной простоты, которая воистину напоминает чудо рефлорации. Уже отмечалось, что современная реклама все больше подражает выпуску новостей, а сами новости, в свою очередь, содержат все больше рейтингов и котировок. Агрессивная современная медиасреда успешно переваривает содержащиеся (еще) в ней вкрапления разнородности и не менее успешно разъедает внешнее пространство традиционных социальных форматов. Для понимания происходящего уместно привести краткий исторический очерк.
Сегодняшнее всевластие СМИ представляет собой один из параметров расширяющейся Вселенной, начальное состояние которой поддается ретроспективному отслеживанию от нулевой точки. Причем эта нулевая точка, в свою очередь, имеет собственную историю – впрочем, это отдельная тема[138]. Изначальным квантом медиасреды является газета, первичный недифференцированный атом, появление которого взорвало традиционные способы трансляции знания и соответствующие социальные уклады. Мир, непрерывно передающий репортаж о самом себе, есть следствие этого продолжающегося взрыва, запустившего реакцию синтеза новой имманентности, синтеза ПСК. Тем не менее целое (медиасреда) в основных чертах остается соприродным исходному кванту, некой типичной газете. Медиасреда, в сущности, и есть газета, тиражируемая вглубь во все слои публичного, – газета, легко меняющая носителей, точнее, приумножающая набор носителей собственного содержания, но сохраняющая при этом изначальную определенность. Не следует забывать, что и радиогазета, и электронная газета все же остается прежде всего газетой отнюдь не только из-за простой инерции словоупотребления. Сейчас стал уже общим местом тезис МакЛюэна «media is a message», и содержащаяся в нем доля истины явно перекрыла остальные доли, породив ложную топику рассмотрения. Перефразируя Хайдеггера, уместно отметить, что сущность газеты не есть нечто бумажное (хотя дешевизна носителя, безусловно, сыграла свою роль), она столь же метафизична, как и сущность техники. Ибо уже в «простой газете» конца XVIII века есть то главное, что впоследствии прорывается во все измерения социума.
Попробуем ухватить это сущностное ядро, оттолкнувшись от негативных определений. Как это часто бывает, специалисты по истории журналистики склонны вести родословную своего предмета с незапамятных времен. Как правило, переписывают утверждение Людвига Саламона, одного из основоположников дисциплины: «Зачатки периодической печати мы находим еще в Древнем Риме. Приказ Юлия Цезаря об опубликовании протоколов сенатских заседаний, так называемых acta senatus, положил основу регулярному обнародованию политических сообщений»[139]. Некоторые признаки периодической печати – регулярность, публичность, присутствие официальной хроники – имеются в этих «актах», но это признаки внешние, на уровне сходства человека и манекена. Собственно «газетность», выражаясь языком Платона, здесь не присутствует[140], агентом производства тут был скорее гонец или глашатай, чем журналист.
Можно вспомнить и такой жанр, как донесения, подборка которых ежедневно зачитывалась тому или иному суверену. Уместно ли рассматривать эти подборки донесений как журналистику, по крайней мере журналистику для одного? Не в большей мере, чем разведывательные донесения, передаваемые в Центр. С другой стороны, лубочные картинки и комиксы в самом широком смысле этого слова тоже появляются задолго до газет, и у них есть некоторая периодичность, преимущественная приуроченность к ярмаркам и праздникам. Руморологическая природа лубочных картинок выдает в них родственное прессе начало и даже позволяет считать комикс первой, «пробной» аватарой газеты подобно тому, как гипотетическая «кремниевая жизнь» предшествовала органической жизни на основе углеводородов… И все же комикс и лубок не имеют сами по себе прямого отношения к явлению газеты, они соотносятся с газетой так же, как граффити и надписи на заборе.
Комиксу не хватает настоящей разнородности – но полярность уже налична. Есть и открытость, подходящая топика, пригодная для синтеза многообразного, говоря словами Канта – для принудительного синтеза под давлением. Просто представим себе, что и указы императоpa, и лубочные картинки проецируются в единую общую плоскость, где и обретают форму устойчивого систематического соседства. Сюда же подвёрстываются и проекции других лучей, отклонившихся в своем назначении: в конце концов весь свет Просвещения собирается на одной бросовой площадке – в отличие от декартовского lumen naturalis, естественного света разума, сохраняющего собственную устойчивую траекторию по крайней мере до поры до времени. И вот, когда современной читатель в пределах одной страницы или, если угодно, одной плоскости обнаруживает и заявление президента, и сенсационное открытие в сфере производства купальников и когда подобное соседство не вызывает у него удивления, – тогда и только тогда он действительно имеет дело с газетой. При выполненном неразборчивом синтезе многообразного феномен предстает во всей своей чистоте: теперь он может быть переброшен на любой другой носитель или редуцирован к бегущей строке – речь все равно будет идти о газете.
Такова простейшая схема, быть может, первого принудительного синтеза имманентности: когда газета уже существует в качестве регулятивного принципа, дальнейшая разнородность утрамбовывается в континуум с большей скоростью. В действительности даже исходная матрица «газетности» не может ограничиться всего лишь одной полярностью. Свою площадь по соседству обретает и бизнес (коммерция), причем в двух ипостасях: как реклама и как аналог современной рубрики «Деловое обозрение». Медиатор денег, конечно, и сам по себе является эффективным скоросшивателем имманентного, но как знать, быть может, без систематического газетного профанирования коммерция могла бы уклониться в мистическое направление[141]. Дискурсы, встреча которых была невозможна, случайна или особо оговорена (вроде встречи сеньора с его садовником), сошлись в регулярно возобновляемом усилии синтеза. Совпав на плоскости, они с неизбежностью приняли плоский характер. Результат совпадения, газета, тем самым предстала безусловной новацией и даже Новацией с точки зрения самых существенных параметров социальности. Каждый из этих дискурсов существовал сам по себе, не нарушая права другого, не посягая на стабильность сложившихся человеческих установлений. Инновационный синтез произошел именно при их принудительном сопряжении, обращаясь к языку экспериментальной физики, можно сказать, что реакция синтеза осуществлялась «в вакууме и под давлением».
Следует отметить, что техника не играла решающей роли на старте этого процесса; достаточно отметить, что книгопечатание, которое технически сложнее «газетопечатания», возникло на полтора столетия раньше, и если книгопечатание действительно произвело революцию в трансляции знания и культуры в целом, то печатание газет в типографии стало лишь одним из факторов в формировании Газеты как идеи – безусловно, важнейшей идеи современности.
Результат проекции на плоскость, разумеется, вызывает в памяти ключевое слово «профанация». С точки зрения политических актов, осуществляемых сувереном, с точки зрения священника или жреца, профанация очевидна: между священнодействием жреца и гороскопом на неделю, между совершаемой в храме литургией и газетной рубрикой «Слово пастыря» лежит пропасть. Куда любопытнее другое – то, что и лубок как органическая часть народной смеховой культуры претерпевает по-своему не меньшую профанацию. На газетной плоскости лубок утрачивает свой озорной, бесшабашный характер, подвергается некоторой стерилизации и одновременно придает «похабный оттенок» соседним дискурсам. То есть его собственная подлинность преобразуется в неподлинность окружения.
Профанацию можно, конечно, наделить и более пристойным именем – например, назвать ее популяризацией и даже собственно просвещением. В любом случае имеется в виду принципиальный антипрофессионализм: опираясь исключительно на газеты, нельзя стать профессионалом ни в одном деле, даже овладение профессией журналиста требует выхода за пределы газетной плоскости. Такое положение дел, однако, вовсе не означает, что из газет нельзя совсем ничему научиться, ведь эта проекция на плоскость включена в матрицу транспарации, притом как решающее звено. Прежде всего следует обратить внимание на чистый выигрыш в скорости, который можно рассматривать как прибыль от совокупных экзистенциальных инвестиций. Ни один прежний круговорот знания не обладал даже подобием такой скорости – соответственно, профанация, помимо всего прочего (а может быть, и прежде всего), есть радикальная «очистка» элементов метаболизма, позволяющая разогнать их вплоть до появления новой реальности, до вихревого рождения транспарантной вселенной. Сходные процессы уже и до этого происходили в сфере дистрибуции вещей, ведь обретение вещью товарной формы вполне можно рассматривать как ее профанацию. Товарная форма разгружает вещь от всех отягчающих обстоятельств – от мемориальной составляющей, от условий ритуального соответствия социокоду, от паузы выбора направления движения в связи с неоднородностью адресатов[142]. Разнородные и «разнозалегающие» пласты вещей точно так же становятся товарами в общем потоке, как разнородные дискурсы посредством проекции на газетную плоскость обретают общий статус медиапригодности. Схождение этих процессов образует работающий скоросшиватель Транспарации.
Таким образом, мы вновь оказываемся перед неким эмпирическим событием или, если угодно, перед не слишком акцентированным историческим процессом, способным выступить в роли метафизического аргумента, и притом решающего. Обратимся к Луи Альтюссеру, одному из наиболее проницательных теоретиков марксистского лагеря. Пытаясь эксплицировать методологическую новацию Маркса (марксистский вклад в диалектику), философ пишет: «Подобно простому труду, и индивидуальный производитель или индивид как элементарный субъект производства, которого мифы XVIII века помещали у истоков экономического развития общества, – это экономическое cogito в самой своей видимости, появляется лишь в развитом капиталистическом обществе, т. е. в обществе, которое довело до наибольшего развития общественный характер производства. Точно так же и обмен как простое всеобщее par excellence во всей своей интенсивности проявляется только в наиболее развитых состояниях общества. Эта категория отнюдь не является господствующей при всех экономических отношениях. Таким образом, простота не является изначальной: именно структурированное целое придает смысл простой категории, и именно оно в результате долгого процесса и в исключительных обстоятельствах способно произвести экономическое существование определенных простых категорий»[143].
Альтюссер здесь со ссылкой на Маркса излагает вещи, которые стали вполне очевидными лишь после вступления процессов Просвещения в стадию Транспарации. Продолжим цитату: «Знаменитое "Введение к критике политической экономии Маркса" – это одно долгое доказательство следующего тезиса: простое всегда существует только в сложной структуре, всеобщее существование простой категории никогда не является изначальным, оно появляется только в результате долгого исторического процесса как продукт чрезвычайно дифференцированной общественной структуры, – поэтому в реальности мы никогда не имеем дело с чистым существованием простоты, мы сталкиваемся лишь с существованием конкретного, т. е. сложных, структурированных вещей и процессов. Именно этот фундаментальный принцип совершенно несовместим с гегелевской категорией противоречия»[144].
Знакомство с тенденциями медиасреды дает нам основания подытожить размышления Альтюссера и отчасти скорректировать его мысль. Конечно, утверждать, что «простое всегда существует только в сложной структуре», что «всеобщее существование простой категории никогда не является изначальным», довольно опрометчиво и даже комично, но вот разделить недифференцированное смутное начало и вторичную синтетическую простоту — это действительно важный методологический ход: многие, и притом наиболее существенные, вещи очеловеченной вселенной появляются путем вторичного упрощения.
Взять, например, «простое товарное производство», оно, конечно, является простым элементом в составе развитой товаропроизводящей экономики: сложное можно разложить на составные элементы путем абстракции или деконструкции – но данный элемент в своей чистоте отнюдь не является исторически первичным. Неразвитость товарного производства есть знак только его несамостоятельности, а не его простоты. Тут можно вспомнить тотальный поэзис как первичную форму производства вещей, где это производство неотделимо от символической составляющей, от принадлежности ко всему универсуму архаической социальности; можно обратиться к эйкономии, когда производимые вещи достаточно скупо и дозированно поступают в товарообмен, а «главные вещи» и вовсе не подлежат отчуждению, повинуясь своему собственному неспешному метаболизму произрастания и угасания. Можно, наконец, рассмотреть такой типичный очаг хозяйствования европейского Средневековья, как монастырь: вплоть до XV века «производственные мощности» монастырей вырабатывали около двух третей совокупного общественного продукта[145]. Классическое натуральное хозяйство в монастырских условиях включало в себя фрагменты товарного производства, но, разумеется, это производство отнюдь не было элементарным прежде всего потому, что оно не было самостоятельным. Сам труд на монастырских полях и огородах (равно как и в мастерских) был органичной составной частью всего литургического процесса; аскеза и послушничество являлись важными движущими силами трудового процесса, а специфические законы «чистого» товарного производства, напротив, могли носить факультативный характер.
Аналогичным образом дело обстоит и с «простым» гомогенным государством, ведь и оно как бы кристаллизуется путем вымывания бесчисленных осложнений и разнородностей. Современное гомогенное контрактное государство является таковым потому, что оно гомогенизировано в процессе истории, приведено к общему знаменателю и теперь, в принципе, может быть разложено на простые элементы – например, на отдельные ветви власти, соотношение которых подчиняется социально-политической рациональности.
Еще одним примером консолидации простого всеобщего из предшествующей формации может служить наука. Лишь школьные учебники или книжки для почемучек и любознательных рисуют дело так, будто наука развивалась из набора очевидностей здравого смысла, – действительная наука возникает из усечения магически-эзотерической формации знания и уж затем сама порождает себе более подходящего прародителя, какую-нибудь математическую смекалку. Ученые, впрочем, охотно верят в этого мифического предка, с удовольствием находя в его обыкновениях свои собственные черты. В то же время следует признать, что некое «занимательное естествознание» для любого незамутненного рассудка действительно легко извлекается из зрелой науки и оказывается очень неплохим введением в нее.
Если оставить в стороне синтез линейного времени, исследование которого выходит за пределы данной работы, то сам континуум, феномен ПСК, предстает в качестве наиболее грандиозной редукции, осуществленной на чудодейственном конвейере Просвещения – Транспарации, и проекция плоскости газетного листа поверх экзистенциального измерения присутствия есть один из решающих этапов производства современности. Присмотримся к нему еще раз, чтобы не упустить ни одного из существенных аспектов.
Итак, знание как «эпистеме», а не как «докса» должно было стать предметом регулярного, однодневного (одноразового) выброса, стать массовым продуктом с чрезвычайно коротким периодом полураспада. Весь вопрос в том, как, когда и почему стало не жалко тратить такое количество усилий для производства сорного, заведомо бросового знания. Ведь во времена, скажем, Фомы Аквинского было жалко времени даже на то, чтобы подобную руморологию просто озвучить[146], уделить ей часть своего присутствия, а не то что допустить в канал публичной трансляции. Но как только инерция ежедневного грандиозного выброса устоялась, воспользовавшись так удачно подвернувшимся дешевым носителем, сделанной из тряпья бумагой, все грядущие отслоения стали не только возможными, но и в какой-то степени неизбежными. Между изобретением радио и проекцией медиасреды на диапазон радиоволн прошло уже не более пятнадцати лет, а Всемирная паутина сплеталась как медиасреда изначально. Уместно еще раз констатировать, что топология медиасреды включает в себя некий константный рельеф: рубрикацию, тематизацию, совокупность ограничений по вместимости и обновляемую поточную часть – руморологические токи высокого напряжения. Обычно в данном случае иллюстративным материалом служит интернетовский сайт с бегущей строкой – впрочем, зацикливаться на этом сегодняшнем видеообразе необязательно. С помощью той же компьютерной графики можно представить себе стопку газет, обращенных к наблюдателю первой страницей. Если отобразить теперь ускоренную хронопроекцию десятилетней виртуальной подшивки, можно увидеть, что ячейки рубрик остаются примерно постоянными или меняются медленно и плавно, а сочетания буковок внутри колонок меняются быстро, просыпаясь подобно песку в песочных часах.
Такая диссипативная структура бросового, предназначенного к ежедневному всесожжению «знания» получается настолько прочной, неразрушимой, что ускоренная смена носителей оказывается не в состоянии (вопреки МакЛюэну) существенно повлиять на ее простую формулу. Эта формула проступает на любом покрытии – от бумаги до электромагнитных волн. Собственно, мы имеем здесь дело с онтологией новой социальности, ПСК, и процесс транспарации, в ходе которого становится прозрачной сама онтология, поднявшаяся к кромке происходящего (благодаря соскребанию и вытравливанию всех защитных слоев), еще будет проанализирован особо.
Кое-какие вещи относительно устройства медиасреды становятся яснее, если обратиться к ее младшему брату, точнее, к младшей сестре – сфере SMS-сообщений. В этом случае особенно трудно не обратить внимания на вопиющий контраст между техническим совершенством носителя сообщения и редкостной примитивностью содержимого; журналистика в чистом виде обнажает этот контраст не так явно.
Экстраполируя тенденцию константности медиасреды во всех ее проявлениях, придется, пожалуй, переосмыслить и такое давнее чаяние человечества, как передача мыслей на расстоянии. В каком-то смысле переход на этот новейший носитель уже включен в повестку дня. Встроенные чипы и микронаушники, вероятно, позволят подключить передаваемые сообщения к «внутреннему голосу» и внутреннему слуху, и тогда проблема локализации источника зова (извне или изнутри) уже не будет иметь столь очевидного решения, по-видимому, с новой остротой предстоит поставить фрейдовский вопрос о всемогуществе «мысли», приходящей как бы извне, причем начинать придется с неизбежности кавычек, окружающих теперь «мысль».
Ведь мысли, которые способны передаваться на расстоянии в уже привычном скоростном режиме бегущей строки, заслуживают это имя ничуть не больше, чем совокупный продукт журналистики заслуживает имя знания. Если уж медиасреда не претерпела существенных изменений при переводе ее с бумажной на электронную поверхность, нет никаких оснований полагать, что она сможет или вознамерится сообщить нечто иное при обращении непосредственно к внутреннему голосу и слуху. В очередной раз срабатывает величайшая превратность сущего: вот, в результате неимоверных усилий теоретической и технической мысли становится наконец возможной непосредственная передача мысли на расстоянии. Все принимаются лихорадочно пользоваться этой возможностью – и что же? Через самое кратчайшее время человечество ставит перед учеными новую задачу: во что бы то ни стало и как можно скорее создать блокиратор, прерывающий передачу мысли на расстоянии. Ибо с поразительной легкостью передаваемые мысли не стоят и выеденного яйца, но от этого число желающих осчастливить ими человечество не уменьшается: ведь и знаменитое не отличающееся особой содержательностью сообщение «Здесь был Вася» никогда не испытывало особого недостатка в авторах…[147]
Мысль, уложившаяся в формат SMS, по справедливости должна именоваться «SMSсль», a разница между мыслью и SMSлью такая же, как между государем и «милостливым государем». Важнейшая проблематика ego cogito здесь остается даже не затронутой. Ведь введение в состояние «я мыслю» является чем-то единичным и эксклюзивным даже тогда, когда к делу прилагается максимум педагогической помощи, то есть когда мысль пытаются не просто передать, а вживить, раздуть подобно тлеющий искорке. То есть мысль, не сумевшая на расстоянии сделать другого субъекта тоже мыслящим, теперь сближена настолько, что, кажется, ей некуда деваться. И все же она ускользает, не производит вспышки ego cogito – скажем так, слишком часто ускользает. Ускользает и собственная мысль, едва успевшая родиться, – когда нет никакого расстояния – как если бы интенция развоплощения была атрибутом этого удивительного феномена.
В сущности, о «передаче мысли на расстоянии» речь может идти примерно в том же смысле, как о «передаче прогулки на расстоянии», – если уж вспомнить контекст полемики Декарта и Гоббса. Труд мысли, труд по ее «передаче», усилие ее собственной длительности – все это, в принципе, одно и то же, процесс не может быть минимизирован без ущерба для содержания. Кстати, не так просто выделить и содержание мысли в отличие от самой мысли – и здесь опять же на ум приходит конспект прогулки в отличие от самой прогулки… Легкомыслие может вызвать к себе снисходительность, но вряд ли кто-либо сочтет его интеллектуальным достоинством. И поскольку пример самого первого бумажного носителя руморологии, носителя сведений, в отличие от знаний, ничуть не потускнел при переходе к новейшим, модернизированным носителям того же рода, нет никаких оснований полагать, что трансляция, непосредственно подсоединенная к контуру внутреннего голоса, окажется чем-то воистину чудесным, чем-то принципиально иным, нежели информационный медиатор ПСК. Все, что поместилось на ленте mass media, поместилось там потому, что было предварительно «оцифровано», – и, стало быть, все, не поддающееся оцифровке, было отброшено: труд обдумывания, шлейф происхождения, опыт мышления этой мысли другими мыслящими…