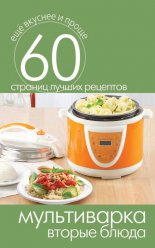Собрание сочинений в одной книге Лондон Джек

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
Джек Лондон. Страницы биографии
Джек Лондон – знаковая фигура американской и мировой литературы на рубеже XIX и XX веков. Напечатав свой первый рассказ в 1893 году, писатель очень быстро стал едва ли не самым лучшим и популярным писателем Америки. В 1910-е годы его слава быстро распространилась по всему миру. Переводы произведений Лондона появились и в России. Даже во времена постреволюционной разрухи его издавали у нас немыслимыми для той поры тиражами. Интерес к творчеству этого самобытного автора не угасает и в наши дни.
Чем же и каким образом простой американец, рубаха-парень, заслужил такую славу?
Как потом будут острить литераторы, известность Джек Лондон приобрел еще до рождения. Правда, на этом этапе скандальная «популярность» связана даже не с ним, а с его экстравагантными родителями. Мать писателя Флора Уэллман, дочь предпринимателя из штата Огайо, приехала в Сан-Франциско (штат Калифорния) зарабатывать уроками музыки и, главное, модным в ту пору спиритизмом. Неуравновешенная, эксцентричная любительница эзотерики познакомилась с известным в стране профессором магии (сведущим, впрочем, и в других науках, в том числе математике и литературе) неким У. Г. Чени (Чани), с которым одно время жила в гражданском браке.
Почувствовав охлаждение к ней профессора, Флора, ожидавшая в то время ребенка, организовала публичный скандал, симулировав попытку самоубийства с помощью старого заржавленного револьвера. Прибывшим на место событий журналистам она сообщила, что Чени настаивал на избавлении от ребенка, чем и довел ее до полного отчаяния. С ее слов эта версия появилась в падкой на сенсации местной газете «Кроникл».
Ославленный в печати профессор-прорицатель и астролог-литератор в июне 1875 года навсегда покинул Сан-Франциско и впоследствии ни разу не встретился со своим сыном, который все же попытался с ним связаться. У. Г. Чени ушел из жизни в самом конце XIX века, так и не прочитав ни одного произведения Джека Лондона.
12 января 1876 года у Флоры, жившей в ту пору в пригороде Сан-Франциско Эллен-Хилле, родился сын, которого назвали Джоном Гриффитом, в быту – Джеком.
Однако под «отцовской» фамилией мальчику суждено было прожить всего восемь месяцев. Флора по-прежнему вела светский образ жизни, а кормилицей и нянькой Джека стала медицинская сестра, негритянка Дженни Принстер.
Род матери Джека происходил из Уэллса.
Валлийцы не меньше ирландцев (У. Г. Чени – ирландец) гордятся своим происхождением и предприимчивостью, считая себя также костяком американской нации.
В свое время, по семейным преданиям, бабушка Флоры миссис Джоэль, вдова валлийского пастора, в 1800 году отправилась в Новый Свет одна с четырьмя детьми в поисках счастья. Один из них – отец Флоры Маршалл Уэллман (дед писателя) поселился в городе Мэслон (штат Огайо) и прославился своими изобретениями, одно из которых – угольная топка – названо его именем. Там же жила тетка Джека Мери Эвергард с сыновьями.
Флора, получившая неплохое гуманитарное и музыкальное образование, в 16 лет ушла из дому, поселилась в предместье Сан-Франциско и стала самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Джек появился на свет, когда его матери было уже 30 лет.
Своих публичных выступлений и увлечения спиритизмом Флора не прекратила даже в связи с рождением сына. Вскоре к ней обратился за «психологической помощью» некто Джон Лондон, потерявший не так давно любимую жену и сына. Джон оказался отцом десятерых детей и прекрасным человеком. Он любил своего приемного сына не меньше, чем оставшихся от первого брака двух несовершеннолетних дочерей и сына младшей из них Джонни Миллера, впоследствии усыновленного Флорой. Но главное то, что мальчик Джек так никогда и не почувствовал себя пасынком в семье Джона, что было чрезвычайно важно для его развития и становления характера.
Старшая из сестер Элиза, заменившая мальчику няньку, хотя была старше его всего на восемь лет, стала его преданным другом на всю жизнь.
В поисках лучшей жизни семья то и дело переезжала и останавливалась в маленьких провинциальных городках, разбросанных у залива Сан-Франциско (Окленд, Аламеда, Левермор), а порою и в их окрестностях, где отец занимался фермерством и перепробовал немало других профессий. Джон Лондон не обладал крепким здоровьем – он был ранен еще на Гражданской войне 1861–1865 годов, где воевал на стороне северян. Его приемный сын рос в атмосфере трудовых будней и многое научился делать собственными руками. Впоследствии юноша мог самостоятельно связать плот, построить лодку или хижину из лесных стволов, что ему потом очень пригодилось в Клондайке. С десяти лет Джеку приходилось зарабатывать себе на жизнь: вставая за два часа до уроков, доставлять газеты подписчикам, подвозить лед на рынке по субботам, устанавливать кегли в местном кегельбане по воскресеньям и др. Семья нередко терпела нужду – чаще всего по вине взбалмошной и склонной к невероятным фантазиям матери. Отец не раз был на грани банкротства, особенно когда Флоре приходила в голову какая-то «нелепая» мысль.
Часто семейство, казалось бы, достигшее сносного материального положения, в очередной раз оказывалось на мели. Иной раз пожар уничтожал сооруженные с таким трудом семейные и пансионатные постройки. Приходилось все начинать с нуля, менять местожительство, чтобы не платить по счетам.
Джон Лондон стойко переносил все невзгоды. В последние годы он занимался мелкой розничной торговлей, зарабатывая гроши. В 1891 году глава семьи попал под поезд и был сильно искалечен.
В 1892 году Джек окончил начальную школу и начал работать на консервном заводе. За 10-часовой, а иногда и 12-часовой изнурительный труд ему платили всего доллар.
Хотя подросток и оставил надежду на получение сносного образования, он был одним из самых уважаемых мальчишек – читателей библиотеки в Окленде.
Его круг чтения стала контролировать и тактично корректировать поэтесса и очеркистка мисс Айна Кулбрит, лауреат литературной премии местного значения. К этой доброжелательной и образованной женщине Джек сохранил на всю жизнь самые теплые чувства. Здесь же несколько позже начал работать штатным библиотекарем и такой замечательный человек, как Фред Джекобс, который оказал на будущего писателя очень большое влияние.
Однажды Джек, заняв триста долларов у своей кормилицы, решил одним махом покончить с нищетой и «скотской жизнью». Они с приятелем купили шхуну «Рэззл-Дэззл» – «Пирушка» (прообраз «Ослепительного»). Шестнадцатилетний хозяин шхуны собрал команду «опытных пиратов». У каждого из этих подростков была своя лодчонка. Набив руку в управлении такими суденышками, «устричные пираты» пошли на «дело».
Их задача – забраться в чужие садки, наловить устриц в заливе, на отмелях, взятых в аренду предпринимателями, в основном, служащими железнодорожных компаний, набить ходким товаром мешки и под прикрытием темноты доставить его к рассвету перекупщикам на рынок или хозяевам мелких салунов в Сан-Франциско. При этом надо было еще ускользнуть от сторожей и хозяев, а также не попасться в руки речного патруля. Такой промысел считался самым неблаговидным делом. Но на нем удавалось заработать больше, чем на фабрике, хотя при этом можно было нарваться на разъяренных «владельцев отмелей», лишиться шхуны, а то и жизни. Иногда «устричные пираты» дерзко нападали на китайские джонки, часто тоже пиратские, чтобы продемонстрировать удаль и превосходство людей белой расы.
Практически вся территория США была в свое время частично захвачена у различных индейских племен, а частично куплена у испанской короны. Поэтому в приверженцах теории расового превосходства в Сан-Франциско, южном форпосте страны, не было недостатка. Молодость и жажда риска брали свое, моральные проблемы не слишком волновали юношей. Доблесть их выражалась в кровопролитных драках, в умении постоять за себя, а главное – перепить противника на спор в салуне «Шанс первый и последний». Тут Джек, молодой красивый парнишка, выиграл однажды пари у самого известного в тех местах горького пьяницы Джонни Хейнголта. Отчаянный боец из юношеской команды – Джордж Сатана Нельсон, дравшийся особенно дерзко и в кровь раздиравший лицо противника, сначала получил под ребра нож, а через два года был убит выстрелом в голову. Такая же участь постигла всех остальных приятелей Джека. Судьба хранила его одного.
Отчаянные пираты, как и их Устричный Король – «капитан Джек», смогли залатать кое-какие дыры в семейном бюджете, а сам Джек даже полностью расплатился с няней Дженни, чего она вряд ли от него ожидала. Но в какой-то момент устричный промысел оказался просто невозможным, поскольку за пиратов хорошенько взялись.
Джек на своем шлюпе совершил путешествие в городок Сакраменто, расположенный также в одном из заливов Тихого океана. Там на пляже он познакомился с шайкой «отбросов», или босяков, которые приняли его в свою «толкучку», а некто по имени Боб даже взял под свое покровительство. Отсюда и очередная кличка Джека – Морячок («Сейлер Кид»). Юноша увлекся босяцкой романтикой и готов был отправиться с ними в «Дорогу» (у американцев это нечто вроде путешествия бомжей), лишь тяжелое положение семьи удержало его от продолжения безумных странствий, где он приобрел уже немалый жизненный опыт. Здесь же Джек получил высшую квалификацию бродяги – «Хобо», или «Человек дороги». Однако пришлось вернуться домой и снова заняться устричным пиратством. Но тут случилось несчастье – шхуну Джека угнали и «разбомбили» так, что когда ее удалось отыскать в океане, пришлось продать то, что от нее осталось, всего за 20 долларов.
Ловкость, отвага Джека и его друзей не остались незамеченными в Сан-Франциско. Его уже начали здесь величать Морским Принцем или Устричным Королем. А один из пожилых работников речной охраны, таможенник, предложил юноше поступить на службу в речной патруль, где и внештатные сотрудники находились под охраной закона. Тут также не раз приходилось рисковать, увертываясь от ножа или пули. Это хорошо описано в рассказе «Абордаж отбит» и в сборнике «Рассказы рыбачьего патруля» (1905). Основной нерв в «Рассказах рыбачьего патруля» – преследование браконьеров, причем не менее интересен их душевный мир – дерзость и коварство, состязание в хитрости и изобретательности. Такое занятие не исключало и применение оружия в безвыходном положении, хотя те и другие участники «соревнований» старались этого избежать.
Море и тяжелая поистине собачья служба закалили характер Джека. Но были и явные издержки. На такой должности опять надо было работать как следует, драться до крови и пить до полусмерти, подтверждая репутацию пока еще начинающего Морского Волка, или Морского Принца.
Только книги спасали юношу от отчаяния, рассказывали о другой жизни. И хотя Джек рано прочел Гёте, Смоллета, Бальзака, Толстого, Тургенева, Золя, эти книги едва ли стали его художественным ориентиром. Юношу больше влекли занимательные морские приключения Р. Стивенсона, а также профессионального моряка Г. Мелвилла – «Тайпи» и «Моби Дик», «Белый Бушлат». Но самым любимым автором оказался Р. Киплинг, совместивший яркую художественную изобразительность с «революционной» для того времени философией ницшеанства – новыми суждениями о сверхчеловеке и превосходстве белой расы. В книгах этого самого популярного в англоязычном мире автора Джек находил духовную поддержку. Приобретя некоторый опыт коротких радиальных переходов в окрестностях залива Сан-Франциско, а нередко выходя и в открытый океан, пылкий и красивый юноша решил испытать себя в настоящих морских походах и приключениях. В январе 1893 года семнадцатилетний Джек отправляется на шхуне «Софи Сюзерленд» к берегам Японского моря. Записался он матросом первого класса, что давало ему право стоять за штурвалом и получать высшую для моряка зарплату. Бывалые морские волки отнеслись к такому вызывающему поведению недоверчиво, но капитан Пит Холд, увидев его на вахте за штурвалом во время шторма, лишь одобрительно махнул рукой.
Уважение матросов Джек завоевал в кровавой схватке со шведом – гигантом Рыжим Джоном, который хотел на правах старшего заставить Морячка себе прислуживать. Однако тот, вскочив ему на спину, едва не выдавил наглому противнику глаза – по примеру своего друга Сатаны.
Джека любили многие. Он отличался веселым, неунывающим нравом, великолепным чувством юмора, мастерством рассказчика, что особенно ценилось в трудных и опасных морских походах. Шхуна была, по существу, пиратским суденышком, которое охотилось на морских котиков в русских и японских территориальных водах. Убив и вытащив на палубу обитателей прибрежных вод, котиков обдирали прямо тут же и, выбросив шкурки на просушку, отдавали тушку на растерзание морским хищникам-акулам, следовавшим за шхуной. Работа грязная, мужская – палуба залита кровью и жиром, в воздухе – запах освежеванного мяса и жира, но Джек воспринимал эту бойню с неизменной белозубой улыбкой. Поистине мужская работа. Платили за такую адскую работу не так уж много – сорок долларов в месяц. А связана она была также с немалым риском. Можно было сесть на мель, затонуть во время шторма, попасть в руки русского пограничного патруля, как в рассказе «Исчезнувший браконьер», где похожий на автора несовершеннолетний герой, взятый русскими в качестве заложника, перерезает буксирный канат, спасая от тюрьмы и потери добычи команду собственной шхуны.
Вернувшись в августе 1893 года с берегов Берингова моря в Окленд, Джек Лондон, желая побыть какое-то время на суше и поддержать семью, поступает на джутовую фабрику. Изнурительный труд по 10–12 часов, потогонная, по сути, конвейерная система приносили жалкую зарплату – 10 центов в час, или один доллар в день. Было над чем серьезно задуматься. Заметив грустное выражение на лице уставшего кормильца-сына, его мать Флора посоветовала ему поработать головой – «пораскинуть мозгами». Ведь его отец и дед были интеллектуалами, выжившими на Диком Западе исключительно благодаря своим умственным способностям. Но у Джека не было необходимого образования. И тогда мать предложила ему заняться литературным творчеством, услужливо подсунув местную газетку «Морнинг Колл», объявившую конкурс на литературное произведение. Кстати, художественными рассказами зарабатывал иногда на жизнь и его отец У. Г. Чени.
И Джек Лондон попытался рассказать читателям о своей работе на зверобойной шхуне «Софи Сазерленд» у берегов Японии и России. Его рассказ «Тайфун у берегов Японии» (2000 слов) не был выдающимся, остросоциальным произведением – он поведал людям о борьбе с беспощадной дикой стихией моря и об умении моряков противостоять этой стихии. Рассказ отвезла в редакцию сама Флора. 12 ноября 1893 года он был опубликован. Жюри отметило «масштабность, глубину проникновения и выразительность, которые отличают молодого художника». Автор занял первое место на конкурсе, опередив двух студентов-гуманитариев Калифорнийского и Стенфордского университетов, и получил первый литературный гонорар – премию в 25 долларов. Остальные морские рассказы не были приняты ни этой газетой, ни другими изданиями. Любопытно, что Джек Лондон, прежде чем стать популярным автором, получил 650 отказов от различных редакций.
1893 год – время финансового кризиса, через два года захватившего и Россию. Этот период исторической жизни известен и тем, что во всем мире резко увеличилось число безработных и босяков.
Отчаявшиеся люди искали выход. Верхи, как всегда, были безразличны к их бедам и страданиям. Однако в Англии, несколькими годами раньше, чем в Америке, нашелся боевой генерал В. Бутс, провозгласивший создание Армии Спасения. Генерал призывал бедняков не к борьбе с властями, а к принятию неотложных мер по улучшению быта рабочих, прежде всего тех, кто остался без работы и скатился на дно. Это были пока еще пресловутые экономические требования, слабо связанные с идеями марксизма и социализма, но те и другие явления имели общий корень. Армия Спасения сотрудничала с властями.
Подобная организация возникла и в Америке. Сразу два американских «генерала» – Кокси и Келли объявили о создании Рабочей армии (из числа безработных) и о походе на Вашингтон с целью использовать всю эту массу людей как трудармию на строительстве железных дорог. Оба лидера собирались добиться в Конгрессе выделения пяти миллионов долларов на рабочие нужды.
Джек Лондон, без гроша в кармане, постепенно проникаясь идеями социализма, решил присоединиться к участникам марша, подговорив поехать с собой и своего друга Фрэнка Дэвиса.
Армия «генерала» Келли тронулась в путь 6 апреля 1894 года. Однако Джек и его друг опоздали к отправлению товарного поезда и решили догнать остальных по дороге на Восток. Добравшись до Сакраменто «зайцами» в «слепом» товарном вагоне, друзья узнали, что «генеральский экспресс» уже отправился дальше. Фрэнк вернулся в Окленд, а неугомонный Джек со своей записной книжкой решил продолжать «индивидуальный поход» обычным для бродяг способом.
У него уже был опыт дорожного странника, полученный пару лет назад. Сдавшим экзамен на настоящего Рыцаря Дороги считался тот, кто пересечет гряду Сьерра-Невада на площадке или внутри «слепого» вагона.
Армию Келли Джеку удалось нагнать, когда он окончательно замерз после преодоления знаменитых Скалистых гор, находясь во время бурана на открытой площадке вагона. В товарном вагоне, где разместились 84 «борца за права рабочих», нельзя было протолкнуться. 85-й пассажир – Джек, наступив кому-то на руку, попал в «молотилку». Его долго швыряли на чьи-то головы и ноги, награждая увесистыми тумаками, пока в темноте он не обнаружил крохотное свободное пространство, где можно было кое-как устроиться на соломе.
В таких сообществах ценились «хорошие парни» и смышленые, а порой и действительно одаренные рассказчики душещипательных историй из жизни. При этом разоблаченное вранье, как и косноязычие, каралось чаще всего побоями – той же «молотилкой».
И Джек не раз признавался потом, что такого количества великолепных историй ему не доводилось больше слышать никогда в жизни. Элемент авантюризма, таившийся в его индивидуалистической натуре, время от времени вспыхивал, как затаившийся уголек.
В штате Айова жители восторженно встречали участников похода. Трудармейцы разбили палаточный городок, разделившись на воинские отделения, взводы, роты. Джек попал в арьергардное подразделение. Но тут возникли непредвиденные трудности.
Железнодорожные боссы, предупрежденные властями, перестали поставлять поезда для марша на Вашингтон. Пришлось обзаводиться лодками и плотами, чтобы из городка Де Мойн отправиться вплавь по течению знаменитой реки Миссисипи – по родным местам Тома Сойера… И тут Морячок проявил себя наилучшим образом. Выбившись со своим плотом и командой из девяти человек в авангард флотилии, он ухитрялся подчищать продуктовые запасы, приготовленные для всей армии. Лучшая обувь и одежда также доставалась этой десятке. Джек со своими напарниками стал истинным зачинателем великой идеи «автопробега» Остапа Бендера, с той лишь разницей, что орудовали «борцы за справедливость» на реке, а не на дорогах. Джек засыпал жителей прибрежных местечек невероятным количеством «правдивых историй», а пожертвованных слушателями продуктов, одежды и обуви хватило бы на целую роту. Дух авантюризма вновь захватил юношу.
В связи с ухудшением материальных условий бесшабашная Армия Келли вскоре стала разваливаться и разбредаться кто куда. Это был уже июнь 1894 года. Нельзя сказать, что пребывание в рядах Рабочей Армии оказалось столь уж бесполезным. Джек услышал здесь немало интересных ораторов и собеседников – социалистов, а также претендентов на «генеральскую должность» Келли, пытавшихся его сместить, что всегда характерно для таких вождей и движений.
Покинув Рабочую Армию, Джек взял курс на Канаду – ему хотелось увидеть знаменитый Ниагарский водопад. Когда остатки трудармейцев в июле того же года прибыли к месту условленной встречи в пригороде Вашингтона для слияния с Армией Д. Кокси, того уже успели арестовать: за вытоптанные цветы на газоне у Белого Дома.
Марш на столицу США провалился. Не лучше обстояли дела и у дезертировавшего из Армии Джека. В конце концов его арестовали в пограничном городишке Ниагара-Фоллс и посадили на тридцать дней в окружную тюрьму Эри. Это тоже была своеобразная школа жизни. По рекомендации тертого уголовника Приятеля его вскоре избавили от тяжелой работы – разгрузки пароходов в порту. Благодаря собственным связям с «бывалыми людьми» Джек стал коридорным, что позволило ему неплохо питаться и изучать нравы обитателей тюрьмы – от долгосрочных заключенных, в том числе и женщин, до сурового обслуживающего персонала.
Познакомившись с жизнью этих людей, будущий писатель уверился в том, что никакой справедливости добиться здесь невозможно. Однако короткое знакомство с жизнью люмпенов подкинуло ему немало увлекательных историй, а когда он стал их записывать, ему грех было жаловаться на отсутствие тем или сюжетов. Заинтересовавший Джека устный рассказ бывалого человека оставалось только «отделать», довести до литературного блеска.
Привычным для себя способом – в холодных вагонах-рефрижераторах, в товарняках, груженных углем, Лондон преодолел тысячу миль по Канаде и добрался до порта Ванкувер. Там он устроился кочегаром на пароход «Уматилла» и благополучно вернулся в Сан-Франциско.
У него осталась записная книжка – своеобразный дневник на 73 страницах, с карандашными записями. Этого материала хватило на сборник очерковых рассказов «Дорога», напечатанных журналом «Космополитен Мэгэзин» в 1907–1908 годах. Произведения, основанные на реальных происшествиях, окрашены не только оригинальными жаргонизмами. В них пробивается своеобразный юмор автора, не уступающий шуткам в рассказах О’Генри или в сценариях Чарли Чаплина. Дорога стала для писателя подлинной школой народной жизни.
Вернувшись домой после своих скитаний, 19-летний автор пока еще одного газетного рассказа пытается продолжить учебу в средней школе, где ему приходится общаться с четырнадцати-пятнадцатилетними юнцами и барышнями из приличных семейств, которые не выносят его развязных манер и предельно вульгарной, с их точки зрения, речи.
Джек Лондон и сам понимал, что ему надо как-то повышать свою культуру. Он публикует ряд очерковых рассказов в школьном журнале «Эгида», в том числе «Фриско Кид» и «Острова Бонин». В них ощущается огромный жизненный опыт, который и не снился его одноклассникам. Усиленно занимаясь самообразованием, этот практически взрослый школьник берет книги едва ли не на все шесть абонементов – он записал в библиотеку всех членов своей семьи. Тут ему пригодился как никто другой его давний знакомый библиотекарь Фред Джекобс.
Днем приходится подрабатывать – убирать в той же школе, что еще больше отдаляет школьных приятелей, и особенно приятельниц, от бывшего матроса и бродяги. Самообразованием Джек занимается по ночам, в ущерб сну. Его настроения той поры описаны в «Мартине Идене». Автору этой книги, как и его герою, катастрофически не хватало тепла и человеческого участия.
Однако в городе существует клуб интеллигентных людей – клуб имени Генри Клея, где обсуждаются самые острые вопросы жизни. Там Джек Лондон не только привлек к себе внимание как оратор и мыслящий человек, но и сошелся с хорошими друзьями – студентом Эдвардом Эпплгартом и его сестрой Мэйбл, готовившейся поступать на филологическое отделение Калифорнийского университета. Семья эта выведена в романе «Мартин Иден» под фамилией Морз.
Джек в ту пору стал известен выступлениями в школе и на общественном митинге как оратор социалистического толка. В полицейском участке его обвинили в произнесении речи на «несанкционированном митинге», арестовали и продержали в камере три дня, после чего ему пришлось уйти из школы. Там он проучился полтора года.
Оставив школу, Джек поступил на подготовительные курсы в Аламеде и очень скоро добился немалых успехов. Привычка и умение работать самостоятельно, в основном, по ночам, сделали свое дело. Двухгодичные курсы он закончил в пятинедельный срок, и руководитель заведения даже вернул ему деньги, полученные от сестры Элизы. Три месяца Джек потратил на самостоятельное образование, работая уже по университетской программе и используя освоенную на курсах методику высшей школы. В пригороде Сан-Франциско Беркли он без труда сдал вступительные экзамены в Калифорнийский университет и, получив на прокат лодку у начальника рыбачьего патруля, помчался в Сасунский залив промышлять лосося и отмечать с друзьями свою будущую победу, не став дожидаться официального зачисления.
Общение с природой укрепило его здоровье, и вскоре этот белокурый красавец и почти джентльмен, правда, с выбитыми в очередной потасовке передними зубами, появился во дворе университета. Знавшие его по оклендской школе однокашники увидели перед собой другого человека – с привлекательной внешностью, вполне приличными манерами, с правильной речью и искрометным юмором. Сказывалось, очевидно, и влияние Мэйбл Эпплгарт, с которой они теперь нередко уединялись на окрестных холмах, совершая загородные велосипедные прогулки.
Джек умел ориентироваться в обстановке и постоянно работать над собой. Отец Мэйбл был вовсе не ограниченным чиновником-буржуа, как родитель Руфи Морз, а геологом – начальником геологической экспедиции, человеком трудной профессии. Скорее всего он и стал прототипом инженера Д. Скотта в повести «Белый Клык».
…Достойно выдержав экзамены за первый семестр и втянувшись в учебу, Джек с огорчением почувствовал, что с университетом придется расстаться: Джон Лондон уже не мог прокормить даже Флору, не говоря уже о взрослом сыне. Поначалу автор увлекательных рассказов надеялся на литературные гонорары, но журналы не хотели его печатать. Пришлось оставить университет и зарабатывать на жизнь в прачечной Бельмондской военной академии, переглаживая бесконечные горы белья. Здесь не нужно было платить за жилье и квартиру, поэтому весь свой заработок Джек отдавал матери.
…Именно в эту пору в Штатах началась «золотая лихорадка». На купленной Америкой у России Аляске (1867) было обнаружено золото (1896), особенно большие запасы – в Клондайке. Стремление к наживе захватило разные общественные слои Америки. Однако за доставку туда нужно было заплатить немалые деньги, а при высадке на Аляску пройти своеобразный таможенный контроль и подтвердить свою платежеспособность, имея не менее пятисот долларов в кармане. Таких денег у Джека не было. Но тут ему вновь пришла на помощь сестра Элиза, заложившая собственный дом и отправившая в качестве компаньона на Аляску собственного престарелого мужа Джеймса Шепарда. Помимо всего прочего, понадобилось еще запастись продуктами, снаряжением, теплой одеждой. По иронии судьбы друзья отправились в дальнее путешествие на той же «Уматилле», где Джек в свое время работал кочегаром, возвращаясь из Ванкувера в Сан-Франциско. Отплыли они 25 июля 1897 года.
Для путешествия в суровых краях Джек решил сколотить собственную группу. Надежную компанию ему составили Фред Томпсон, шахтер Джим Гудман и плотник Слоупер. Высадившись в городе Джуно, они добрались на шлюпках до реки Дайи. Отсюда группе предстояло штурмовать Чилкутский перевал – самый крутой переход в этих местах.
Признав, что переход через Чилкут с грузом ему не по силам, Д. Шепард, как и многие другие слабосильные старатели, отправился в обратный путь на той же «Уматилле».
Джек остался со своими новыми друзьями. Через Чилкутский перевал он несколько раз пронес на плечах по сто пятьдесят фунтов груза, обгоняя при этом индейцев-носильщиков. Тут встретилось новое препятствие – озеро Линдерман. Для всех золотоискателей не хватило лодок, и снова люди разбрелись или повернули обратно. Но не такой оказалась четверка Джека. Срубив и распилив несколько сосен, они взялись за постройку двух плоскодонных лодок. Умение плотника Слоупера дополнили представления о надежных судах Джека Морячка, который руководил постройкой. Из брезента им удалось даже сшить паруса. Лодки были названы «Юконская красавица» и «Красавица Юкона».
Озеро друзья благополучно преодолели за несколько часов. Но у верховьев Юкона, в центре золотоискательства, Аппер-Айленде, их ждало новое испытание. Там скопилась целая флотилия застрявших у порогов лодок. Пороги под названием «Белая лошадь» для многих гребцов оказались непреодолимым препятствием. Лодки разносило в щепки на этих каменных глыбах. Однако искусство вождения судов помогло Джеку не только успешно переправить свои лодки, но и помочь какой-то супружеской паре справиться с порогами. Друзья заработали на переправе 3000 долларов. От других многочисленных предложений и рискованного заработка пришлось отказаться. Нужно было до наступления морозов попасть в Доусон, но свирепая зима застигла их в устье реки Стюард. К счастью, двигаясь в авангарде искателей золота и приключений, Джек и его товарищи успели занять брошенную кем-то из старожилов бревенчатую хижину и, приведя ее в жилой вид, поселились там на зиму.
Стоявшая на пути в Доусон хижина оказалась желанным приютом для многих горе-путешествеников. Кто тут только ни побывал – и полисмены, и индейцы, и охотники, и полузамерзшие странники, даже старожилы-соседи заглядывали на огонек… Все это будущие персонажи «Белого безмолвия» и других рассказов писателя.
Ни одного грамма золота «великолепной четверке» добыть не удалось. Это вовсе не значит, что друзья бездельничали. Помимо чисто бытовых забот, они еще спускали плоты на продажу, вылавливали плавающие в реке деревья, выручая за них какие-то деньги. Не удавалось добыть лишь золото. Для этого требовалась не кустарная лопата или лоток, а современное техническое оборудование. «Золотая лихорадка» оказалась красивой американской мечтой, очередной всеобщей авантюрой.
Но зато Джеку посчастливилось добыть другое – бесценный материал для литературного творчества, определивший оригинальную тематику и проблематику писательского труда, его тональность, что и помогло автору застолбить свое место не на Юконе, а в мировой литературе. И все это было получено из первых рук, не понаслышке. Писатель поистине нашел свою тропу в жизни и в литературе.
Только к 1900 году Лондону удалось пристроить свои очерки об Аляске и опубликовать сборник рассказов «Сын волка».
Помимо мощной художественной энергетики, подпитываемой реальными процессами американской жизни, начиная с деяний первопроходцев, Джек Лондон увидел в Клондайке конфликт двух разорванных тысячелетиями цивилизаций – столкновение понятий и представлений «каменного века» с «веком железным». В отличие от своего любимого Киплинга, Дж. Лондон усмотрел в «консерватизме» своих индейцев, живущих преданиями и первобытными ощущениями, убедительную и своеобразную логику, правоту исторических и духовных ценностей, уже недоступных современному человеку. Бесспорна правота одних, имеют какой-то резон и доводы других, но конкретные люди, переходя в противоположный лагерь или возвращаясь в свой собственный мир, нередко разрываются между этими трагическими противоречиями разных веков и культур. В этом сила повествования Джека Лондона, масштабность его художественного и общечеловеческого мышления. Да, у него немало острых сюжетов, без которых не было бы ощущения суровой романтики, снежного безмолвия, риска и азарта золотоискательства, предельного выражения человеческой индивидуальности на грани существования. Однако нравственно-психологическая и философская составляющие в этих конфликтах то и дело дают о себе знать, совмещая жизненную конкретику с поисками высокого смысла человеческой жизни.
…Пережив трудную полярную зиму, друзья спустились на плоту вниз к Доусону, где попали в гущу золотоискательской цивилизации. В Доусоне, тогда еще полупалаточном городке, уже были церковь, салуны, где устраивались на зиму хозяева с детьми и скарбом. Джеку и его друзьям довелось тут увидеть преуспевших золотопромышленников-старателей с волевыми подбородками и преступными наклонностями. Были здесь для контраста и аляскинские старожилы разных наций, пришедшие в эти края еще до «золотой лихорадки» и скептически относившиеся к новым пришельцам. Мир непредсказуемо менялся на глазах, менялись и его обитатели. Джеку Лондону были по душе такие переломные моменты в жизни.
Но любоваться всей этой экзотикой и наслаждаться доусоновской цивилизацией пришлось недолго. Джека замучила цинга. Короткое лето пришлось провести в католической больнице, где его подлечили за умеренную плату. Джек не мог не удивляться религиозной благотворительности монахов в этих суровых краях. Оказывается, были еще люди, думающие о Всевышнем, а не о золоте!
Как только искатель приключений стал на ноги и немного окреп, он с двумя новыми друзьями – Джоном Торнсоном и Чарли Тейлором пустился в очередную авантюру – дальний и опасный путь в тысячу девятьсот миль на утлой ненадежной лодке вниз по Юкону. Так путешественники вошли в холодное Берингово море, стараясь далеко не отрываться от побережья.
Через девятнадцать дней после отплытия отважные гребцы-первопроходцы вышли к форту Святого Михаила. Здесь Джек устроился на пароход кочегаром и отправился сначала в портовую Британскую Колумбию, потом поездом до Сиэтла (штат Вашингтон) в вагоне четвертого класса, а оттуда «зайцем» на товарняках до Окленда. У «золотоискателя» закончились последние деньги. Домой он прибыл веселым и полным надежд, но без гроша в кармане. Здесь ему сообщили печальную новость – ушел из жизни отчим Джон Лондон, человек, сделавший немало для самого Джека и для его матери. Снова жизнь ставила будущего писателя перед вечной проблемой – как прокормить осиротевшую семью.
Лондона считают одним из самых реалистических рассказчиков в литературе морских приключений, да, пожалуй, и во всей американской литературе. Этому мастерству художественной речи он учился в кубрике, в арестантской камере, на привалах, в забитых до отказа товарных вагонах, где бродяги выдавали себя за политических борцов.
Прозаик Лондон, сохраняя повествовательный колорит, учитывающий особенности речи и психологию личности, судьбу героя, тончайшие детали событий и обстановки, стремился к лаконичному, интеллигентному комментарию, возвышающему сказанное персонажем (или их группой) до социально значимых проблем современной жизни. Неслучайно, чтобы быть на уровне своего века, автор штудировал Бэкона, Бабефа, Прудона, Спенсера, Маркса, Дарвина, Фрейда. И его рассуждения, кстати, приведшие его к социалистической идее, выглядели отнюдь не тривиально или банально, несмотря на то, что социализм, как и научный прогресс, многим казался универсальной отмычкой или золотым ключиком ко всем проблемам жизни, что великолепно продемонстрировала Америка в своей «золотой лихорадке». Умение трудиться писатель всегда выдвигал на первое место как лучшее человеческое качество – в сочетании со здоровьем, искренностью и философской концепцией жизни. Не так уж прост был этот увлекательный и занимательный автор!
Имитация автором речи индейцев и чернокожих граждан Америки, насыщенная племенным фольклором с его особым характером восприятия мира, убеждает читателей в нравственно-мифологических ценностях уходящего «каменного века». Все это придает прозе писателя неповторимый колорит.
В не меньшей степени Лондона интересовали социальные особенности характеров и речи людей. Это хорошо выражено в рассказах, где героями выступают священники, – «По праву священника» и «Бог его отцов».
Есть в его произведениях люди из образованного общества – чиновники, адвокаты, офицеры. В одних случаях это просто беспомощные слюнтяи – «Мудрость снежной тропы», «В далеком краю», в других же – предприимчивые, отчаянные, а порой и безжалостно-бездушные белые люди – «За тех, кто в пути», «Жена Короля» и др. Последних смертельно ненавидят индейцы, как исключительно безнравственных завоевателей, – «Северная Одиссея», «Лига стариков» и др. Первобытная культура «каменного века» выступает на фоне современной «железной», беспощадной и порабощающей первобытные народы цивилизации. Одни духовные ценности сталкиваются с другими. И далеко не всегда «новое» побеждает в нравственно-духовном смысле старое.
Сами белые люди, американцы-старатели, часто проявляют далеко не лучшие свои качества – жадность к наживе, готовность убить конкурента за крупинку золота. Эти отрицательные черты в чем-то смыкаются с первобытными инстинктами индейцев, но мотивы поведения коренных обитателей Аляски на фоне золотой лихорадки выглядят несравненно более возвышенными и благородными, хотя они тоже высоко ценят оружие и готовы отдать за него своих дочерей. Так происходит сближение противоположных полюсов, взаимодействие разных времен и культур.
Такое противостояние придает рассказам писателя не только заостренность конфликта и соревновательность персонажей – но и подчеркивает разное по своей природе умение бороться за жизнь, демонстрирует духовную самобытность и привлекательность героев. Разнонаправленность современного мира была предугадана Джеком Лондоном задолго до того, как о ней заговорили современные политики и журналисты.
Общаясь с местными аборигенами и старателями-соотечествениками, писатель услышал немало увлекательных историй. Нередко такой рассказ был крепко сбит и сюжетно закручен, но в основе его лежала не первобытная борьба за обладание золотом или женщиной, а проблема утверждения полноценной человеческой личности, жизненные принципы которой дороже жизни. И такие незыблемые принципы часто демонстрируют индейские мужчины и женщины, а не физически слабые и коварные белые люди. Таким образом, психологический рисунок и внутренний сюжет повествования, выстраиваемый на почве человеческих отношений, постепенно отодвигают на второй план занимательность рассказа и остроту ситуации. Идеи в литературе тех лет нередко становятся важнее сюжета или стилевого мастерства автора. Однако нельзя отрицать и установку Джека Лондона на занимательность повествования, на неукротимый фабульный бег его произведений.
В конце ХIХ – начале ХХ века Джек Лондон был одним из самых динамичных писателей в мире. Он хорошо уяснил и применил на практике изобразительные возможности зарождающегося немого кино. Если до него американская проза была преимущественно фантастико-романтической, то Лондон густо насытил ее реализмом, а порой и достойной социальной проблематикой.
…Но пока XIX столетие подходит к концу. Джек Лондон снова весь в поисках работы. Ему удается пройти конкурс на должность почтальона с твердой ставкой 65 долларов в месяц. Однако когда такая возможность представилась, запротестовала самолюбивая Флора, велевшая сыну продолжать свои литературные опыты. Семь месяцев напряженного труда дали неплохие результаты. Во-первых, был первоначально обработан выигрышный северный материал; во-вторых, рассказ «За тех, кто в пути!» опубликовал журнал «Трансконтинентальный ежемесячник» («Оверленд Мансли» в январе 1899 г.), пообещавший платить семь с половиной долларов за каждое принятое к печати произведение. В феврале того же года в этом журнале появляется «Белое безмолвие». Однако обещанных гонораров не присылают. Положение семьи остается катастрофическим.
Разъяренный писатель-моряк является в редакцию журнала (благо она тут же в Окленде) и вытряхивает заработанные им гроши, в полном смысле слова взяв за горло издателей. Эта сцена красочно описана в «Мартине Идене».
Тяжелое финансовое положение нарушало личные планы самого Джека. Он хотел обзавестись семьей, жениться на Мэйбл Эпплгарт. Ему нравилась Мэйбл – изящная, умненькая и мягкая по характеру девушка из приличной семьи.
В отличие от Руфи Морз Мейбл не была высокомерной неженкой, презирающей малокультурного Морячка. Она вложила в него уже немало сил. Им удалось, наконец, обручиться. Но ее мамаша сначала потребовала от будущего зятя материального обеспечения (к тому времени умер ее муж), а затем поставила условием обязательное собственное проживание вместе с дочерью. Таких условий самолюбивый Джек никак не мог принять. Слабохарактерная же и послушная дочь не могла постоять за свое счастье.
В декабре 1899 года произошло чудо. Высокомерный ирландский журнал «Атлантический ежемесячник», выходивший в Бостоне и противопоставлявший «ирландскую культуру доброй старой Англии» полудикому и необразованному американскому Западу, вдруг согласился напечатать «Северную Одиссею». Мало того, он заключил с западным автором договор и тут же заплатил за короткую повесть 125 долларов гонорара, пообещав всячески поддерживать необычного для себя и чуждого для собственного направления писателя. Но весь гонорар был тут же растрачен Флорой, и Джеку пришлось занимать у друзей пять долларов, чтобы как-то отпраздновать успех и встретиться с отдаляющейся от него Мэйбл.
В это время случилось несчастье. Его друг времен учебы в университете, библиотекарь Фред Джекобс, пожелавший принять участие в испано-американской войне, погиб, и отнюдь не геройски – в армии он отравился мясными консервами.
После похорон Мэйбл попросила Джека утешить ее подружку Бэсси Маддерн – невесту покойного Фреда. Та неожиданно понравилась ему, хотя они были знакомы и раньше. Бэсси выглядела физически здоровой и «простой» в общении, вовсе не жеманной, скорее флегматично-деловой, а главное – не выдвигала никаких раздражающих требований. Закончив женский колледж, она давала уроки математики, занимаясь с отстающими школьниками и готовя абитуриентов в университет.
Джек решил, что такая жена не только не будет его раздражать, но у них могут быть здоровые полноценные дети. Правда, каждый из супругов пока еще любил другого, но об этом старались не вспоминать, не лукавить и не дразнить друг друга. Что поделать, если Мэйбл не может «бросить маму», которая оказалась несусветной эгоисткой, по оценке даже ее собственного сына Эдварда? Судьба уготовила возлюбленной Джека участь старой девы.
В 1900 году нью-йоркский издатель С. Мак-Клюр опубликовал рассказ «Сын волка» и попытался наложить лапу на творчество перспективного молодого литератора. Передавая его произведения другим издателям, если сам не был в них заинтересован, он предложил ежемесячно платить автору по 100, а затем и по 125 долларов в счет будущего романа («Дочь снегов»). Теперь Джек Лондон был завален предложениями, и это стимулировало его активность.
В том же 1900 году выходит первый сборник рассказов Джека Лондона «Сын волка» (Бостон), в 1901 – второй – «Бог его отцов» (Чикаго). Однако, к своему удивлению, счастливый автор узнает, что сидит все же на мели. Все его заработки быстро растрачиваются женой и матерью. Между ними постоянно происходят бесконечные ссоры за влияние на сына и мужа. К тому же Джек стал отцом – в 1901 году родилась его дочь Джоан. В знак протеста против рождения девочки Джек порезал себе палец ножом – ему нужен только наследник.
Он чувствует, что заработался и устал до крайности – и от литературных трудов, и от издательских манипуляций, и от семейного климата. К тому же роман «Дочь снегов» не удовлетворил С. Мак-Клюра, и он передал его другому издателю, а тот потребовал существенных купюр и переделок. Мать Флора то и дело скандалит с невесткой Бэсси, не понимая, что писательский труд требует по крайней мере тишины и спокойствия.
Надо куда-то уехать, развеяться, обрести прежнюю форму. И вот при содействии «Американской ассоциации писателей» Лондон получает приглашение отправиться на англо-бурскую войну.
Предполагалось, что поначалу ему нужно будет взять интервью у британских генералов, чтобы запастись хоть какими-то фактами, стратегическими сведениями и прогнозами (о будущем Трансвааля). Однако пока Джек оформлял нужные документы и добирался до Лондона, война неожиданно закончилась, и он оказался в огромном европейском городе как писатель социалистического направления, как гражданин Америки, в конце концов, как турист. Такими возможностями грех было бы не воспользоваться.
И Джек Лондон в 1902 году неожиданно принимает умопомрачительное и дерзкое решение. Прежде всего, он намерен снять жалкое жилье в самой «непрестижной» части города – Ист-Энде, населенном бродягами, бездомными, пьяницами и проститутками. Товарищи журналисты отговаривают его от столь безумной затеи, предупреждают, что тут могут зарезать, как ягненка, в собственной постели. В ответ – лишь белозубая улыбка Джека.
Но и этого мало. В лавке старьевщика на Петтикот-Лейн писатель приобрел «маскарадный» костюм – пиджак с одной пуговицей, грубые ботинки и, войдя в роль отставшего от своего корабля матроса-бича, начал вживаться в мир печально знаменитых английских трущоб. Над легендой ему особенно трудиться не пришлось. В Лондоне полно матросов («бичей»), в том числе и американских, нанятых на один рейс до столицы Великобритании. Здесь эти здоровые, физически полноценные люди без гражданства либо слонялись без дела, либо нанимались на самую низкооплачиваемую и грязную работу. Джек Лондон избрал для своей книги оригинальный способ знакомства с материалом – попытался сам, хотя бы временно, влезть в шкуру «лондонского бедняка-изгоя».
Собрав огромный, исключительно ценный материал, писатель вернулся в родные пенаты, где жена «порадовала» его рождением второй дочери – Бэсс (1902). Джек безнадежно махнул рукой, но пальцы уже не резал.
В то же время ему удалось договориться в Нью-Йорке с солидным издательством «Макмиллан» о ежемесячном пособии в 150 долларов в счет будущих своих произведений. Оставалось только не спеша оформить собранный для «Людей Бездны» социально острый материал, который и был впервые опубликован в 1903 году.
В своей книге «Люди Бездны» автор рисует удручающую картину лондонской «бездны», или «преисподней», но это – по понятиям того времени. Людей, живущих за чертой бедности, в столице Великобритании насчитывалось 450 тысяч человек, из них бездомных – 123 тысячи, 17 тысяч пребывали в благотворительных заведениях, 19 тысяч получали от государства какое-либо пособие (типа нынешней субсидии). Общее число нуждающихся в английской столице составляло 7 %. Очевидно, любой мегаполис мира с более чем двухмиллионным населением мог бы сейчас гордиться такими показателями. 5–7 % нищих во всем мире теперь, во времена научно-технического прогресса, считается нормой.
Как видим, писатель-социалист подошел к своей проблеме системно и научно, используя статистику, почерпнутую из официальных источников и архивов Великобритании, в том числе и опубликованную Армией Спасения. Последняя пыталась что-то делать для бедных – хотя бы раз в день накормить всех желающих горячей пищей. Правда, порой за это благо им приходится мести улицы, убирать мусор или снег. Но самым чудовищным, как показалось автору, было то, что в благодарность за пищу и тепло несчастные должны были еще выслушивать многочасовые религиозные проповеди. Экое лицемерие благодетелей! Это даже хуже, чем в родной Америке.
Вывод автора суров и однозначен: «Негодная система управления. Цивилизация несет с собой многочисленные блага, но рядовой англичанин не получает своей доли… Цивилизацию нужно заставить служить интересам простого человека». Такой лозунг в наши дни не менее актуален, чем сто с лишним лет назад.
Нечто подобное происходило и во многих других странах, в том числе в России. В один год с «Людьми Бездны» была написана и поставлена горьковская пьеса «На дне» (1902), получившая мировую известность. Кстати, в русском переводе сочинение Дж. Лондона «Люди Бездны» появилось под названием «На дне» (1906).
Конечно, Джек Лондон поставил перед обществом жгучую социальную проблему, нарисовал безысходную картину народной жизни в одной из самых развитых стран Старого Света. И нельзя его упрекать в том, что он не учел каких-то наследственных, генетических факторов, порочной антисоциальной или даже уголовной ориентации некоторой части обитателей бездны, хотя речь идет об алкоголизме, анемичности и психических отклонениях. Наука той поры еще не могла глубже проникнуть в мир трущоб. Не было и горького опыта реального социализма, после которого капиталистический мир облегченно вздохнул. Однако система субсидий и страхования, существующая сейчас в развитых странах, в немалой степени облегчает участь бедняков.
Социалистический идеал, как его понимал Джек Лондон, был тогда весьма современен и прогрессивен. Во многом он определил сферу изображения, стиль, а нередко и пафос литературного творчества автора, порою далекого от воссозданной им городской среды. Джек Лондон решительно вышел за пределы Клондайка и морских приключений, проникся судьбой маленького человека и заставил правителей всерьез задуматься над перспективой грядущей революции.
Не случайно его книга пользовалась огромной популярностью. Ее издавали не только социалистические партии, но и самые престижные издательства Европы и Америки. Считали, что писатель сделал ощутимый прорыв в своем творчестве и книга «Люди Бездны» обессмертила его имя. И когда в России началась революция 1905 года, Лондон искренне ее приветствовал и оправдывал ее негативные стороны, что вызвало возмущение так называемых «простых американцев» – среднего класса, одобряющего правопорядок и особенно конституцию.
Еще в 1903 году, прекрасно понимая, что он уже достиг определенных вершин в рассказах об Аляске и «золотой лихорадке», Джек Лондон старался художественно освоить новые сферы социальной жизни, что не сводилось к автоматическому переключению писательского регистра.
Клондайкские рассказы за несколько лет также изменили свою форму. Они стали отличаться не столько остротой сюжета, сколько постижением психологии персонажей, выходом повествования на новый морально-этический и социально-философский уровень. Поэтому критерии оценки изображаемого становятся со временем многообразными, а форма повествования – полифоничной, многосоставной. В какой-то мере писателя уже не удовлетворял жанр небольшой новеллы. Он чувствовал себя в силах претендовать на более солидный жанр – такой, как роман.
Назрела необходимость в освоении жанров повести и романа при сохранении гедонизма[1] художественного мироощущения и своеобразной эстетики слога, которую читатели так высоко оценили в сочинениях Джека Лондона. Тут ему повезло. Один из самых влиятельных, популярных и высокооплачиваемых журналов – «Сатердей Ивнинг Пост» неожиданно не вернул присланную по почте рукопись, а согласился печатать повесть «Зов предков» (1903), прислав в качестве аванса чек на 750 долларов. Эта повесть также о Клондайке. Но события увидены здесь глазами собаки, помеси сенбернара с шотландской овчаркой – сильного и от природы доброго пса, которого продали в настоящее рабство. Возненавидев своих мучителей и разделавшись со многими из них, Бак становится вождем волчьей стаи. Его возвращение к предкам – волкам – более чем символично. В этом произведении писатель не только освоил новый пласт «собачьей жизни», развивая известную с античности тему – жизнь животных, но и уловил некую общую логику развития современного мира, захватившего в свой индустриальный водоворот практически все, что окружает человека, стоящего в центре мировой цивилизации. Такова концепция жизни и разнообразные формы протеста против существующего миропорядка любого живого существа.
В ту пору Джек Лондон жил в дачной местности – пригороде Сан-Франциско Пьедмонте. К нему часто приезжала разведенная теперь сестра Элиза Шепард, чтобы улаживать отношения между Бэсси и Флорой, гасить семейные скандалы. Обстановка в доме становилась все более невыносимой. Джек, общаясь в это время с давней своей знакомой (с 1899 года), эмигранткой из России, социалисткой Анной Струнской, гостившей у них по приглашению Бэсси, с женами и подругами своих бывших товарищей по университету, понимал, что и без того суховатая жена стала непогрешимой матроной, человеком, с которым он не мог свободно обмениваться мыслями. А Джеку хотелось вернуться к морской теме, обновить в памяти полузабытые впечатления мятежной юности. Он покупает яхту «Спрей» («Морская пена») и переезжает в родной свой городок – местечко Глен-Эллен, поселившись с семьей на даче в Лунной долине, чтобы разлучить наконец жену и мать.
Теперь предстояло с головой окунуться в работу. Джек выходит на собственной яхте со своим другом Джорджем Стерлингом (местный «богемный» поэт) в залив Сан-Франциско, где до обеда упорно трудится над «Морским волком», потом друзья стреляют уток, ловят рыбу, готовят ужин. По воскресеньям берут с собой на морскую прогулку Элизу с сыном, Бэсси с дочерьми и целую ораву детей из окрестных дач.
«Морской волк» основан на воспоминаниях времен плавания на «Софи Сюзерленд». Там часто говорили о легендарном капитане Алексе Маклине, который не верил ни в Бога, ни в черта, но был необыкновенной личностью – отважным моряком, который выходил победителем из самых трудных переделок. Эту морскую легенду писатель невольно связал с представлениями о сверхчеловеке, хорошо известными из сочинений Ф. Ницше и Р. Киплинга.
Новый индивидуальный стиль писателя, дающий о себе знать в этой повести, создавался во взаимодействии с великим традиционным стилем морской приключенческой литературы.
Запас своих морских впечатлений Лондону удалось существенно обновить – 7 января 1904 года в качестве американского корреспондента он отправляется в Токио, чтобы успеть к началу русско-японской войны. Однако хитрые японцы никого на фронт не собирались пускать. Они устроили для корреспондентов нечто вроде базы отдыха – с баром и развлечениями, пичкая «акул пера» лишь официальными цензурованными сообщениями.
Джек Лондон решил вырваться из этой информационной блокады. Он хотел отправиться сначала в Нагасаки, оттуда попасть на Корейское побережье и по Желтому морю добраться до линии фронта в Чемульпо. С этой целью писатель купил джонку, нанял команду из трех корейцев и кое-как в течение шести суток, преодолевая штормы и стужу (это была довольно суровая зима), простуженный и обмороженный прибыл к месту назначения. И, как на грех, начал еще что-то фотографировать в Пхеньяне. Его тут же арестовали и отправили в сеульскую военную тюрьму как русского шпиона и разбойника. К тому же он еще накануне избил обокравшего его местного вора. В лучшем случае новоиспеченному журналисту грозил многолетний срок тяжелого заключения. В худшем – военный трибунал и смертная казнь.
К счастью, друзья журналисты вовремя забили тревогу. Один из них, Р. Дэвис, связался с Белым Домом, и после прямого вмешательства президента США Теодора Рузвельта Джек Лондон был освобожден и в июне того же года благополучно доплыл до Сан-Франциско.
Как утверждали газеты, 19 корреспонденций, отправленных раньше, а затем корейские фотографии стали едва ли не единственным ценным журналистским материалом, добытым на этой бесславной для России войне.
Поездка на Восток оживила писательские впечатления. В Японии и Корее автор «Белого безмолвия» встретился с людьми, похожими на индейцев Аляски, с теми же трудностями морского плавания и пешего перехода по скалистым тропам, с тем же хамством и бестолковостью военных властей.
По прибытии домой его ждала неприятная новость – Бэсси подала на развод, а все его банковские счета оказались замороженными. Виновницей семейной распри оказалась Чармиан Киттредж, которая обладала литературными способностями и мечтала стать единомышленницей и другом писателя. Правда, Чармиан была старше Джека на пять лет.
Теперь писатель вынужден был построить в Пьедмонте дом для бывшей жены и девочек, а сам в ноябре 1905 года после развода с Бэсси перебрался с новой женой Чармиан в родной для него Глен Эллен, где купил сначала живописное ранчо, а несколько позже и 800 акров виноградника. Этот свой уголок он назвал «Ранчо красоты».
Планов у Лондона было немало, но главным занятием оставалась литература, помимо пропаганды социалистических идей в Калифорнийском университете, где он вызвал целую бурю своим выступлением.
Особенно громкий успех ждал его в Йельском университете (штат Нью-Йорк) в 1906 году. Студенты и рабочие восторженно встретили оратора (тема его лекции – «Революция», присутствовало на ней более 3.000 человек). Недаром Социалистическая партия Америки выдвинула писателя кандидатом не только в мэры Окленда (1901,1905), но и в Президенты США. Откровенная поддержка любой революции, прежде всего русской, вызвала горячий энтузиазм одних и ярую ненависть других. Двери ряда солидных издательств для Джека Лондона были закрыты, а его книги изымались из американских школ и библиотек.
Однако Джек был далеко не самый «праведный» социалист: он считал, что каждый может жить достойно и даже богато, но этого благополучия надо добиваться упорным трудом, а не отнимать и делить чужое. Писатель не представлял себе американский тип социализма без сметки и предприимчивости своих соотечественников, без постоянного преобразующего жизнь труда.
Работа над повестью «Белый клык», «Рассказами рыбачьего патруля» и почти одновременно – над «Дорогой» стала свидетельством необычайного синтеза различных впечатлений его жизни и тематики творчества.
К тому времени в Америке появилось множество подражателей мэтру, некоторые из них выдавали себя за Джека Лондона. Немало мистификаций проникло и в Россию.
Рассказы же, написанные по модели его произведений, стали неотъемлемой частью литературной жизни Америки. Это снижало их цену, подрывало финансовую базу самого основоположника жанра. Приходилось постоянно двигаться вперед, осваивать новые творческие материки.
Джек Лондон – человек кипучей энергии, жаждущий перемен и приключений. Реальную жизнь, полную риска и неожиданностей, он ставил выше собственного творчества. Таким писатель проявил себя во всем. Желая привести в порядок фермерское хозяйство на «Ранчо красоты», он по примеру Л. Толстого поставил перед собой задачу обновить выродившиеся породы калифорнийских лошадей (в первую очередь его интересовали мощные тяжеловозы-першероны), закупить породистых йоркширских свиней, ангорских коз и овец, культивировать лучшие, элитные сорта зерновых и винограда, чтобы поднять уровень всего сельского хозяйства края. Каждому работнику своей фермы Джек старался платить достойную зарплату и, помимо дома, выделить по сто акров земли.
Не успев достроить даже собственный дом и поселившись в слегка подремонтированной летней даче, Джек загорается новой идеей: построить шхуну и совершить на ней кругосветное путешествие – начать с Дальнего Востока, затем, повернув на Запад, пересечь Атлантику, попасть в Старый Свет, объехать все европейское побережье и посетить русскую столицу Петербург. Путешествие, рассчитанное на семь лет, должно было дать Лондону свежие впечатления, в которых он остро нуждался.
Вместительная шхуна была названа «Снарк» – в честь одного из мистических животных «Охоты на Снарка».
Строился «Снарк» по собственным чертежам Лондона, лично руководившего строительством и принимавшего непосредственное участие в плотничных работах. В то же время писатель лихорадочно трудился, чтобы покрыть непредвиденные финансовые расходы. Один из лучших циклов его рассказов «Любовь к жизни» написан именно в этот период строительной лихорадки. Создан был и острый социальный роман «Железная пята», где писатель предвидел будущую фашизацию Европы.
2 апреля 1907 года капитан Лондон предпринимает первую попытку проверить надежность судна – сначала в южных морях. Вместе с ним отправляется в поход и Чармиан – «помощник капитана», как шутливо называет ее муж. Шхуна сразу же застревает при спуске на воду, едва не переворачивается, затем дает течь, но опытный шкипер мужественно устраняет все неполадки. Выходят в открытое море, скорее даже – в открытый океан через Золотые ворота, но увы! – без мощного мотора и со сломанным начисто брашпилем! Команда корабля на 90 процентов состоит из новичков, имеющих весьма слабое представление о морском деле.
Первая половина дня уходит на литературную работу, вторая – на ловлю рыбы, приготовление обеда. Затем обед, фотографирование необычных мест, вечерние развлечения. Во время шторма хозяину судна приходится выполнять обязанности рулевого и капитана одновременно. Неожиданно к нему на помощь приходит жена Чармиан. Она оказывается смышленой и мужественной женщиной, часами выстаивающей в штормовую погоду у штурвала. Прозвище «капитана» теперь закрепилось за нею всерьез. Но у писателя грандиозные литературные планы.
Так началась Южная Одиссея Джека Лондона.
Помимо путевых очерков, главное его многочасовое занятие – работа над романом «Мартин Иден».
Первую остановку судно делает в печально прославившемся впоследствии гавайском порту Пирл-Харбор. После Гавайских островов следуют Маркизские, весной 1908 года – Таити, затем – Фиджи, Новые Гебриды, Соломоновы острова и др. В ту пору еще не было книги рекордов Гиннесса, но Джек Лондон сумел впервые в мореплавании преодолеть в тяжелейший шторм расстояние от Гавайев до Маркизских островов.
Впечатления, полученные во время путешествия, составили содержание цикла «Рассказы южных морей» и романа «Приключение», а также тома очерков «Путешествие на «Снарке». Плавание оказалось не из легких. Команда страдала от тропической лихорадки, у членов экипажа и у жены Чармиан вздувались огромные волдыри на теле, превращавшиеся в тропические язвы. Сам Джек держался молодцом, как умел, даже лечил заболевших. Оставив судно на попечение пьяницы-капитана Роско, он вынужден был возвратиться домой, чтобы уладить свои запутанные финансовые дела. Падкие до сенсаций журналисты объявили, что столь несовершенное судно вместе с его взбалмошным хозяином-авантюристом нашло вечный покой в южных морях, а банки, воспользовавшись ситуацией, закрыли на время почти все его счета.
По возвращении на «Снарк» Джек оставил свою яхту в какой-то гавани, поскольку вся команда страдала от малярии, а сам устроился на судно, вербующее туземцев-бушменов на работу в Штаты. Тут он попал под обстрел отравленными стрелами туземцев-людоедов, затем жил две недели вместе с Чармиан на острове прокаженных и совершил немало других авантюр, следуя причудам своего непредсказуемого характера. Его замечательный рассказ «Кулау-прокаженный», а также главы очерковой книги «Путешествие на «Снарке», где рассказывается о вырождении сильных и гордых туземцев, вкусивших плоды современной цивилизации, дают представление о занятиях писателя.
Наконец «Снарк» берет курс на австралийское побережье. Но в сентябре 1908 года Лондон свалился сам, пораженный какой-то неизвестной болезнью. Обязанности капитана взял на себя некий Уоррен, отсидевший пять лет в тюрьме Орегона за убийство.
Увы, Джеку сейчас не до яхты: у него чудовищно распухли руки и ноги. В мае 1909 года врачи сделали ему операцию в Сиднее, вырезав какую-то застарелую язву-свищ, но точный диагноз так и не был поставлен.
Писатель еще не подозревает, что пережитые им испытания и изнуряющий режим работы в течение многих лет подорвали его крепкое от природы здоровье. «Снарк», стоивший ему 40 000 долларов, пришлось продать в Сиднее всего за 3500.
После более чем двухлетних скитаний путешественник возвращается морем в свой несравненный Сан-Франциско и свое «Ранчо красоты». Дома он начал строительство большого каменного здания, которое назвал «Домом Волка» – в честь своего знаменитого произведения, а также потому, что индейцы Аляски именуют Волком любого белого человека. К тому же ему самому нравилось прозвище «Морской Волк», которым иногда называл его экипаж «Снарка».
Самым большим литературным достижением писателя в то время – неким итогом его путешествия – стал роман «Мартин Иден». В романе отразилось все пережитое самим автором и воплощенное в его герое, выходце из социальных низов.
Возвратившись на «Ранчо красоты», Джек Лондон поправился и снова стал похож на пышущего здоровьем преуспевающего американца. Правда, это была лишь внешняя оболочка, далеко не всегда отражающая его внутреннее состояние. Писатель полностью посвящает себя хозяйству и литературному творчеству. И хотя Джек не упускает случая выйти на своем новом суденышке «Ромер» («Скиталец») в залив Сан-Франциско или добраться до самого Нью-Йорка, большую часть времени он проводит в седле, объезжая на племенном жеребце Ошо Бане свои новые владения. Он постоянно раздумывает над тем, как улучшить истощенную калифорнийскую землю, варварски эксплуатируемую со времен ухода испанцев. Его проекты восстановления прежней природы, улучшения быта рабочих людей вызывают насмешки местных фермеров и забулдыг. К писателю присосались сотни прилипал, которые уверены, что деньги ему достаются даром. Из пятидесяти тысяч долларов, отданных в долг, ему возвратили в трудную минуту лишь часть. Джек Лондон заботился об интересах рабочих, занятых на постройке великолепного Дома Волка. Но ему, как и всякому человеку, взявшемуся не за свое дело, фатально не везло. Получив за литературный труд более миллиона долларов, он нередко оставался без гроша в кармане, задолжав огромные суммы кредиторам.
«Моряк в седле», как думал назвать писатель одну из своих книг, не случайно терпел в жизни одно поражение за другим. Породистые коровы и свиньи то и дело «падали» от «современного» американского содержания на цементных полах. Особенно потрясла Джека гибель жеребца Ошо Бана, за которого было выложено немало денег, как и пристреленной кем-то в поле породистой жеребой кобылы. Никому не нужными становились и выносливые тяжеловозы-першероны – наступала эпоха тракторов и автомобильного бума… Прогулки с Чармиан в фаэтоне на хорошей четверке лошадей были шиком вчерашнего дня. Такая мода уже не производила впечатления на окружающих. Оставалась идиллическая надежда – соорудить двадцатикомнатный Дом Волка, куда Джек собирался пригласить всех своих друзей. Однако и ей не суждено было сбыться.
21 августа 1913 года строительство дворца было окончательно завершено. Оставалось только подключить электричество и убрать строительный мусор. И тут произошло невероятное. «Замок», в котором, по утверждению недоброжелателей Лондона, не подобало жить социалисту, среди ночи вдруг вспыхнул как свеча. Скорее всего, это был кем-то организованный поджог.
Четыре дня хозяин пролежал в нервном расстройстве. А едва встав на ноги, пошел осматривать собственные «Руины» – новое наименование того, что осталось от «замка». Утешение Джек Лондон находит в работе. Помимо уже опубликованных рассказов и очерков о тропических приключениях (почти все они вышли в 1911 году), писатель пишет цикл повестей «Лютый зверь», роман «Лунная долина» (1913), где речь идет о высоком смысле жизни и предназначении человека.
Ему вновь захотелось встряхнуться и отправиться военным корреспондентом на войну с Мексикой, куда уже прибыли корабли США (1914). Однако здоровье снова «напомнило» о себе. Заболевший дизентерией корреспондент отказался от контракта с журналом «Кольерс» и возвратился на родину. Войны, впрочем, удалось избежать – все закончилось мирно. Как память об этой поездке остался впечатляющий рассказ «Их дело – жить».
Джек не дает себя сломить болезням, он не сдается. Писатель работает над экранизацией «Морского Волка» и пишет киносценарный роман «Сердца трех», а в феврале 1915 года отправляется с Чармиан на Гавайские острова, чтобы обновить прежние впечатления и закончить повесть «Джерри-островитянин». Тут автор повести выступает прямым предшественником Хемингуэя и других американских литераторов.
Только в мае Джек Лондон возвратился в Глен Эллен. Но в июле его уже опять тянет на Гавайи – задумано продолжение повести «Майкл, брат Джерри». Однако чувствует он себя все хуже и хуже. У него уже нет сил и желания не только что-либо строить, но и участвовать в работе Социалистической партии, которой он отдал пятнадцать лет жизни. Разочаровавшись в социалистическом движении, писатель вместе с женой Чармиан выходит из рядов партии.
Теперь автор «Мартина Идена» страдает от ревматизма и уремии. Он то и дело впадает в депрессию, порою, вопреки своим твердым принципам, прикладывается к рюмке.
Больной писатель все же собирается отправиться в Нью-Йорк, чтобы в очередной раз встряхнуться и подышать морем. Но в день предполагаемого отъезда – 22 ноября 1916 года его находят в постели без сознания: Джек принял большую дозу снотворного.
На его столе нашли расчеты этой «дозы». Усилия врачей оказались напрасными. На следующий день Джека Лондона кремировали, и после панихиды в Окленде прах его был погребен на великолепном холме «Ранчо красоты», под отполированным ледником красным камнем, которому не нашлось места при строительстве Дома Волка. Но на самом камне словно бы лежит печать вечности.
Так в 40 лет оборвалась жизнь этого красивого и необыкновенно талантливого человека, бунтаря, мастера слова, определившего пути развития американской и мировой литературы ХХ века, особенно в малом жанре и приключенческой повести. За кажущейся простотой его слога и занимательностью повествования стоит упорный труд писателя-самоучки, достигшего в своем деле немыслимых литературных вершин, совместившего красоту словесно-эстетического выражения со стремлением осмыслить все происходящее в свете самых серьезных научно-философских идей ХХ века.
1. Ирвин Стоун. Джек Лондон. Моряк в седле. М.: Молодая гвардия. ЖЗЛ, 1962.
2. Оберт Алтроп. Джек Лондон, человек, писатель, бунтарь. М.: Прогресс, 1981.
3. Ф. С. Фонер. Джек Лондон – американский бунтарь. М.: Прогресс, 1966.
Морской Волк
Глава I
Не знаю, право, с чего начать, хотя иногда, в шутку, я сваливаю всю вину на Чарли Фэрасета. У него была дача в Мидл-Вэллей, под сенью горы Тамальпе, но он проводил в ней время только в зимние месяцы, когда читал Ницше и Шопенгауэра, чтобы дать отдых своему мозгу. Когда наступало лето, он предпочитал страдать от жары и пыли в городе и работать не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться у него до утра понедельника, я не очутился бы именно в это утро январского понедельника на водах бухты Сан-Франциско.
Нельзя сказать, что «Мартинес» представлял собой надежное судно – это был новый маленький пароходик, совершавший свой четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность грозила со стороны покрывавшего всю бухту тяжелого тумана, хотя я, как человек сухопутный, почти не догадывался об этом. Я хорошо помню, как спокойно и радостно расположился на верхней передней палубе, под самой рубкой рулевого, и любовался таинственными клубами этого тумана, овладевшего моим воображением. Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырости и мрака, – впрочем, и не совсем один, так как смутно сознавал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому капитана, в стеклянной будке над своей головой.
Помню, я размышлял о том, как хорошо, что благодаря разделению труда я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всю морскую науку, если хочу навестить друга, живущего по ту сторону морского рукава. «Хорошо, что существуют специалисты», – думал я. Рулевой и капитан с их профессиональными знаниями обслуживают тысячи людей, знающих о море и мореплавании не больше моего. Вместо того чтобы отдавать свою энергию изучению множества вещей, я сосредоточиваю ее на немногих специальных вопросах, например на выяснении вопроса о месте, занимаемом Эдгаром По в американской литературе. Кстати, моя статья об этом напечатана в последнем номере «Атлантика». Проходя после посадки на пароход через каюту, я с удовольствием заметил какого-то плотного джентльмена, читавшего номер «Атлантика», раскрытый как раз на моей статье. В этом опять сказывалось разделение труда: специальные знания рулевого и капитана давали плотному джентльмену возможность читать плоды моих специальных знаний о По и в то же время безопасно переправляться из Саусалито в Сан-Франциско.
Какой-то краснолицый человек, хлопнув дверью каюты за моей спиной и выбравшись на палубу, прервал мои размышления, и я успел только мысленно зафиксировать тему моей будущей статьи, которую мне захотелось назвать «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый человек взглянул на рулевую рубку, посмотрел на окружающий туман, проковылял взад и вперед по палубе – очевидно, у него были протезы – и остановился рядом со мной, широко расставив ноги и с выражением полного блаженства на лице. Я оказался прав, когда решил, что он провел свою жизнь на море.
– От такой погоды волосы могут поседеть, – cказал он, кивая в сторону рулевой рубки.
– Мне кажется, что особых затруднений нет, – ответил я. – Дело капитана просто, как дважды два – четыре. Компас дает ему направление; расстояние и скорость также известны. Тут простая математическая достоверность.
– Затруднения! – проворчал мой собеседник. – Просто, как дважды два – четыре! Математическая достоверность! – Глядя на меня, он как будто искал для себя точки опоры.
– А что вы скажете об отливе, стремящемся сквозь Золотые Ворота? – спросил или, вернее, пролаял он. – Быстро ли падает вода? Какие возникают течения? Прислушайтесь-ка, что это? Мы лезем прямо на колокольный буй! Видите, они меняют курс.
Из тумана донеслись заунывные удары колокола, и я увидел, как рулевой быстро стал крутить колесо. Колокол, находившийся, казалось, впереди, звучал теперь сбоку. Слышался хриплый гудок нашего пароходика, и время от времени из тумана доносились другие гудки.
– Это тоже пассажирские пароходы, – заметил краснолицый человек, указывая вправо, в сторону последнего гудка. – А это! Слышите? Просто рупор. Верно, какая-нибудь плоскодонная шхуна. Эй, не зевайте там, на шхуне!
Невидимый пароходик гудел без конца, и рупор вторил ему, казалось, в страшном смятении.
– Вот теперь они обменялись любезностями и стараются благополучно разойтись, – продолжал краснолицый человек, когда тревожные гудки прекратились.
Его лицо сияло и глаза горели восхищением, когда он разъяснял мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки.
– Вот теперь слева проходит паровая сирена, а слышите, вон там кричит какая-то паровая шхуна, как будто лягушка квакает. Она, кажется, очень близко и ползет навстречу отливу.
Резкий звук неистовствовавшего, как сумасшедший, свистка раздался где-то совсем близко впереди. На «Мартинесе» ему ответили ударами гонга. Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары замерли, но вскоре возобновились. Свисток, напоминавший стрекотание кузнечика среди голосов крупных животных, пронизывал туман, отклоняясь все больше в сторону и быстро ослабевая. Я вопросительно посмотрел на своего спутника.
– Какой-то отчаянный баркас, – пояснил он. – Прямо перед нами, стоило бы потопить его! От них бывает много бед, а кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на такую посудину и носится, сам не зная зачем, надрывая свисток и заставляя всех на свете волноваться! Скажите пожалуйста, важная птица! А вам приходится из-за него смотреть в оба! Право свободного пути! Необходимая порядочность! Они не отдают себе отчета во всем этом!
Этот ничем не оправдываемый гнев очень позабавил меня, и, пока мой собеседник возмущенно ковылял взад и вперед, я снова отдался романтическому обаянию тумана. Да, в этом тумане, несомненно, была романтика. Словно серая тень неизмеримой тайны, повис он над бурлящим кусочком земного шара. А люди, эти сверкающие атомы, гонимые ненасытной жаждой деятельности, мчались на своих деревянных и стальных конях сквозь самое сердце тайны, ощупью находя свой путь в незримом, и беседовали с напускным спокойствием, в то время как их души дрожали от неуверенности и страха.
Голос моего спутника вернул меня к действительности и заставил усмехнуться. Ведь я сам блуждал ощупью, тогда как думал, что мчусь уверенно сквозь тайну.
– Эге! Кто-то идет нам навстречу, – сказал он. – Слышите, слышите? Он быстро приближается. Идет прямо на нас. Кажется, он еще не услышал нас. Ветер относит.
Свежий бриз дул прямо в нашу сторону, и я ясно слышал свисток сбоку и немного впереди нас.
– Тоже пассажирский? – спросил я.
Краснолицый человек кивнул и добавил:
– Да, иначе он не несся бы так, сломя голову. Гм, наши там забеспокоились!
Я посмотрел вверх. Капитан высунул голову и плечи из рулевой рубки и напряженно всматривался в туман, будто стремясь силой своей воли проникнуть сквозь него. Лицо его отражало тревогу, как и лицо моего спутника, который проковылял к перилам и внимательно смотрел в сторону невидимой опасности.
Все произошло с непостижимой быстротой. Туман раздался в стороны, будто разрезанный лезвием, и показался нос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словно водоросли на морде Левиафана. Я разглядел рулевую рубку и высунувшегося из нее белобородого старика. Он был одет в синюю форму, и я помню, с каким непоколебимым спокойствием он держался. Его спокойствие при этих обстоятельствах было ужасно. Он подчинился судьбе, шел рука об руку с нею и холодно измерял удар. Он смотрел на нас, как бы рассчитывая точку, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный окрик нашего рулевого: «Вы сделали свое дело!»
Оглядываясь в прошлое, я вижу, что фраза рулевого, по всей очевидности, и не требовала ответа.
– Держитесь за что-нибудь, – сказал мне краснолицый человек.
Его жизнерадостность слетела с него, и, по-видимому, он заразился тем же сверхъестественным спокойствием.
– Послушайте, как женщины будут визжать, – сердито, почти злобно сказал он, как будто ему уже раньше приходилось это наблюдать.
Суда столкнулись прежде, чем я успел воспользоваться его советом. По-видимому, встречный пароход ударил нас в середину борта, хотя я этого не видел. Это было вне поля моего зрения. «Мартинеса» сильно качнуло, и послышался треск ломающегося дерева. Я упал плашмя на мокрую палубу и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неописуемый, душераздирающий вопль, наполнивший меня ужасом. Я вспомнил, что спасательные пояса лежат в каюте, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров. Не помню, что произошло в ближайшие минуты, но перед моими глазами сохранилась картина, как снимали спасательные пояса с высоких полок над головой и как краснолицый человек обвязывал ими нескольких бившихся в истерике женщин. Как сейчас, вижу я зазубренные края пробоины в стене каюты и вползавший в это отверстие серый туман; пустые мягкие сиденья с разбросанными на них доказательствами внезапного бегства – пакетами, саквояжами, зонтиками и пледами; плотного джентльмена, читавшего мою статью, а теперь упакованного в пробку и парусину, – журнал все еще был у него в руке, и он с монотонной настойчивостью спрашивал меня, есть ли, по моему мнению, опасность; краснолицего человека, бодро ковылявшего на искусственных ногах и снабжавшего поясами всех вновь прибывавших; и, наконец, визжащий бедлам женщин.
Да, визг женщин больше всего действовал мне на нервы. По-видимому, от него страдали и нервы краснолицего человека, ибо я помню еще другую картину, которая никогда не изгладится из моей памяти: плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом; перепутавшаяся толпа женщин, с вытянутыми бледными лицами, рыдает, словно хор потерянных душ, а краснолицый человек, с лицом, теперь уже совсем багровым от гнева, и с поднятыми над головой руками, из которых, казалось, сейчас посыплются молнии, громовым голосом орет:
– Молчать! Молчать, говорят вам!
Эта сцена вызвала во мне внезапный смех, но через минуту я понял, что сам впал в истерику; ведь передо мной были женщины моего круга, женщины, похожие на мою мать и сестер, охваченные страхом грозившей им смерти и не желавшие умирать. Я помню, что их голоса напомнили мне визг свиней под ножом мясника, и реальность этого сравнения поразила меня ужасом. Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную симпатию, вопили, разинув рты. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы в крысоловке, и визжали изо всех сил.
Ужас этого зрелища выгнал меня на палубу. Я испытывал слабость и отвращение и опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей и слышал их крики при попытках спустить шлюпки. Блоки застревали. Все было в неисправности. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробку; когда женщины и дети сели в нее, она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом, и другим концом она все еще болталась на талях. А парохода, вызвавшего все это несчастье, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, вышлет спасательные шлюпки.
Я спустился на нижнюю палубу. Очевидно, «Мартинес» быстро погружался, так как вода была уже очень близко. Многие пассажиры бросались за борт. Другие просили из воды, чтобы их взяли обратно наверх. Никто не слушал их. Поднялся общий крик: «Тонем!» Я был захвачен возникшей паникой и бросился в воду среди множества других, падавших в море тел. Я и сам не знал, как я это сделал, но зато мгновенно понял, почему находившиеся в воде так жаждали вернуться на пароход. Вода была холодна – холодна до боли. Когда я нырнул, меня обожгло, как огнем. Холод пронизывал меня до костей, словно рука смерти уже схватила меня. Я захлебывался от неожиданности и страха и успел набрать полные легкие воды прежде, чем спасательный пояс снова поднял меня на поверхность. Вкус соли наполнял горечью мой рот, и я задыхался от ощущения чего-то едкого, проникшего мне в горло и легкие.
Но особенно ужасен был холод. Я чувствовал, что не выживу больше нескольких минут. Вокруг меня в воде барахтались люди. Я слышал, как они что-то кричали друг другу. Я слышал также звук весел. Очевидно, встречный пароход спускал шлюпки. Время шло, и я удивлялся, что все еще жив. Но нижняя половина моего тела утратила чувствительность, и холодное онемение подступало к самому сердцу. Мелкие волны с сердито пенящимися хребтами опрокидывались на меня, забирались в рот и заставляли задыхаться.
Постепенно звуки стали менее отчетливыми, но вдруг я услышал вдали последний отчаянный вопль и понял, что «Мартинес» пошел ко дну. Потом – не знаю, насколько позже это было, – я очнулся с новым приливом ужаса. Я был один. Я не слышал больше призывных криков – только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, дрожащую звучность. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе, не так ужасна, как паника, переживаемая наедине. Куда волны несли меня? Краснолицый человек говорил, что отлив уходит через Золотые Ворота. Неужели меня унесет в открытое море? А мой спасательный пояс – не развалится ли он в любую минуту? Я слышал, что они иногда делаются из папки и тростника, и тогда, напитавшись водой, быстро теряют свою плавучесть. А ведь я совсем не умел плавать. Я был один и плыл неведомо куда, среди беспредельной серой пустыни. Признаюсь, что мною овладело безумие, я кричал, как кричали женщины, и бил по воде своими окоченевшими руками.
Я не имею понятия о том, долго ли это продолжалось. Потом я впал в забытье и об этом времени вспоминаю только как о тяжелом, полном кошмаров сне. Когда я очнулся, казалось, прошли века. Почти над собой я увидел выступавший из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящих один за другой и вздуваемых ветром. Там, где нос разрезал воду, она пенилась и клокотала, и я был как раз на этом пути. Я хотел крикнуть, но у меня не было сил. Нос судна промчался вплотную мимо меня, окатив потоком воды. Мимо меня скользил длинный черный борт судна – так близко, что я мог бы прикоснуться к нему руками. Я сделал попытку ухватиться за него, готов был впиться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелы и безжизненны. Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне.
Вот промчалась и корма судна, как будто погруженная в провал между волнами. Мельком я увидел человека у руля и другого, который спокойно курил сигару. Я видел дым, поднимавшийся у него изо рта, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный, рассеянный взгляд – одно из тех движений, которые люди машинально делают, когда они ничем не заняты.
Но жизнь и смерть были в этом взгляде. Я видел, как туман снова поглотил судно. Я видел спину рулевого и голову другого человека, когда он повернулся и посмотрел на воду. Видимо, он сосредоточенно о чем-то думал, и мне казалось, что, если его взгляд упадет на меня, он все равно меня не заметит. Но его глаза внезапно блеснули и встретились с моими. Он увидел меня, потому что он прыгнул к штурвалу и, оттолкнув рулевого, сам быстро стал крутить колесо, перебирая по нему руками и в то же время выкрикивая какую-то команду. Судно начало отклоняться от своего прежнего курса, но почти в тот же миг скрылось в тумане.