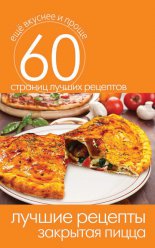Гавани Луны Лорченков Владимир
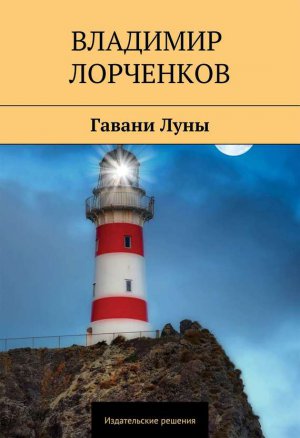
Ты хотел убить ее, – скажет он.
И ты убил ее, – скажет он.
И тут я пойму, что он ненавидит меня.
Офицер, – скажу я.
Еще кофе? – спрошу я.
К черту кофе, – скажет он, – я с тобой сердечником стану, дружище.
Итак, – скажет он.
… – поощрит он меня взглядом.
Офицер, – соберусь с духом я
Итак, я понимаю, что эта фраза звучит как в дурного сорта детективах, – сделаю вторую попытку я,
… – будет ждать он.
… но я и правда понятия не имею, откуда и как здесь появилась эта девушка, – скажу я.
Даже имени ее не знаю, – скажу я.
Как она тут появилась, ума не приложу, – повторю я.
И, конечно, совру.
В конце концов, это я ее сюда привез.
15
Странно, но я ни капельки не волновался.
Почему я сказал «ни капельки»? Видимо, все дело в крови. Глядя на то, как свисает рука девушки, серая и безжизненная, я подумал о крови, которая вытекла из нее вся. По каплям, очевидно. Я глубоко вздохнул и потер лоб. Голова страшно болела, и я подошел к кровати, и присел на краешек. Пахло плохо, как всегда пахнет лежалая кровь. Итак, я понимал, что если вызову полицию, то мне предстоят, минимум, сутки напряженных разговоров. Сначала здесь, потом в участке. Безусловно. На некоторое время я выкручусь, но итог дела не представлялся мне чересчур уж радужным. Так или иначе, а у меня просто нет сил на то, чтобы вступать в схватку с честолюбивыми полицейскими, жаждущими расколоть в меру известного писателя на признание в убийстве с отягчающим обстоятельством.
Ну а что такое горло, распоротое консервным ножом, как не отягчающее обстоятельство?
Кстати, нож. Я поднял его, тупо глянул, и вдруг ощутил – физически, кожей, – движение теплого воздуха, который исходит от капота автомобиля Любви. Скоро она будет здесь. Я глянул на телефон. Безусловно, все, что я сейчас сделаю, – кроме звонка в полицию, – станет еще одним отягчающим обстоятельством. Так что решать нужно быстро. Больше всего на свете я мечтал сейчас хлебнуть алкоголя. Вместо этого я бросил консервный нож в раковину на кухне и вернулся оттуда с ведром горячей воды. Труп девушки я завернул в одеяло, и перетянул в области головы и ног ремнями. Тщательно вымыл пол, – несколько раз пришлось поменять воду, – и оттащил одеяло в подвал, где сбросил тело в дубовую бочку с вином.
Тихий плеск напомнил мне о реке.
Когда-то Рина мечтала делать домашнее вино, чтобы наслаждаться им со мной тихими вечерами с отдыхом на крыше… с видом на реку… Давно. В те времена, когда наш брак не превратился еще в пантакратион с элементами заказного убийства.
Конечно, это намерение – как все в ее жизни, – осталось всего лишь намерением.
Единственное, что она довела до конца, это наш брак, подумал я.
И вдруг отчетливо понял, что не проживу больше с Риной ни дня. Таинственное очарование пут, привязавших меня к ней намертво, разрушилось в мгновение ока. Тихий плеск реки, и вот путы уже сброшены кучкой в бочку, на одеяло, прикрывшее мертвое тело. Я никогда не буду жить с тобой больше, мысленно дал я Рине свою последнюю клятву.
И, почувствовав несказанное облегчение, продолжил мыть комнату, отрезая себе путь от покаянной, явки с повинной, смягчающих обстоятельств и тому подобных заманчивых вещей.
К концу уборки. я вспотел. Смывать следы убийства оказалось делом нелегким. К тому же, на мне оставались следы крови. Так что я – все еще раздетый – пошел в душ. Потом сварил кофе. Следовало дождаться следующей ночи, чтобы избавиться от тела. Заодно и придумать, как именно это сделать. Хотя река своим плеском намекала мне на то, как именно следует поступить. Воды Днестра уносят к морю немало падали, говорила река. Немало печалей утекли вниз по плато, шептала она журчанием в стекла моего дома. Немало бед… грязи и пакости… Много еще чего говорила река мне в то утро, и я слушал ее как завороженный.
Я видел реку уже совершенно отчетливо. Наступил день.
В это время у ворот тихо и кротко просигналил автомобиль.
Я пошел открывать Любе.
16
Люба зашла, не разуваясь.
Я знал, что в обуви она зайдет и в спальню. Меня всегда бесила ее неопрятность, но сегодня у меня были особенные причины прийти из-за этого в бешенство. Если где-то еще на полу осталась незамеченная кровь, она может попасть на подошвы. Нет, возможная экспертиза меня не пугала. Я просто боялся, что она увидит отпечатки, и тогда точно уверится, что я убил Рину. Почему-то мысль, что она может узнать, что убил я не Рину, меня не волновала. Как будто отсутствие имени у мертвой девушки напрочь лишало ее индивидуальности. Но для меня она и правда не была кем-то. Просто фигура, очень похожая, на восковую. Я представил, где она сейчас находится, и на минуту впал в оцепенение. Богом клянусь – и всеми его святыми, которые есть не что иное как сомны дезертировавших бесов, – что я почувствовал призыв, идущий от нее. Медленно колыхающиеся в жидкости волосы, застывшее навсегда лицо. Все это не имело значения, это ее внешнее спокойствие. Я знал, что и кораллы с виду камни. А на самом деле они живые, они дышат там, под этими камнями, и – да-да – чувствуют. Что чувствует эта девушка в погибшем теле, покрытом со всех сторон вином, думал я, глядя в спину осматривающейся Любе. Она, – девушка, – словно иголка в мертвом теле в мертвой безвоздушной капсуле, заполненной жидкостью. Интересно, нужен ли душам кислород, вдруг подумал я. Не задыхается ли она сейчас? И буквально услышал – это было похоже на шепот, струящийся по вашему позвонку, ползущий по вашему телу, как змея, ползущая по Клеопатре, – прерывистый тонкий свист.
Подойди ко мне и взгляни на меня, – говорила мне мертвая девушка.
Взгляни мне в глаза, – внушала она мне сейчас так же, как я внушал парой часов назад Любе пожар в ее мускулистой мохнатке.
Взгляни на меня, – велела она.
Я едва не сдался и не поплелся покорно в подвал, как вдруг понял, что последние слова произнесла Люба. Я позволил ей взять свое лицо в руки, и дать себя тщательно – как какой-то особенный вид герпеса или смертельного вируса, которым я сейчас и был, – рассмотреть. И лишь потом глянул на саму Любу. Она выглядела встревоженной. Под глазами у нее были легкие круги, что, впрочем, ее лишь красило. Если женщина пышет здоровьем, ей не помешает легкое физическое недомогание: месячные, там, или рак в какой-нибудь легкой стадии. Легкая безуминка и тревога во взгляде превращают пышную пастушку в зачарованную принцессу. Роль рака в данном случае играла моя проклятущая жена. Любу действительно беспокоило, куда та подевалась.
Где Рина? – сказала она.
Поговорим лучше о тебе, – сказал я, потянув ее за руку к стойке.
Только не спиртное, – сказала она.
Только спиртное, – сказал я.
Мы оба знали, что алкоголь делает ее неистовой жрицей то ли Приапа, то ли Вакха. Или, говоря без обиняков, шлюхой гребанной. И если я настаивал на том, чтобы она выпила, значит, я желал очутиться в эпицентре атомного взрыва. А я настаивал. Это встревожило ее еще больше. Она, не скрывая этого, постучала пальцами по нашей стойке, и оглянулась. Коснувшись бутылки, я вспомнил Рину. Это ее идея, сделать из двух комнат одну, выпилив в них огромный проем, который и стал нашей барной стойкой.
Позже, конечно, она упрекала меня в том, что это моя идея.
Но когда гости восторгались нашим домом – а она сделала его красивым, я признаю, она знала толк в интерьере и вила его вокруг вас и дома, словно лиана свои петли вокруг дерева – жертвы, – она, конечно же, решала, что все это исключительно ее затея. Она была словно неистовый генерал-штабист, вручавший себе награды – одну за другой – за все, что происходило на передовой. А происходил там ад. С другой стороны, именно генералы в штабах и организуют весь этот ад на передней линии, так что все честно.
Рина и тут оказалась безжалостно права.
Я невольно покачал головой и усмехнулся. Налил себе и Любе. Это был виски, который она так обожала. Глаза у нее блеснули. Я оглядел Любу придирчиво.
Ты выглядишь как шлюха, которая решила остепениться, но так и не сумела, – сказал я.
Я думала, что буду верной женой, – сказала она жалобно.
Никогда, пока есть я, – сказал я.
Никогда, пока есть ты, – согласилась она.
Мы выпили. Я рассматривал ее, как сутенер – новенькую. Придирчиво, тщательно и с пренебрежением. То, что она появилось здесь, уже капитуляция. И, как победитель, я мог позволить себе презирать ее. На ней были чулки – в качестве дани победителю, – которые я обожал. Чулки в крупную сетку. Блузка с глубоким вырезом, широкий ремень… Только туфли не на очень высоком каблуке, что несколько выбивалось. Такие туфли скорее подошли бы под деловой костюм.
Ты была в костюме, когда выехала из дома? – сказал я.
Да, мне пришлось соврать дома насчет деловой командировки, – сказала она.
Срочной деловой командировки, – сказал она с улыбкой, покатав во рту виски.
А переоделась я уже за городом, – сказала она.
Ах ты шлюшка, – рассмеялся я.
Но почему обувь?.. – сказал я.
Обувь в сумочку не сунешь, – сказала она.
А чулки, мини и блузка – вполне, – сказала она.
Теперь я понимаю суть истории про Данаю и Зевса, – сказал я.
Вы трахнетесь и с привидением, если захотите, – сказал я.
Интересно, почему в концентрационных лагерях были женщины? – сказал я.
Они ведь и оттуда на свидание бы убегали, – сказал я.
Не кощунствуй, мертвые мстят, – сказала она.
Выпьем, – сказала она.
Мы выпили еще. Странно, но я не торопился. Может, тому причиной знакомство Рины с Любой: моя жена неприятно удивится, увидев ее дома, но стерпит это. А может, моя твердая решимость вырваться из сомкнувшейся вокруг меня ловушки: пизды Рины, которой она так умело орудовала. Мне плевать, даже если она зайдет и увидит, что я трахаю Любу, подумал я. А я собирался это сделать. К тому же, мы оба знали, какой отличный секс нас ждет. Пизда Любы – как, впрочем, и многих других женщин, – была словно под меня шита. Я представил, как ангелицы, щебеча и смеясь, шьют розовую мохнаточку моей Любови на небесах, и распалился. Так сильно, что не удержался и потрогал себя внизу. Люба глядела с пониманием и уже облизнула губы. Следовало слегка притормозить.
Выпьем еще, – сказала Люба.
Уже после, – сказал я.
Ты что, хочешь здесь? – спросила она, не отставляя стакана в сторону.
А ты бы хотела, чтобы я повел тебя в супружескую постель? – спросил я, смеясь.
Боюсь, это плохо для меня кончится, – ответила она.
Мы оба поняли, что она имела в виду. Рина обладала телепатическим даром, и, как и все, кто вооружен им, могла причинить вам неприятности силой одной лишь мысли. Пойми она, что я трахал кого-то в нашей постели, этого «кто-то» ждали бы неприятности в виде отказавших тормозов, умершего родственника, а то и краха на бирже. Эта сумасшедшая умела проклинать. Как я попался на ее удочку?
Все никак не поймешь, почему ты на ней женился? – спросила Люба.
Да, – честно ответил я, и спросил, – а что, очень видно?
Ты уже говоришь это вслух, просто не замечаешь, – сказала она.
Какие вы, мужчины, недалекий народ, – сказала она.
Она просто всосала тебя в себя, и переваривает, – сказала она.
Это я и без тебя знаю, – сказал я.
Как я позволил себе попасться, – сказал я.
Вот в чем загвоздка, – сказал я.
Говорю же, мужчины – сказала она.
Это элементарно, Рина просто навела на тебя порчу, – сказал Люба.
Что ты имеешь в виду, – спросил я.
Она пожала плечами, и не удостоила меня ответом. Налила себе еще. Я свой предыдущий виски еще не допил. Мне вдруг стало понятно, что, если ты оказываешься мужем женщины, которая явно намерена сожрать тебя и ты видел это с самого начала, – без чар здесь не обошлось. Называйте это как угодно. Гипноз, колдовство, волшебство, нейролептические вещества… Ну, что же. Для меня не новость то, что Рина с успехом заменяет собой все женское население Иствика. Или как там звался тот апдайковский городок.
Никто не понимает, как ты связался с ней, – сказала Люба.
А я понимаю, – сказала она.
Рина навела на тебя чары, – сказала она.
С тех пор, как вы сошлись, у тебя вид человека, который пропустил удар в самом начале боя, – сказала она и я вспомнил, что ее последний муж комментировал боксерские поединки.
Вид обалделый, – кивнул я.
Вид человека, который не понимает, как он сюда попал, – сказала она.
Ты женился на ней против своей воли, – сказала она.
Возможно, – сказал я.
И поэтому ты убил ее? – спросила она.
Господи, Люба, – сказал я.
Мне страшно идти в спальню, – сказала она, – там лежит мертвое тело. Я буквально Вижу.
Я пожал плечами, выпил, взял ее за руку и повел в спальню.
Надо было, в конце концов, где-нибудь ее трахнуть.
17
Вдалеке маячила голова девушки.
Глаза ее были широко раскрыты, словно у древней Медузы Горгоны, которой украшали свои колонны неунывающие греки. Волосы змеились вокруг головы, и то и дело попадали на глаза, но она все равно не моргала. Хотя любой другой на ее месте сдался бы и прикрыл глаза хоть на секунду. Но эта девушка не моргала, потому что была мертвой. И тут меня впервые осенило. Раз ее глаза все еще широко раскрыты, значит, они были такими в момент смерти. Она широко открыла глаза, когда ее убили. И лицо ее спокойно. Значит, это произошло мгновенно и неожиданно, подумал я. Голова, покачиваясь в волнах, пропала, и я вновь увидел на расстоянии одного дыхания – уже не обжигает, но еще чувствуется, – совсем другие глаза. Глаза Любы. Я приблизил к ней лицо, и мы стали целоваться. Она колотила у меня во рту языком, пока я шарил по ее телу руками, заворачивая на пояс юбку. Блузку я разорвал на груди, несмотря на ее негодующее мычание, и толчком раздвинул ей ноги. Она не удержалась и упала на кровать, которая оказалась пустой, что здорово ее удивило.
Глазам своим не верю, может, ты ее куда-то унес? – сказала она задумчиво, и я готов был поклясться, что в этот момент ее глаза потускнели и стали совсем такими, как у покойницы, колыхающейся сейчас в моем подвале.
Между подземельем и землей. Поистине, она попала в Чистилище, и ее проводник – я. Думая об этом, я чувствовал лишь слабость. Какую-то долю секунды хотел признаться во всем Любе, но мысль о том, что здесь появится полиция, рассеяла мои намерения. Я не был готов к этой борьбе. Волосы покойницы держали мои руки, словно цепи. А моей скалой стал этот дом на берегу реки. Как только я освобожусь и вдохну полной грудью воздух, и пойму, что смогу смотреть в глаза легавым и вести с ними утомительные игры в казаков и разбойников…
Так где она?
Люба все еще не верила мне.
Эта проницательная сумасшедшая едва не встала на корточки, чтобы заглянуть под кровать. Пришлось дать ей хорошего шлепка и начать, наконец, трахать. Впрочем, до главного блюда мы еще не добрались. Я рывком взобрался на кровать и на Любу, и навалился ей на грудь, где устроился поудобнее. Сидеть на этих роскошных мясных баллонах пятого размеры было все равно, что возвышаться на Соломоновом троне. И если груди его возлюбленной напоминали сосцы серны, то у моей Любви вместо груди были пышные холмы. Ничего общего с поджарой Риной. Ту бы я раздавил, попробуй только сесть ей на грудь. Рина, впрочем, никогда бы меня туда и не пустила – как и все властные женщины, она ненавидела, когда ее седлали по-настоящему. При мысли о Рине у меня скакнуло сердце, и я понял вдруг, как ее ненавижу. Приезжай, и я убью тебя, сука, почему-то подумал я. Люба приподняла голову, и, с горящими глазами, впилась в конец моего тела, который многие, почему-то, берут в кавычки. Я никогда так не делал. Конец это то, чем действительно что-то кончается, а разве не член – окраина мужской вселенной и ее горизонт? Так что я вцепился в ее жесткие черные волосы, и, напряженно глядя вниз, стал раскачиваться на груди Любы. Она брала все без остатка, она была из породы тех, кого зовут сниматься в особые категории порнофильмов. И ей это нравилось. Она гладила мои ноги, закатывала глаза и мычала.
Люба, гребанная ты шлюха, – подбавил я жару.
После чего осторожно позволил себе подумать, наконец, о том, что случилось вчера. Картина получалась не очень ясной. Я помнил лишь некоторые детали.
Я бросил пить несколько месяцев назад, и действительно не пил ничего, хоть это и стоило мне изменений на генном уровне. Я чувствовал себя буквально другим существом, и запомнил это. Дальше?
Вчера, когда я понял, что моя жена Рина отсутствует уже шесть дней, и, стало быть, у нее загул, – а ее загулы предвещали мне ад, – я взял машину и поехал к Кишиневу. Я посетил гигантский супермаркет «Метро». Из-за того, что я не пил, в голове у меня словно помутилось, и соображал я плохо, но по пути туда я явно не пил. Нечего было. После этого я вернулся. В багажнике у меня лежали продукты, ненужные, потому что я почти не ел и не готовил, – и несколько упаковок спиртного. Пять бутылок виски, три упаковки пива, два коньяка и вино. И если по дороге туда я еще тешил себя мыслью, что свалю все это в подвал дома, и спокойно поднимусь наверх, то на обратном пусти подрастерял оптимизм. За двадцать километров до городка – здесь оставалась ровная дорога, на которой никогда в это время года не стоял патруль дорожной полиции, – я остановил машину.
Вышел, открыл багажник, вынул бутылку и выпил прямо из горлышка.
И я очень хорошо помнил, как от первого глотка меня затрясло: по настоящему, волной.
Так я трясся в десять лет, когда остался дома один, и, – никем не увиденный, – испытал вечером у окна что-то вроде экзальтации. В форточке висела громадная Луна, я почувствовал, что весь пошел ходуном, и упал в обморок. Очнулся на полу пару минут спустя, и встав, как ни в чем не бывало, пошел открывать дверь родителям, вернувшимся из гостей. Я никогда никому не рассказывал об этом. И, когда вырос, понял, что это было что-то вроде припадка. То ощущение дрожи тела – оно до сих пор со мной. И вот, я пережил его вчера благодаря спиртному. И, почему-то, сегодня? Я вернулся в комнату, и понял, что меня трясет из-за Любы: она выгибалась и билась, потому что я навалился на ее голову всем телом. Бедняга едва не задохнулась. Я свалился набок, и потянул ее за волосы наверх. Она в благодарность решила было поцеловать меня, но я уклонился, как старшеклассник уклонился бы от поцелуя дворовой минетчицы. Это завело ее еще больше.
Я навалился на ее груди – тут уж она могла быть спокойна, – и вошел, наконец.
Приподнялся на руках, оглядел женщину, стал раскачиваться. Люба зашипела, и стала подмахивать. Минут десять у нас ушло на то, чтобы согласовать ритм, после чего мы стали загонять кровать в пол. Лежа на плотном, мускулистом животе, я бился о чужие бедра, словно рыба, брошенная на траву, и картина рыбалки, – на которой я не был вот уже восемнадцать лет, – всплыла перед моими глазами, словно живая. Даже глаза Любы блестели, словно чешуйки. Я вспомнил рыбу, поблескивающую на земле, камыши, воду, негромкий голос покойного уже отца, смех брата в лодке за камышами… Я чуть не уснул, пока мое тело билось. Так, должно быть, умирает рыба на берегу? Сознание угасает, хотя мышцы еще полны сил. Так же, наверное, бьется утопающий.
А-а-а-а-, – сказала рыба.
Хотя, конечно, это был стон Любви.
Я очнулся. Обрезанная крайняя плоть – забавно, что это случилось с одним из бессарабских интеллектуалов, падких на антисемитизм, – дает мне одно очень ценное качество. Ценное как для женщин, так и для меня. Они любят, когда их трахают подольше, я люблю в это время подумать. Так что у Любы было достаточно времени, чтобы потечь, словно сорвавшийся кран, и я в который раз с удовлетворением увидел огромное мокрое пятно под бедрами женщины, на которой лежал. Рину это бесило. Как и моя властная манера зачерпывать из этой лужи и размазывать ей по лицу. Но тут уж я ничего не мог поделать. Я обязан пометить ее, как свой кусок. Жаль только, это помогало лишь на время секса. Она любила меня, только пока мой великолепный, большой, обрезанный член был в ней.
Когда наши части тела разъединялись, чувство уходило, и Рина вновь обретала власть над собой.
Да и надо мной тоже. Интересно, где она сейчас, подумал я, размазывая по лицу Любы то, что выжала из себя ее дырки. Люба пыталась ухватить губами мои пальцы, и иногда я ей это позволял. Когда ей удалось вцепиться в мой большой палец своими толстыми губами, она стала похожа на безумную рыбку, которая сама себя насадила на крючок. Но разве так и не происходит? О, тогда она повела себя словно рыбка, которая вылетела из воды, чтобы броситься на крючок. Я почувствовал нестерпимое желание дернуть пальцем так, чтобы разорвать ее губы. Мне хотелось, чтобы по ним текла кровь. Я сунул ей в рот большой палец и другой руки и раскрыл ей рот. После этого я плюнул туда, и она стала, наконец, кончать. Кончил и я, постепенно поникая на ее грудь. Меня клонило к ее громадной груди, словно цветок подсолнуха к земле к вечеру. В конце я просто привалился щекой к ее тугому мокрому мясу. Тут она, наконец, заговорила. Голос у нее был сытый, – как всегда после секса, – но слегка подавленный.
Ты все-таки убил ее, – сказала она.
Я вижу под подушкой кровь, – сказала она.
Как раз под подушку-то я и не заглядывал. Ну что же. Самое время это сделать, подумал я. И, не слезая с Любы, приподнял краешек подушки.
Там действительно была кровь.
18
– Ты убьешь и меня? – спросила она, широко раскрыв свои бездумные глаза.
О Господи, Люба, – сказал я.
Конечно, я не собирался убивать ее. С чего бы? Да я вообще никого убивать не собирался, больно уж трусил насчет этого. Рина так и говорила: в тебе, миленький, тысяча зверей, но укротитель их я. И стоит мне щелкнуть плетью… Я относил это к ее необузданному эгоцентризму. Ей вечно хотелось быть кем-то большим, чем она была. Удивительно, что это чувство посещает исключительно тех, кто и так многое собой представляет. Будь она ничтожеством, ей и в голову бы не пришло объявить себя покорительницей бурь. Кстати, будет ли сегодня буря? Судя по потемневшему краю неба, Днестр предвещал нам дожди и песчаные столбы, застывшие на горизонте, словно какие-то библейские часовые. Я видел краешек окна, потому что грудь Любы, на которой я лежал, была высока. Самая высокая из всех подушек в доме не больше ее груди. Вот еще одна причина, по которой ее ненавидела Рина. Я прижался щекой к Любиной груди еще сильнее, и почувствовал, что ее сердце стало биться чаще. Оно словно висело там, в груди, на невидимых мне ниточках, и кувыркалось, потеряв равновесие. А меня от него отделял лишь толстый слой раздувшейся кожи. Я любил ее грудь. Бог ты мой. Конечно, я не собирался ее убивать.
Так ты и меня убьешь? – сказала она.
Любовь, не болтай ерунды, – сказал я.
Откуда на постели кровь, – сказала она.
По утрам меня мучают приступы давления, – сказал я.
Не знала, что… – сказала она.
Элементарно, сдави себе нос, и увидишь, как из него каплет кровь, – сказал я.
И все равно, я не верю, – сказала она.
Крови слишком много, да и ты не выглядишь бледнее обычного, – сказала она.
Тебя когда-нибудь трахали три мужика сразу? – спросил я.
О-о-о, – сказала она.
Секс был той самой кнопкой, которая отключала Любе мозги. Но то была палка о двух концах. Эта же кнопка отключала мозги и мне. И, стоило мне заговорить с ней об этом, как я уже понесся куда-то по стремнинам, вцепившись в ее роскошные буфера, как экстремал-лодочник – за надувную лодку на порогах горной реки. Я был словно утопающий. И Люба спасала меня. Она оторвала меня от своей груди и замерла, глядя в глаза.
Что же все-таки случилось? – сказала она.
Не знаю, – сказал я.
Когда бросаешь пить, все так странно, – сказал я.
Чувство легкой тревоги вернулось ко мне. Я его еще не видел, но ощущал присутствие. Она, тревога, притаилась за углом нашего дома, словно какой-то налоговой полицейский, которых так ненавидела Рина, и которые время от времени приезжали к нам из Кишинева в надежде сорвать тысчонку-другую за земельную недвижимость или автомобиль. Словно извращенец в лесном массиве за рекой. Неприметная тень. Намек на мужскую фигуру в плаще и темных очках. Крысы, то и дело шмыгающие близ воды. Я чувствовал, что тревога поджидает и глядит на меня. Я знал, что вот-вот она появится. Но – из-за чего? Рина сказала бы, что у меня обычная депрессия сорвавшегося алкоголика, который так и не сумел завязать. Рина была бы права. Кому, как не ей, знать все об алкоголе, депрессиях, и…
Только тогда я вдруг понял, что думаю о своей жене в прошедшем времени.
Крепко зажмурился – Люба все еще держала мою голову двумя руками. Как любимая и красивая сестра: нежно, но не без намека на возможный секс. И, хоть я и был в ней, и все еще был велик, я не двигался. Глядя на зеленую и сиреневую изнанку век – чем крепче жмуришься, тем больше зеленое отдает сиреневым и наоборот, – я попытался понять, видел ли вчера Рину.
Самое странное, что у меня даже похмелья не было.
Я проснулся как после порции виски или коньяка. Да, у меня болела голова, но из-за погоды. Наш чертов городок то и дело преподносил сюрпризы в виде магнитных или песчаных бурь. Когда-то он был весь окружен лесами, но люди, время, и отсутствие централизованного отопления выстригли холмы вокруг нас наголо. Лес есть лишь за Днестром. И это слабая защита от бурь, которые начинаются в южных степях Украины, и, крутясь штопором, приползают к нам. Людей, чье самочувствие зависит от погоды – а я, к сожалению, один из таких людей, – это место сводило иногда с ума. В городе, по крайней мере, чувствуешь себя оторванным от корней, от природы, ты не видишь и не понимаешь ее, природы, ритмов и намеков. Песчаная буря заблудится между домов, как наивный провинциал, и даже самый страшный ливень не пробьет крышу многоэтажного здания, а красное солнце – предвещающее в провинции перемену погоды, – затеряется на фоне вечерних огней, и будет среди них далеко не самым ярким.
Плеск воды, шорох листа, пение птицы.
В городе всего этого не слышно и не видно, и в этом есть свои преимущества: как бы не старалась природа причинить вам боль, вы этого не ощутите. Здесь же, за городом, все по другому. Моя кровь поднималась вечерами к Луне вместе со всем мировым океаном и водами Днестра, и я буквально чувствовал боль от того, что она – кровь, – вот-вот хлынет их моих ушей и рта и носа, и окрасит все вокруг цветом алых роз, растущих на заднем дворе моего дома. В дождь мы хандрили вместе с небом – трудно не заметить дождь, если он льет прямо на вас, – а на рассвете радовались новому дню, как дети. Как дети на каникулах, конечно. Это трудно представить, но, когда живешь за городом, то даже солнечное затмение воспринимаешь острее, и на пару минут действительно начинаешь сомневаться– уж не пропало ли солнце навсегда? В общем, жизнь на природе снимает с нас легкий налет христианской культуры и возвращает в лоно язычества. Мать-природа посмеялась над христианами. Она сильнее их всех, вместе взятых, сколько бы они не боролись с ней в Средние века, сжигая таких, как Рина. Кстати, почему я говорю о ней в прошедшем времени, снова подумал я. Но картинка моей жены не появлялась. Значит, подумал я, прошлым вечером мы не виделись.
Где же Рина? – спросила Люба.
Откуда мне знать, шляется, небось, по городским кабакам, да поет песни Дьяволу своей ненасытной утробой, – сказал я горько.
Ты ревнуешь, – сказала она.
Нет, давно уже нет, – сказал я.
Бедный мальчик, – сказала она.
Она тебя не стоит, – сказала она с уверенностью.
Она прекрасна, но она чудовище, – сказала она со страхом, словно Рина вот-вот могла выйти из-за угла, метнув пол хвостом в роговых пластинах и ядовитых шипах.
Давай как-нибудь займемся сексом втроем, – сказал я.
Ты, я и Рина? – сказала она.
Я, ты, и твой тренер по фитнесу, – сказал я.
Я замужем за тренером по фитнесу, – сказала она, смеясь.
Стало быть, мы могли бы потренироваться вместе, – сказал я.
Он убьет меня, если узнает, – сказала она.
И Рина убьет тебя, если узнает, – сказала она.
Поэтому, уж лучше ей быть сейчас где-то мертвой, чем живой и здесь, – сказала она серьезно.
После чего, извиваясь, и все еще держась за мои волосы, – словно кровать
пучина, а моя голова – спасательный буй, – рассказала мне кое-что о сексе с тремя мужиками. За это время она успела трижды кончить, и лишь потом я позволил сделать это и себе. Люба приняла все. Она никогда не просила вас предохраняться. Это делало ее безумно привлекательной в глазах многих мужчин, но у некоторых, обуянных паранойей, – вроде меня, – это будило чувство тревоги. Как-то раз, во время особенно алкогольного периода, я решил, что непременно подцеплю от нее СПИД или какое-то заболевание – ну, из этих новых и модных заболеваний в медицинских журналах для всех. Поэтому я почти год избегал ее, а когда рассказал, она долго хохотала. Оказалось, Любовь гораздо осмотрительнее, чем мы думали, и каждый месяц проходит строгий медицинский осмотр. С другой стороны, не свидетельствует ли это уже об ее паранойе, подумал я. Люба, судя по всему, задремала.
Я встал, обмотал бедра полотенцем, и вышел из дома. Присмотрелся к лесу за рекой. Над ним вился какой-то дымок. Так и есть.
Надвигалась буря.
19
Флюгер на крыше начинал крутиться все сильнее.
Ветер со скрипом ласкал железо и оно поскрипывало в ответ.
Постояв еще немного и чувствуя, как обсыхает кожа на ветерке, я с удовольствием раскинул руки и закрыл глаза. На секунду мне показалось, что все случившееся – если вообще что-то случилось, – и правда не больше, чем похмельная тревожность. Но почему тогда исчезла Рина и как в комнате оказалась мертвая девушка с располосованным горлом? Если насчет Рины я еще мог строить какие-то догадки, – она и в самом деле могла шататься сейчас по всему городу, выпивая ужасающие количества спиртного и изрыгая проклятия в адрес своего проклятого мужа, – то насчет девушки у меня не было идей. Я смутно подозревал, что имею какое-то отношение к ее смерти, но совершенно не помнил, как она очутилась в доме. И момента смерти я не помнил. Если ее убил я, то почему она выглядит так умиротворенно? Мы не были знакомы – я был уверен, что не знаю ее, – и она бы испугалась меня. Но она не выглядела испуганной. Она выглядела… Словно женщина, которая получила самый сладкий поцелуй в своей жизни – и поцелуй этот был в шею, и неважно, что сделали его чем-то, очень похожим на нож для консервов. Тип пореза мне был знаком. Я не раз, крепко выпив, открывал консервы старым кривым консервным ножом – чертова Рина ленилась готовить, – и ранил руку, и рана выглядела именно так. Ветерок подул сильнее, и я понял, что лето кончилось. И жара его кончилась – именно сегодня, в это утро. Пусть еще месяц-два днями будет жарко, но лето сломалось, как ломается боксер, и это видят лишь его соперник да рефери, потому что они видят его глаза. Пусть для зрителей он еще – возможный претендент на победу, для тех, кто Знает, он проигравший.
И именно в это-то момент можно переключать телевизор, если вы смотрите поединок в трансляции.
Лето сломалось, и оно уже не выиграет. По крайней мере, в этом году. Ветерок стал пусть молодым, но уже ветром, и разгладил несколько морщин на моем лице. Будь у меня волосы длиннее, они бы разлетелись, как у девушки в подвале, подумал я.
Кто же ты? – сказал я ей.
… – ничего не сказала она.
Кто ты? – сказал я.
После чего открыл глаза и со смущением увидел соседку, молодую девушку, которую звали, кажется, Яна. Она стояла у невысокого забора между нашими участками, и смотрела на меня. В белой форме теннисистки, с ракеткой в руках, она выглядела весьма стильно. Если, конечно, не знать, что на животе у нее специальный сдерживающий пояс, благодаря которому ее брюхо не вываливается наружу, как у синьора Помидора из сказки про мальчика-луковицу. Как вы поняли, я цитирую Рину. Моя жена была не каким-нибудь примитивным существом вроде змеи или ядовитой ящерицы. Она могла убить и ради забавы. По мне так, хоть Яна и толстовата, она не лишена прелести полной девушки. Кожа у нее была свежей, улыбка – приятной, грудь – большой, что, впрочем, компенсировал и правда большой живот, и красивые красные волосы. Крашенные и обесцвеченные, добавила бы Рина. Но я мужчина, и мне простительно этого не замечать. Так что я просто улыбнулся соседке и виновато развел руками. Мол, жара. Она кивнула, внимательно глядя на меня, и продолжила стоять у забора. Я чувствовал себя чертовски неловко. Уйти сразу я не мог, так как признал бы этим, что выглядел идиотом – голый, с полотенцем на бедрах… Но и стоять дальше под ее внимательным, – хоть и дружелюбным, – взглядом, мне не хотелось. Насколько я знал, дом девушке достался от состоятельных родителей, которые и оплачивали ее теннис, ее бассейн, ее тренеров – кажется, это уже мода, – и ее ничегонеделание. Ей повезло. Уж в Молдавии-то девушка с ее внешностью и на собственном обеспечении выглядела бы не так свежо…
Я помахал еще раз приветственно рукой, и снова закрыл глаза, решив, что уйду через пару минут.
Когда я открыл их, Яны у забора уже не было. Обычное дело. Она молча подходила к краю участка посмотреть на нас, и так же молча отходила. Когда она видела, что мы ее заметили, то просто кивала или махала ракеткой. В теннис она играла с машинкой, выбрасывавшей мячики. Жирная корова хочет похудеть, говорила Рина. В ее устах это была почти лаской. В целом Рина спокойно относилась к соседке. Та никогда не жаловалась на шум, не просила родителей приструнить слишком буйную соседку, и вообще, своим равнодушным молчанием избавляла нас от кучи неприятных объяснений.
Да она просто клиническая идиотка, – говорила Рина.
Аутистка, или что-то в этом роде, – говорила она.
Аутисты не могут жить самостоятельно, – возражал я.
Все верно, поэтому я здесь, – говорила Рина.
Гости хохотали. Пытаться отвлечь ее от жертвы было все равно, что предложить себя взамен. И она обожала делать это при свидетелях.
Вообще, при посторонних лицо Рины становилось одухотворенным и мягким, даже красивым Да, она оставалась такой же язвительной как и наедине, но яд переставал быть смертельным – начиналась работа на публику. Ей хотелось нравиться и она умела нравиться. Когда мы выбирались в город, она выглядела так шикарно, и так блистала в беседах, что я даже гордился ей и съезжал на обратном пути на боковые дороги. Рина, смеясь, позволяла сделать это, при условии, что мы не помнем платье и не испортим прическу. В результате я прямо-таки эквилибристом стал. И научился балансировать над женским телом на трех лапах: указательных пальцах рук и своем члене.
Поверьте, когда вы хотите по-настоящему, этого достаточно…
… С облегчением выдохнув, я с достоинством ретировался в дом. Люба лежала на кровати ничком, и я поправил ей голову, чтобы она во сне не задохнулась. Я налил себе еще чуть-чуть, и сел в кресло. Уже совершенно спокойно я подумал, что, должно быть, произошло следующее. Я опьянел, съехал с обочины, и наткнулся на тело убитой кем-то девушки. Спьяну не заметил ее разрезанного горла, – когда тело в крови, тщательно осматривать его не очень-то и хочется, – и решил, что это я ее убил. Сунул тело в багажник, а дома перенес в постель. Видимо, от спиртного с непривычки принял девушку дома уже за Рину? Что-то в этом роде.
Я облизал губы, толстые и пересохшие, еще раз прокрутил версию про себя..
Да, есть несколько нестыковок, но в целом нормально. Конечно, история так себе, если вы собираетесь предъявлять ее легавым, но я и не собирался этого делать. Слишком поздно. Если у вас дома в подвале в бочке с вином колышется тело девушки с разрезанным от уха до уха горлом, то вы можете оставить все версии для тех мемуаров, которые напишете в пожизненном заключении.
Версия вполне хороша для меня самого и это меня вполне устраивало.
Благодаря ей, я вычеркивал себя из списка мертвых и заносил в реестр живых. Согласно этой истории я не маньяк, зверски убивший женщину в приступе пьяного безумия, верил я. Просто пьяный идиот, который вляпался в историю. И это меня вполне устраивает. Я позволил себе расслабиться, и почувствовал, как к телу приливает кровь, невесть откуда вернувшаяся и покинувшая меня с утра, отчего я стал слаб и безжизнен. Откуда только? Словно та мертвая бродяжка отдала мне всю свою кровь, и я теперь преисполнен жизненной субстанцией уже не одного, а двух человек. Где-то я читал, что, когда в тебе кровь еще кого-то, ты словно сказочное чудовище с двумя пенисами. Так и есть. У меня стоял за двоих. Я взялся за член, словно за рычаг переключения скоростей, и решил начать со второй. Будить Любу было жаль, но я мог любоваться ее выпяченной из простыней роскошной задницей. Да и спустить на нее в конце… Мое сердце забилось сильнее, и я приступил.
Тут Люба подняла голову с подушки, и я увидел, что взгляд у нее ясный, и она не спит.
Кто это у тебя в подвале? – спросила она.
20
Я встал, и подошел к окну.
Я знала, что умру, когда ехала сюда, – сказал она чуть испуганно.
Но легкое удовлетворение было слышно в ее голосе. Что-то от торжествующей нотки учителя, который предвидел, что ученики не справятся с домашним заданием. Или матери, которая просит ребенка не упасть, и, когда он все-таки падает, торжествуя, говорит ему – я же говорила тебе. Я Знала…
Я же говорила тебе как-то, что твоя темная часть сильнее тебя, – сказала Люба.
Не сходи с ума, – сказал я.