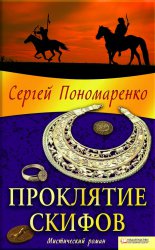Огонь (сборник) Барбюс Анри
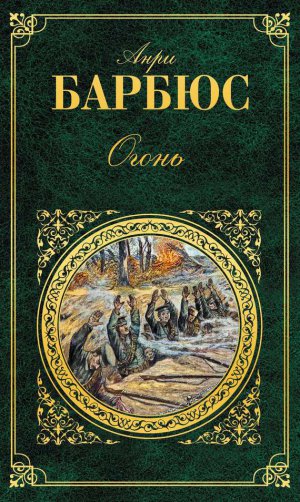
— Ничего не поделаешь, мадам. Известно, народ военный! Что они смыслят!
Хозяйка ведет нас в погреб. Он уставлен тремя бочками внушительных размеров.
— Это и есть ваш запасец?
— Шельма старуха, — ворчит Барк.
Ведьма оборачивается и злобно восклицает:
— А вы бы небось хотели; чтоб мы разорились на этой проклятой войне! И так теряем деньги то на одном, то на другом!
— На чем? — настаивает Барк.
— Сразу видно, что вам не приходится рисковать своими деньгами!
— Конечно, мы ведь рискуем только своей шкурой!
Мы вмешиваемся в разговор, опасаясь, как бы он не принял дурной оборот.
Вдруг кто-то дергает дверь погреба, и раздается мужской голос:
— Эй, Пальмира!
Хозяйка уходит, ковыляя, предусмотрительно оставив дверь открытой.
— Здорово! Тут славное винцо! — говорит Ламюз.
— Вот гады! — бормочет Барк; он никак не может успокоиться после подобного приема.
— Стыд и срам! — говорит Мартро.
— Можно подумать, что ты это видишь в первый раз!
— А ты тоже хорош, кисляй! — возмущается Барк. — Старуха нас обворовывает, а ты ей сладким голосом говоришь: «Ничего не поделаешь, народ военный!» Совести у тебя нет!
— А что еще сказать? Значит, лучше затянуть пояс потуже? Не было бы ни жратвы, ни выпивки! Если б она потребовала с нас за вино по сорок су, все равно пришлось бы платить. Правда? Так вот, мы еще должны почитать себя счастливыми. Признаюсь, я уж боялся, что она не согласится.
— Известно, везде и всегда одна и та же история, а все-таки…
— Да, нечего сказать, мирные жители ловко обделывают свои делишки! Конечно, кое-кто из них разбогатеет. Не всем же рисковать своей шкурой!
— Эх, славный народ в восточных областях!
— Да и северяне тоже хороши!
— …Они встречают нас с распростертыми объятиями!..
— Скорее, с протянутой рукой…
— Говорят тебе, — повторяет Мартро, — что это стыд и срамота.
— Заткнись! Вот опять эта стерва!
Мы идем известить товарищей о нашей удаче; потом за покупками. Когда мы возвращаемся в новую столовую, там уже хлопочут; готовят завтрак. Барк пошел получать наши доли провизии и благодаря личным связям с главным поваром, хоть и принципиальным противником подобного деления, получил картошку и мясо на пятнадцать человек.
Он купил топленого свиного сала — комок за четырнадцать су: будет жареная картошка. Он еще купил зеленого горошку в консервах: четыре банки. А банка телячьего студня Андре Мениля будет нашей закуской.
— Вкусно поедим! — с восхищением говорит Ламюз.
* * *
Мы осматриваем кухню. Барк с довольным видом ходит вокруг чугунной, тяжело дышащей плиты, занимающей целую стену этого помещения.
— Я поставил еще один котелок, — шепчет он мне.
Он приподнимает крышку.
— Огонь не очень-то сильный. Вот уж полчаса, как я положил мясо, а вода все чистая.
Через минуту он уже спорит с хозяйкой из-за этого добавочного котелка. Хозяйка кричит, что ей теперь не хватает места на плите; ведь солдаты говорили, что им нужна только одна кастрюля; она и поверила; если бы она знала, что будет столько хлопот, она бы не сдала комнаты. Барк добродушно отшучивается, и ему удается успокоить это чудовище.
Один за другим приходят и остальные. Они подмигивают, потирают руки, предаются сладким мечтаниям, предвкушая пир, словно гости на свадьбе.
Попадая с улицы в эту черную конуру, они слепнут и несколько минут стоят растерянные, как совы.
— Не очень-то светло! — говорит Мениль Жозеф.
— Ну, старина, чего тебе еще надо?
Остальные хором восклицают:
— Здесь прямо великолепно!
Все утвердительно кивают головой.
Происшествие: Фарфаде неосмотрительно задел плечом влажную, грязную стену; на куртке осталось большое пятно, такое черное, что его видно даже здесь, хотя темно, как в погребе. Опрятный Фарфаде ворчит и, стараясь больше не прикасаться к стене, натыкается на стол и роняет ложку. Он нагибается и шарит по корявому полу, где годами в тишине оседала пыль и паутина. Наконец ложка найдена; она вся в черной пыли, с нее свисают какие-то нити и волокна. Уронить здесь что-нибудь — это целая катастрофа. Здесь надо двигаться осторожно.
Ламюз кладет между двумя приборами руку, жирную, как окорок.
— Ну, к столу!
Мы приступаем к еде. Обед обильный и тонкий. Гул разговоров смешивается со звоном опорожняемых бутылок и чавканьем полных ртов. Мы наслаждаемся вдвойне: ведь мы едим сидя; сквозь отдушину пробивается свет; он озаряет угол стола, один прибор, козырек, глаз. Я украдкой посматриваю на этот мрачный пир, где веселье бьет через край.
Бике рассказывает, как ему пришлось искать прачку и умолять ее выстирать белье. «Но это стало мне в копеечку!» Тюлак рассказывает, что перед бакалейной лавкой стоит хвост; войти туда не имеешь права; стоишь, как баран в загоне.
— Стоишь на улице, а если ты недоволен и ворчишь, тебя прогоняют.
Какие еще новости? Новый приказ грозит суровыми карами за мародерство и уже содержит список виновных. Вольпата эвакуировали. Солдат призыва девяносто третьего года отправляют в тыл; среди них Пепер.
Барк приносит жареную картошку и сообщает, что у нашей хозяйки за столом едят солдаты — санитары пулеметной роты.
— Они думают, что устроились лучше нас, а на самом деле нам лучше всех, — убежденно говорит Фуйяд, гордо оглядывая гнусную конуру, где так же тесно и темно, как в землянке. (Но кому придет в голову подобное сравнение?)
— Знаете, — говорит Пепен, — ребятам из девятой роты везет! Их держит задаром одна старуха: ее хозяин помер пятьдесят пять лет назад; он был когда-то вольтижером. Говорят даже, что она задаром дала им кролика, и сейчас они едят рагу.
— Хорошие люди есть везде! Но ребятам из девятой роты повезло: они одни в целой деревне попали на постой к хорошим людям!
Пальмира приносит нам кофе. Она к нам привыкает, слушает нас и даже задает угрюмым тоном вопросы:
— Почему вы унтера «сочным» зовете?
Барк поучительным тоном отвечает:
— Так было всегда.
Она уходит; тогда мы высказываем мнение о кофе:
— Что-то жидковато! Даже сахар на дне виден.
— А баба дерет по десяти су!
— Это фильтрованная вода.
Дверь приоткрывается; обозначается светлая щель; показывается голова мальчика. Его подзывают, словно котенка, и дарят ему кусочек шоколада.
— Меня зовут Шарло, — щебечет ребенок. — Мы живем тут рядом. У нас тоже солдаты. У нас всегда солдаты. Мы им продаем все, что они хотят; только вот иногда они напиваются пьяные.
— Малыш, поди-ка сюда! — говорит Кокон и ставит его между своих колен. — Слушай-ка! Твой папаша небось говорит: «Хоть бы война тянулась подольше!» А-а?
— Ну да, — отвечает ребенок, кивая головой, — у нас теперь много-много денег. Папа сказал, что к концу мая мы заработаем пятьдесят тысяч франков.
— Пятьдесят тысяч? Не может быть!
— Правда, правда! — уверяет ребенок. — Он сказал это маме. Папа хочет, чтоб так было всегда. А мама иногда не знает: ведь мой брат Адольф на фронте. Но мы устроим его в тыл, и тогда пусть война продолжается!
Вдруг, прерывая эти признания, из комнат наших хозяев доносятся пронзительные крики. Шустрый Бике идет узнать, в чем дело.
— Это ничего, — возвращаясь, говорит он. — Хозяин разорался на хозяйку за то, что она, мол, порядков не знает: положила горчицу в рюмку, а «так люди не делают».
Мы встаем. В нашем подземелье стоит тяжелый запах табака, вина и остывшего кофе. Едва мы переступаем порог, нам в лицо веет удушливый жар, отягченный запахом растопленного жира; этот чад вырывается каждый раз, как открывают дверь в кухню.
Мы проходим сквозь полчища мух, они облепили стены и при нашем появлении шумно разлетаются.
— Это как в прошлом году!.. Снаружи мухи, внутри вши…
— А ты в этом уверен?
В углу этого грязного домишки, заваленного хламом и пропыленными прошлогодними отбросами, обсыпанного пеплом многих угасших солнц, среди мебели и всякой утвари что-то движется: это старик с длинной шеей, облупленной, шершавой, розовой, как у больной облезлой курицы. У него и профиль куриный: подбородка нет, нос длинный; впалые щеки прикрыты грязно-серой бородой, и большие круглые веки поднимаются и опускаются, словно крышки, на выцветших стеклянных глазах.
Барк его уже заметил.
— Погляди: он ищет клад. Он говорит, что где-то в этой конуре зарыт клад. Старик — свекор хозяйки. Становится вдруг на четвереньки и тычется рылом во все углы. Вот, погляди!
Старик неустанно ворошит отбросы палкой. Он постукивает ею по стенам и кирпичным плиткам пола. Его толкают жильцы этого дома и чужие люди; Пальмира задевает его метлой, не обращая на него внимания, и, наверно, думает про себя, что пользоваться общественным бедствием куда выгодней, чем искать какие-то там шкатулки.
В углублении, у окна, перед старой, засиженной мухами картой России, две кумушки вполголоса поверяют друг другу тайны.
— Да, надо быть осторожной с водкой, — бормочет одна. — Если наливать неловко, не выйдет шестнадцати рюмок на бутылку, и тогда мало заработаешь. Я не говорю, что приходится докладывать из своего кармана; конечно, нет, но меньше зарабатываешь. Чтоб этому помочь, торговцам надо столковаться, но столковаться трудно даже для общей выгоды!
На улице жара, везде рои мух. Еще несколько дней тому назад их было мало, а теперь везде гудят их бесчисленные крошечные моторы. Я выхожу вместе с Ламюзом. Мы решили пройтись. Сегодня нечего делать: полный отдых после ночного перехода. Можно поспать, но гораздо интересней погулять на свободе: ведь завтра опять учение и работы…
Некоторым не повезло: их уже впрягли…
Ламюз предлагает Корвизару пройтись с нами, но Корвизар теребит свой круглый носик, торчащий на узком лице, как пробка, и отвечает:
— Не могу. Я должен убирать дерьмо.
Он показывает на лопату и метлу; согнувшись, задыхаясь от вони, он выполняет обязанности мусорщика и золотаря.
Мы идем вялым шагом. День навис над сонной деревней; в желудках, набитых пищей, тяжело. Мы говорим мало.
Вдруг где-то раздаются крики: на Барка напала целая свора хозяек… На эту сцену робко смотрит бледная девочка; ее косичка — словно из пакли; губы усеяны прыщами от лихорадки. Смотрят и женщины; они сидят у дверей в тени и занимаются жалким рукоделием.
Проходят шесть человек во главе с капралом-каптенармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки сапог.
Ламюз рассматривает свои опухшие, огрубелые ноги.
— Н-да. Мне нужны чеботы, а то эти скоро каши запросят… Не ходить же босиком!
Слышится храп аэроплана. Мы следим за ним; поднимаем головы, вытягиваем шеи; глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять смотрим на землю, Ламюз объявляет:
— От этих штуковин никогда не будет проку, никогда!
— Что ты! За короткое время мы уже достигли таких успехов!..
— Да, но на этом и остановятся. Лучше не сделают никогда.
На этот раз я не спорю: как всегда, невежество решительно отрицает прогресс; я предоставляю этому толстяку считать, что наука и промышленность вдруг остановились на своих необыкновенных достижениях.
Начав поверять мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит:
— Знаешь, Эдокси здесь.
— Да ну?
— Да. Ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил. (Ламюз снисходительно улыбается.) Так вот, знаешь: раз она здесь, значит, кто-то ее интересует. Правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело.
Он продолжает:
— Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня.
— А ты в этом уверен?
— Да, — глухо отвечает человек-бык. — Прежде всего, я ее хочу. А потом, она уже два раза попадалась мне на глаза. Понимаешь? Ты скажешь: она убежала; но ведь она робеет, да еще как…
Он стал посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза. Его лоснящиеся щеки и нос, все его пухлое лицо выражает важность. Он подносит шаровидный кулак к бурым, тщательно закрученным усам и с нежностью поглаживает их. И опять принимается изливать свою душу:
— Я ее хочу… и, знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней. Но, с тех пор как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте… Эх!..
Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства словами.
— Эх, старина! Бывает, что меня надо удерживать крючьями, — мрачно отчеканивает он, и кровь приливает к его жирной шее и щекам. — Она такая красивая, она… А я, я… Она так не похожа на других, ты заметил, я уверен: ты ведь все замечаешь. Правда, она крестьянка, и все-таки в ней есть что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она… Я… Мне…
Он хмурит рыжие брови. Ему хочется выразить все великолепие своих чувств. Но он не умеет изъясняться и замолкает; он одинок, вечно одинок.
Мы идем дальше вдоль домов. У дверей выстроились телеги с бочками. Окна, выходящие на улицу, расцветились пестрыми банками консервов, пучками трута, всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занимаются бакалейной торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан; каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к цифрам, ослеплен умножением.
Раздается колокольный звон. Открывается шествие. Военные похороны. На передке обозной телеги сидит солдат; он везет гроб, покрытый знаменем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском.
— Эх, куцые похороны! — говорит Ламюз. — Здесь поблизости лазарет. Пустеет, ничего не поделаешь. Умершим хорошо! Позавидуешь! Но только иногда, не всегда…
Мы прошли мимо последних домов. За деревней, в поле, расположились полковые обозы. Походные кухни и дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные телеги, одноколка почтальона.
Вокруг всех этих повозок теснятся палатки ездовых и сторожей. Между ними, на голой земле, стоят кони и стеклянными глазами смотрят на клочок неба. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся в развороченном поле, где параллельные и дугообразные колеи каменеют на солнце; везде уже валяются отбросы.
На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно подумать, что это роскошный ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других.
Это знаменитый стоматологический фургон, который искал Блер.
А вот и сам Блер; он его разглядывает. Он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит с фургона глаз. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной раскрашенной лестнице к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:
— Эй, толстозадый, эта колымага — зубоврачебная?
— Здесь написано, — отвечает Самбремез, дородный коротышка, чистый, выбритый, с тяжелым белым подбородком. — Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.
Блер подходит и разглядывает это учреждение.
— Ишь штуковина! — говорит он.
Он подходит еще раз, отходит, колеблется, прежде чем доверить свою челюсть врачу. Наконец решается, ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.
* * *
Мы идем дальше… Сворачиваем на тропинку, где высокие кустарники обсыпаны пылью. Шумы затихают. Солнце парит, жарит и печет дорогу, расстилает ослепительные жгуче-белые полосы и трепещет в безоблачном синем небе.
На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и прямо перед нами Эдокси!
Ламюз испускает глухое восклицание. Может быть, он опять воображает, что она ищет именно его, он еще верит в какую-то милость судьбы. Всей своей громадой он направляется к Эдокси.
Она останавливается среди боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу; веки великолепных глаз бьются. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом, эта женщина вблизи в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи привлекает и поражает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.
— Скажите!.. Я хочу вам сказать!.. — задыхаясь, говорит Ламюз. — Вы мне так нравитесь!..
Он протягивает руку к желанной женщине.
Она с отвращением отшатывается.
— Оставьте меня в покое! Вы мне противны!
Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается ее вырвать. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз тянется к ней, вытягивает шею. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.
Но она отбивается, испускает приглушенный крик; ее шея вздрагивает; прекрасное лицо обезображено злобой.
Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.
— Вы с ума сошли! — кричит ему Эдокси.
— Нет! — стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.
— Чтоб это больше не повторялось, слышите! — кричит она.
Она уходит, все трепеща; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит там, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, очнулся и уже не смеет молить.
Я веду его с собой. Он плетется молча, сопит, тяжело дышит, словно долго бежал.
Он опускает большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает бедного циклопа, который когда-то бродил на древних берегах Сицилии, похожий на чудовищную игрушку, осмеянный и покоренный сияющей девушкой-ребенком…
Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров часовым. Лицо у него желтое, плоское, как сыр камамбер; редкие волосы превратились в пыльные волокна; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, под крылом покачивающейся скрипучей дощечки, на которой написано ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле.
— Поганая морда! — восклицает Бигорно. — И знаешь, что я тебе скажу? Столько «шпаков» как ни в чем не бывало болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!
— Ты загибаешь, вошь летучая! — отвечает Корне.
— Помалкивай, старая подметка! — настаивает Бигорно. — Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.
— А Пепер отправляется в тыл, — говорит Канар.
— Здешние бабы все — рожи, — бормочет Ла Моллет.
Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за петлями и поворотами двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега неожиданно посыпались в жаркий день.
* * *
Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.
Они сообщают, что повар Пепер отправляется в тыл, по закону Дальбьеза, и зачисляется в ополчение.
— Вот теплое местечко для Блера! — говорит Карасюс, у которого забавный большой нос совсем не соответствует лицу.
По деревне кучками или парами проходят солдаты; их соединяет переплетенными нитями беседа.
Отдельные солдаты подходят друг к другу, расходятся, потом сходятся опять, словно их притягивает друг к другу магнит.
Вдруг бешеная толкотня: в толпе взлетают белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.
К нам подходит Бике; одет не по форме: в куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.
— Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра придется опять приниматься за работу, и первым делом надо будет почистить свое барахло и винтовку. С одной только шинелью сколько будет возни! Это уже не шинель, а какая-то бронированная подкладка.
Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:
— Эй, стрекулист! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Никогда не усидит на месте. Юла!
— Не могу ж я поспеть всюду зараз, толстый мешок! Давай-ка сюда!
Он рассматривает конверт, взвешивает письмо в руке и, распечатывая его, сообщает:
— Это от моей старушки!
Мы замедляем шаг. Бике читает, водит пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.
Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнер и стрелок Клодор. Ламюз кажется слепым и глухим; он способен только двигаться.
Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:
— Знаешь, Пепер отправляется в тыл!
— Забавно, как они там ничего не знают! — говорит Бике, отрываясь от письма. — Старуха обо мне беспокоится.
Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо, — читает он по складам, — ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен!..»
Он смеется.
— Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня отличная погода. Нам не плохо: у нас своя столовка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.
Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество душ. Только показалось солнце, только почувствовали мы луч света и устроились чуть поудобней, и вот ни мучительное прошлое, ни ужасное будущее больше не существуют… «Теперь нам хорошо». С плохим покончено.
Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные, круглые буквы на маленьком листке.
— Если бы ты знал, что я пишу моей старушке, ты бы посмеялся, говорит он.
Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.
VI
ПРИВЫЧКИ
Мы царим на птичьем дворе.
Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины, у конуры, где копошится пес. А черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами; виден ее профиль с мигающей блесткой зрачка; кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Ее перья переливаются черным блеском, как волосы цыганки; за ней тащится выводок цыплят.
Эти легкие желтые шарики бросаются под ноги матери короткими, быстрыми шажками и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери.
— Плохой признак! — говорит Паради. — Если цыпленок задумался, значит, он болен.
Паради то закидывает ногу на ногу, то расправляет их.
Рядом, на скамье, Блер потягивается, зевает во весь рот и опять принимается глазеть; он больше всех любит наблюдать за птицами: они живут так мало и так спешат наесться.
Да и все мы смотрим на них и на старого, общипанного, вконец истасканного петуха; сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая, ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит «нет!» — и сердито клохчет, то наблюдает за ним голубыми глазами, похожими на маленькие эмалированные циферблаты.
— Хорошо здесь! — говорит Барк.
— Гляди, вот утята! — отвечает Блер. — Они забавные, чудные!
Проходит вереница крошечных утят; это еще почти яйца на лапках; большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце.
Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них глубокими честными черными глазами, в которых под косым лучом солнца светится прекрасный рыжий блик.
За этим двором, через выемку в низкой стене, виден плодовый сад; зеленая густая влажная трава покрывает жирную землю; дальше высится стена из зелени, украшенная цветами, белыми, как статуи, или пестрыми, как банты. Еще дальше — луг, где вытянулись зелено-черные и зелено-золотистые тени тополей. Еще дальше — грядка торчком вставшего хмеля и грядка сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик вопреки басням поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство.
С вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты.
Солдаты сидят на каменной скамье и, прищурив глаза, с наслаждением потягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане.
— Мы здесь уже семнадцать дней! А мы-то думали, что нас вот-вот отсюда отправят!
— Никогда нельзя знать! — говорит Паради, покачивая головой, и щелкает языком.
В открытые ворота виднеется куча солдат; они разгуливают, задрав нос, и наслаждаются солнцем, а дальше в одиночку ходит Теллюрюр. Он выступает посреди улицы; колыхая пышным животом, ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины, он обильно заплевывает землю.
— А мы еще думали, что здесь будет плохо, как на других стоянках. Но на этот раз настоящий отдых: и погода соответственная, и вообще хорошо.
— И занятий и работ не так уж много.
— Иногда приходишь сюда отдохнуть.
Старичок, сидящий на краю скамьи (это не кто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда), подвигается к нам и поднимает палец.
— Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались, — утверждает он, покачивая головой. — Ну и перебывало же у меня бабенок!
— А-а! — рассеянно говорим мы: от этой старческой болтовни наше внимание кстати отвлек грохот нагруженной, тяжело подвигающейся телеги.
— А теперь, — продолжает старик, — я думаю только о деньгах.
— Ах да, вы ведь ищете клад, папаша.
— Конечно, — говорит старик.
Он чувствует наше недоверие.
Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и показывает на дом.
— Глядите, — говорит он, показывая на какое-то насекомое, ползущее по стене. — Что этот зверь говорит? Он говорит: «Я — паук, я тку нитки богородицы».