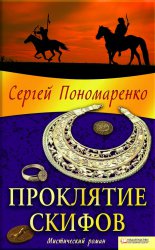Огонь (сборник) Барбюс Анри
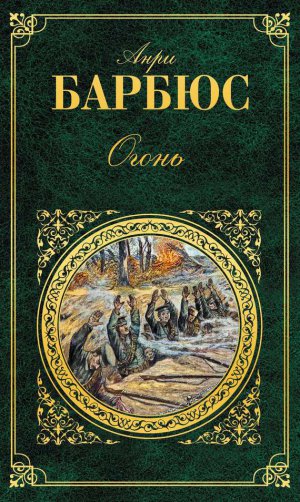
— Нет!
* * *
В эту минуту слышится глухой шум. Вокруг раздаются крики; мы вздрагиваем.
Целая глыба земли оторвалась от пригорка, к которому мы кое-как прислонились. И среди нас появился труп. Он сидит, вытянув ноги.
От обвала вода, скопившаяся на верхушке бугра, прорвалась, потоками полилась на труп и на наших глазах омыла его.
Мы кричим:
— У него совсем черное лицо!
— Что это за лицо? — задыхаясь, спрашивает кто-то.
Живые собираются в кружок, как жабы. Эту голову, выступающую, словно барельеф, на стене, обнаженной обвалом, невозможно разглядеть.
— Лицо? Да ведь это не лицо!
Вместо лица — волосы.
Вдруг мы замечаем, что этот как будто сидящий труп лежит на животе, согнут и вывернут.
Молча, в ужасе мы глядим на эту вертикальную спину вывихнутого трупа, торчащую вместо груди, на повисшие, закинутые назад руки и вытянутые ноги, упирающиеся в мокрую землю кончиками пальцев.
Наш спор, прерванный появлением этого страшного мертвеца, возобновляется. Кто-то яростно кричит, как будто труп его слушает:
— Нет! Надо одолеть не бошей, а войну!
— Что ж, ты не понимаешь, что надо раз навсегда покончить с войной? Если это откладывать, все, что мы сделали, пойдет прахом. Ни к чему. Пройдут еще два или три года, или еще больше, а мы все будем мучиться понапрасну.
* * *
— Эх, брат, если все, что мы вынесли, еще не конец этой великой беды, лучше умереть. Я дорожу жизнью: у меня жена, дети, дом, у меня виды на будущее после войны… И все-таки уж лучше умереть.
— Я умру сейчас, — как эхо, отзывается сосед Паради (он, наверно, взглянул на свою рану), — мне жалко умирать, ребят жалко!
— А мне, — шепчет другой, — не жалко умирать: я умираю ради своих детей. Я умру; значит, я знаю, что говорю, и я говорю: «Им не придется воевать!»
— А я, может быть, не умру, — говорит третий, весь трепеща от надежды, которую не может скрыть даже перед обреченными, — но я буду мучиться. Так вот, я говорю: «Тем хуже»; я даже говорю: «Тем лучше»; я готов страдать еще больше, если буду знать, что это на что-нибудь пригодится! — Значит, после войны придется еще воевать?
— Да, может быть…
— А ты хочешь еще драться?
— Да, потому что я больше не хочу войны, — ворчит кто-то.
— И придется драться, может быть, не с иностранцами.
— Да, может быть…
Налетает порыв ветра сильней других; мы закрываем глаза и задыхаемся. Но шквал уносится, подхватывая, как добычу, и подбрасывая комья грязи, взбаламучивая воду в траншеях, зияющих, как могила целой армии. Мы продолжаем:
— В конце концов, в чем величие войны?
— В величии народов.
— Но ведь народы — это мы!
Солдат, сказавший это, вопросительно смотрит на меня.
— Да, — отвечаю я, — да, друг, правильно! Сражаются только нашими руками. Материал войны — это мы. Война состоит только из плоти и душ простых солдат. Это мы образуем целые равнины мертвецов и реки крови, все мы, и каждый из нас незаметен: ведь нас великое множество. Опустошенные города, разрушенные деревни, вся эта пустыня — мы. Да, всё это мы, только мы!
— Война — это народы; без них не было бы ничего, ничего, кроме какой-нибудь перебранки на расстоянии. Но решают войну не народы, а хозяева, которые ими правят.
— Теперь народы борются за то, чтоб избавиться от этих хозяев!
— Значит, мы работаем и на пруссаков тоже?
— Да, надо надеяться, что и на них, — отвечает кто-то из этих несчастных солдат.
— Ну, нет, черта с два! — заскрежетав зубами, восклицает стрелок.
Он покачивает головой и замолкает.
— Позаботимся о себе! Не надо совать нос в чужие дела, — сердито бурчит упрямец.
— Нет, надо… Ведь те, кого ты называешь «чужими», совсем не чужие, а такие же люди, как и мы!
— Почему это всегда мы работаем на всех и за всех?
— Да так, — отвечает кто-то и повторяет: — Тем хуже или тем лучше!
— Народы — ничто, а они должны стать всем, — говорит солдат, вопросительно глядевший на меня; он произнес, не подозревая этого, историческую фразу, которой больше ста лет, но придал наконец этим словам великий всемирный смысл.
И человек, спасшийся от бури, встает на четвереньках в грязи, поднимает голову; лицо у него обезображено, как у прокаженного. Он жадно вглядывается в беспредельные дали.
Он глядит, глядит. Он старается открыть врата неба.
* * *
— Народы должны столковаться через головы тех, кто так или иначе их угнетает. Одно великое множество должно столковаться с другим.
— Все люди должны наконец стать равными.
Эти слова приходят к нам на помощь.
— Равными… Да… Да… Существуют великие начала справедливости, истины. В них веришь, обращаешься к ним, как к свету. И главное начало равенство.
— Есть еще свобода и братство.
— Но главное — это равенство!
Я говорю им, что братство — мечта, смутное чувство, лишенное содержания; человеку не свойственно ненавидеть незнакомца, но так же не свойственно его любить. На братстве ничего не построишь. На свободе тоже; она слишком относительна в обществе, где все неизбежно зависят друг от друга.
Но равенство всегда остается самим собой. Свобода и братство — только слова, а равенство — это нечто существенное. Равенство — это великая формула людей.
Эти люди из народа провидят еще неведомую им Революцию, превосходящую все прежние; они сами являются ее источником: слово уже поднимается, поднимается к их горлу, и они повторяют:
— Равенство!..
Они как будто по слогам произносят это слово: они ясно читают его везде, и любой предрассудок, преимущество и несправедливость рушатся от одного соприкосновения с ним. Это ответ на все, это — величественное слово. Они повторяют его на все лады и находят его совершенным. И даже взрывы снарядов сверкают для них ослепительным светом.
— Это было бы прекрасно! — восклицает один.
— Это слишком прекрасно и потому несбыточно! — говорит другой.
Но третий возражает:
— Это прекрасно потому, что это — истина. Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота сейчас не в ходу, как и любовь. Это неизбежно потому, что это — истина.
— Что ж, раз народы хотят справедливости и раз народы — сила, пусть же они установят царство справедливости.
— За это уже принялись! — говорит кто-то.
— Это дело не за горами, — возвещает другой.
— Когда все люди станут равными, им придется объединиться.
— И тридцать миллионов людей больше не будут совершать, против собственной воли, чудовищные преступления.
Это правда. Тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелятся противопоставить словам: «И тридцать миллионов людей больше не будут совершать, против собственной воли, чудовищные преступления»?
Я слушаю, слежу за развитием мысли этих людей, заброшенных на это поле скорби; эти слова исторгнуты раной, болью, эти слова истекают кровью.
И вот небо мрачнеет. Внизу от тяжелых туч оно синеет и покрывается броней. Вверху, на небольшой светящейся полоске, его пересекают вихри водяной пыли. Погода портится. Опять польет дождь. Буря и страдания все еще не кончились.
Кто-то говорит:
— Нас спросят: «В конце концов для чего воевать?» Для чего, мы не знаем; но для кого, это мы можем сказать. Ведь если каждый народ ежедневно приносит в жертву идолу войны свежее мясо полутора тысяч юношей, то только ради удовольствия нескольких вожаков, которых можно по пальцам пересчитать. Целые народы, выстроившись вооруженным стадом, идут на бойню только для того, чтобы люди с золотыми галунами, люди особой касты, могли занести свои громкие имена в историю и чтобы другие позолоченные люди из этой же сволочной шайки обделали побольше выгодных делишек, словом, чтоб на этом заработали вояки и лавочники. И как только у нас откроются глаза, мы увидим, что между людьми существуют различия, но не те, какие принято считать различиями, а другие; тех же, что принято считать различиями, не существует.
— Слушай! — вдруг прерывают его.
Мы замолкаем и слушаем вдали грохот пушек. От гула сотрясаются слои воздуха, и эта далекая сила слабо доносится до нас, а вокруг вода заливает и заливает землю и медленно достигает высот.
— Опять начинается!..
Один из нас говорит:
— Эх, с чем только не придется бороться! Все будет против нас!
В трагической беседе этих затерянных людей, которая разворачивается здесь, словно шедевр великого драматурга — судьбы, чувствуется беспокойство, колебание. Они предвидят не только страдания, опасности, бедствия, но еще враждебность явлений и людей правде, нагромождение преимуществ, невежество, глухоту, злую волю, предвзятую мысль и черствость хорошо устроившихся людей, и грозные общественные положения, и неприступные твердыни, и непроходимые преграды.
И в ходе смутных мыслей возникает видение: вечные противники выходят из мрака прошлого и вступают в грозовой мрак настоящего.
* * *
Вот они!.. Кажется, будто в небе, на гребнях туч, облекших мир в траур, показывается кавалькада ослепительных воинов. Они мчатся на великолепных боевых конях, мечут молнии, сверкают оружием, доспехами, галунами, султанами, коронами… Эта воинственная, старомодная кавалькада прорезает облака, повисшие в небе, как грозные театральные декорации.
А внизу солдаты, покрытые пластами грязи с земного дна и с опустошенных полей, лихорадочно следят, как эти призраки появляются со всех концов горизонта, и оттесняют беспредельное небо, и заслоняют синюю даль.
Имя им — легион. Там не только сословие воинов, которые призывают к войне и обожествляют ее, не только те, кого всемирное рабство облекло волшебной властью, не только короли золота, которые высятся над простертым у их ног человечеством и внезапно направляют ход истории, предвкушая крупный барыш; там их целая толпа; сознательно или бессознательно — она состоит на службе у обладателей этих грозных преимуществ.
— Там, — восклицает один из мрачных собеседников, вытягивая руку, словно видя это воочию, — там те, кто говорит: «Как они прекрасны!»
— И те, кто говорит: «Народы друг друга ненавидят!»
— И те, кто говорит: «От войны я жирею, мое брюхо растет!»
— И те, кто говорит: «Война всегда была, значит, она всегда будет!»
— И те, кто говорит: «Дети рождаются в красных французских или синих немецких штанах!»
— И те, кто говорит: «Опустите голову и верьте в бога!»
* * *
Да, вы правы, бедные бесчисленные труженики битв, вы проделали всю эту войну, вы — всемогущая сила, которая пока еще не служит добру, вы — земная толпа, где каждый лик — целый мир скорби, вы мечтаете под небом, где разрываются и развеваются большие черные тучи, взлохмаченные, как злые ангелы, вы грезите, согнувшись под ярмом какой-то мысли! Да, вы правы! Все это против вас. Против вас и вашего великого общего блага, а оно вполне совпадает со священной логикой. Против вас не только вояки, размахивающие саблей, дельцы и торгаши.
Против вас не только чудовищные хищники, финансисты, крупные и мелкие дельцы, которые заперлись в своих банках и домах, живут войной и мирно благоденствуют в годы войны, упершись лбом в тупую доктрину, замкнув свою душу, как свой несгораемый шкаф.
Против вас и те, кто восхищается сверкающими взмахами сабель, кто любуется, как женщины, ярким мундиром. Те, кто упивается военной музыкой или песенками, которыми угощают народ, как стаканчиками вина; все ослепленные, слабоумные, фетишисты, дикари.
Против вас и те, кто погружается в прошлое и говорит только словами былых времен, традиционалисты, для которых злоупотребление приобретает силу закона только потому, что оно освящено обычаем; те, кто хочет жить по воле мертвецов и старается подчинить власти привидений и нянькиных сказок живое, страстное движение вперед.
С ними все священники, которые стараются возбудить или усыпить вас морфием своего рая, лишь бы ничто не изменилось.
Они извращают великое нравственное начало: сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав ее национальной! Они искажают даже истины. Вечную истину они подменяют каждый своей национальной истиной. Сколько народов — столько истин, которые исключают одна другую и выворачивают наизнанку настоящую истину.
Все эти люди — ваши враги!
Они вам враги больше, чем немецкие солдаты, что лежат среди нас: ведь это только несчастные, гнусно одураченные бедные люди…
Они вам враги, где б они ни родились, как бы их ни звали, на каком бы языке они ни лгали. Ищите их на небе и на земле! Ищите их всюду! Узнайте их хорошенько и запомните раз навсегда!
* * *
Человек стоит на коленях; он согнулся, уперся обеими руками в землю, отряхивается, как дог, и ворчит:
— Они тебе скажут: «Друг мой, ты был замечательным героем!» А я не желаю, чтоб мне это говорили! Герои? Какие-то необыкновенные люди? Идолы? Брехня! Мы были палачами. Мы честно выполняли обязанности палачей. И, если понадобится, еще будем усердствовать, чтобы настоящие враги жили припеваючи. Убийство всегда гнусно, иногда оно необходимо, но всегда гнусно. Да, мы были суровыми, неутомимыми палачами! И пусть меня не называют героем за то, что я убивал немцев!
— И меня тоже! — кричит другой так громко, что никто не мог бы ему возразить, даже если б осмелился. — И меня тоже пусть не называют героем за то, что я спасал жизнь французам! Как? Неужели надо обожествлять пожар, потому что красиво спасать погибающих?
— Преступно показывать красивые стороны войны, даже если они существуют! — шепчет какой-то мрачный солдат.
— Эти сволочи назовут тебя героем, — продолжает первый, — чтобы вознаградить тебя славой за подвиги, а самих себя — за все, чего они не сделали. Но военная слава даже не существует для нас, простых солдат. Она только для немногих избранников, а для остальных она — ложь, как все, что кажется прекрасным в войне… В действительности, самопожертвование солдат — только безыменное истребление. Солдаты — толпа, волны, которые идут на приступ: для них награды нет. Они низвергаются в страшное небытие славы. Даже не придется когда-нибудь собрать их имена, их жалкие, ничтожные имена.
— Плевать нам на это! — отвечает другой. — У нас есть другие заботы.
— А посмеешь ли ты хотя бы высказать им это? — хрипло кричит солдат, все лицо которого скрыто под корой грязи. — Если ты это скажешь, тебя проклянут и сожгут на костре! Ведь для них военный мундир — новое божество, но оно — такое же злое, глупое и вредоносное, как и все боги.
Этот солдат приподнимается, падает на землю и опять привстает. Под мерзкой корой у него сочится рана; он пятнает землю кровью; он расширенными глазами всматривается в кровь, которую пожертвовал на исцеление мира.
* * *
Остальные один за другим встают. Туча темнеет и надвигается на обезображенные, измученные поля. День полон ночи. И кажется, там, на гребнях туч, вокруг призрачных варварских крестов и орлов, церквей, бирж, и дворцов, и храмов войны, беспрестанно появляются все новые и новые враги; их все больше; они заслоняют звезды, которых меньше, чем людей. И даже кажется, что эти выходцы с того света копошатся во всех выбоинах, среди живых существ, которые брошены сюда и почти зарыты в землю, как зерна.
Мои еще живые спутники наконец встают; они еле держатся на ногах; они закованы в грязную одежду, втиснуты в страшные гробы из грязи; во всей своей страшной простоте они подымаются с земли, глубокой, как невежество, они движутся и кричат, напрягая взоры, поднимая кулаки к небу, откуда исходит свет и непогода. Они отбиваются от победоносных призраков: ведь они еще Сирано де Бержераки и Дон-Кихоты.
Земля грустно поблескивает; тени шевелятся и отражаются в бледной стоячей воде, затопившей окопы, среди полярной пустыни, где дымятся дали.
Но глаза этих людей открылись. Солдаты начинают постигать бесконечную простоту бытия.
И пока мы собираемся догнать других, чтобы снова воевать, черное грозовое небо тихонько приоткрывается. Между двух темных туч возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все-таки является вестью, что солнце существует.
Декабрь 1915 года