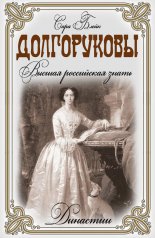Декабристы. Беспредел по-русски Щербаков Алексей
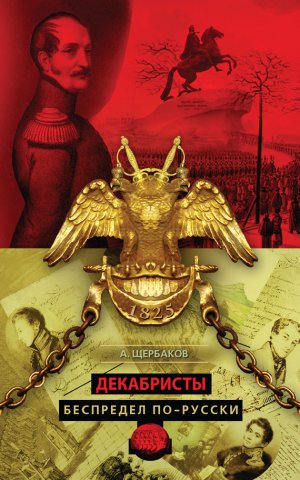
Что все-таки делает диктатор? Ведет себя очень странно: наблюдает за происходящим со своего рабочего места – из здания Генерального штаба. (Тогда не было Александровского сада, и оттуда все было видно как на ладони.) Время от времени он выбегает на Дворцовую площадь. Крутится там, мнется – и возвращается обратно. Казалось бы, ладно: в последний момент струсил. Ну и прикинулся бы больным или просто уехал куда-нибудь. Или побежал бы каяться к Николаю. А он – ни туда ни сюда… Совесть мучила, а страх не пускал?
А если предположить, что было ему нечто обещано его высокими друзьями? Что, если он ждал какого-то дополнительного поворота событий? И постепенно понимал, что его обыкновенно «кинули».
Еще интереснее с Рылеевым: он, уже зная, что дело проиграно, направляет на смерть еще 1200 солдат. А сам исчезает. Зато на площади все еще остаются Каховский и Оболенский, – которые ведут себя очень агрессивно. И до предела обостряют и без того безнадежную ситуацию.
И ладно, если бы Рылеев вернулся «умирать за свободу», как он патетически клялся товарищам за несколько дней до мятежа. Так ведь нет: он мчится к себе на квартиру и сидит там тише воды, ниже травы.
В голову приходят два объяснения. Первое – у него был простой и циничный расчет: на площади делать уже нечего. Но остается надежда, что Панов возьмет Зимний дворец (и ведь это чуть было не произошло!). Но тогда императорскую семью В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ придется немедленно ликвидировать. Тут уж лучше руководить издали.
Второе. Если восстание проваливается – его будут подавлять. И чем больше безобразий устроят мятежники на площади – тем лучше для тех из заговорщиков, кого на площади не окажется. Ведь как, по логике, должен был бы вести себя Николай? Тут же, не теряя времени, бросить на восставших войска. В таких заварухах пленных, как правило, не берут. А значит – СВИДЕТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ ОСТАНЕТСЯ. Легче будет «отмазаться» в случае чего. Это, мол, не я, это они. Не для этого ли были все его рассуждения вроде «умрем за свободу»?
Может, и Трубецкой ждал именно такой развязки? Кто же знал, что Николай проявит такой (почти невероятный) гуманизм?
3. Огонь на поражение
Итак, первыми из правительственных войск на площади показались кавалергарды. Благо их казармы находились рядом. Встав у ограждения строящегося Исаакиевского собора, они стали ждать распоряжений начальства.
Интересно, что в рядах кавалергардов стояли как минимум трое членов Северного общества – поручик Иван Анненков, корнеты Дмитрий Арцыбашев и Александр Муравьев[15]. К восставшим они не перебежали. Командовал кавалергардами Алексей Орлов[16], родной брат видного декабриста. Может, потому и атаковали они так вяло.
Около часа подходит Морской экипаж, потом и гренадеры. Гренадеры – в два этапа. Это был критический момент восстания. Именно тогда декабристы все-таки МОГЛИ победить.
Вот как об этом рассказывает Николай Павлович: «Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам – гвардейскому и учебному. Не доехав еще до дома Главного Штаба, увидел я в совершенном беспорядке со знаменами без офицеров Лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить; но на мое «Стой!» отвечали мне:
– Мы – за Константина!
Я указал им на Сенатскую площадь и сказал:
– Когда так, – то вот вам дорога.
И вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим одинако заблужденным товарищам. К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца, и участь бы наша была более чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются после; тогда же один Бог меня наставил на сию мысль.
Милосердие Божие оказалось еще разительнее при сем же случае, когда толпа лейб-гренадер, предводимая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Они дошли до главных ворот дворца в некотором устройстве, так что комендант почел их за присланный мною отряд для занятия дворца. Но вдруг Панов, шедший в голове, заметил лейб-гвардии саперный батальон, только что успевший прибежать и выстроившийся в колонне на дворе, и, закричав: «Да это не наши!» – начал ворочать входящие отделения кругом и бросился бежать с ними обратно на площадь. Ежели б саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, тогда как занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепятствовать. Из сего видно самым разительным образом, что ни я, ни кто не могли бы дела благополучно кончить, ежели б самому милосердию Божию не угодно было всем править к лучшему».
А на площади стало шумно и людно. По периметру сгруппировались многочисленные зрители. Кроме кавалергардов, правительственных войск не было. Они только подтягивались. Зато появился генерал Милорадович. Он подлетел к манежу на санях, там пересел на кавалергардскую лошадь, подъехал к каре восставших и стал уговаривать их разойтись. Как мы помним, в период междуцарствия генерал занимал непростую позицию; он – возможно, в силу искреннего убеждения – сыграл на руку мятежникам, фактически вынудив Николая присягнуть Константину: «Император не может передавать власть по духовному завещанию». Другое дело, что эти мысли ему могли ненавязчиво внушить добрые люди…
Однако Милорадович был старым боевым генералом и привык подчиняться приказам. Вопрос решился: новая присяга принята. А мятеж – это непорядок, который он, как губернатор Петербурга, должен прекратить.
Милорадович обратился к восставшим с речью. Он знал, что в войсках его любят, и говорил с солдатами по-свойски. Упрекая их в измене, генерал, между прочим, сказал, что и сам предпочел бы видеть императором Константина, но что делать… Поэтому кончайте, ребята, свою волынку.
Первым к генералу бросился Оболенский, который, начав с предложения удалиться, внезапно перешел к активным действиям и легко ранил Милорадовича штыком в ногу. И тут грянул выстрел Каховского. Генерал зашатался, припал и начал сползать с коня. Его отнесли в манеж, где около четырех часов дня он умер. До самого конца он благодарил Бога за то, что смертельную пулю выпустил в него не солдат.
Вот так: всю жизнь говорил, что пуля для него не отлита, без единой царапины прошел десятки страшных сражений. И никак не ожидал погибнуть вот таким вот образом.
Между тем продолжали подтягиваться верные Николаю войска. В результате на площади встали следующие правительственные силы: Преображенский, Финляндский и Кавалергардские полки, а также оставшаяся верной часть Московского полка. Позже подошел и Семеновский полк. У императора было около девяти тысяч человек. Вполне достаточное соотношение сил для успешной атаки. Но Николай медлил…
Стандартное объяснение: царь не решался атаковать, поскольку не был уверен в надежности своих войск.
А с чего бы ему не быть уверенным? Он спокойно находился среди них с малолетним сыном на руках – будущим императором Александром II. К тому же Николая можно обвинять в чем угодно, но только не в отсутствии личного мужества. В 1831 году, во время «холерного бунта», он, стоя в открытой коляске без всякой охраны, успокаивал обезумевшую полупьяную толпу, наполовину состоявшую из воров и бомжей с Сенной площади[17].
Так что более правдоподобным выглядит объяснение, что он «не хотел начинать свое царствование с крови».
Так или иначе, Николай продолжал попытки решить дело миром. Для начала к нему послали Якубовича, который явился вроде бы каяться. Николай Павлович в своих записках вспоминал это так: «В сие время заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Подозвав его к себе, узнал, что он Якубовский, но, не знав, с какой целью он тут был, спросил его, чего он желает. На сие он мне дерзко сказал:
– Я был с ними, но, услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.
Я взял его за руку и сказал:
– Спасибо, вы ваш долг знаете.
От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнано было, что настоящее намерение его было под сей личиной узнавать, что среди нас делалось, и действовать по удобности».
Пытался успокоить мятежников и митрополит Серафим, но Каховский послал его чуть не матом.
Между тем продолжались попытки уговорить мятежников разойтись по-хорошему. Следующим «переговорщиком» был генерал от кавалерии Александр Воинов, командир гвардейского корпуса. Его попытки тоже были прерваны выстрелом. На этот раз стрелял Вильгельм Кюхельбекер, но он только ранил генерала.
Интересно все-таки складывалось: стоят люди, приведшие сюда откровенным обманом три тысячи солдат. Стоят, находясь, повторюсь, в безнадежной ситуации. И откровенно нарываются. Ну ладно: раньше было вранье «во имя великой цели». Но теперь-то зачем подставлять невинных людей? Представителей того самого народа, о счастье которого они столько болтали?
Как бы поступили восставшие, будь они и на самом деле благородными людьми? Они выговаривали бы приемлемые условия сдачи, например: делайте с нами, что хотите, но дайте слово, что солдат преследовать не будете, они не виноваты, мы их обманули (Николай дал бы такое слово. И сдержал бы его). Так ведь нет – жизнь нормально прожить не вышло, так решили хоть помереть с шумом.
А власти все пытались решить дело миром. Следующий «переговорщик» – полковник Стюрлер, командир Финляндского полка. Снова стреляет Каховский. И снова без промаха. Еще один убитый.
Заметим: среди декабристов жертв пока нет. Ни одного убитого или раненого.
Далее уговаривать мятежников едет сам великий князь Михаил. Он рвался и раньше, но Николай его не пустил. Теперь – позволил. Вот как это описывает барон А. Н. Корф: «Великий князь снова изъявил желание переговорить сам с мятежниками, и государь не мог сему более воспротивиться, но придал своему брату генерал-адъютанта Левашова. Подъехав к рядам Морского экипажа, великий князь приветствовал их обыкновенным начальничьим тоном, и из толпы мятежников раздалось дружное:
– Здравия желаем, ваше Императорское Высочество!
– Что с вами делается, и что вы это задумали? – спросил он. И люди стали объяснять, что две недели тому назад им объявили вдруг о смерти государя Александра Павловича, когда никто из них не слыхал еще и про его болезнь; потом заставили присягнуть государю Константину Павловичу, и они это исполнили безропотно; а наконец теперь, уверяя, будто Константин Павлович не захотел их присяги и отказался царствовать, заставляют их присягать опять другому государю. Великий князь напрасно усиливался уничтожить эти сомнения заверением, что Константин Павлович точно по доброй воле отрекся от престола; что он, великий князь, был личным тому свидетелем; что вследствие того и сам он присягнул уже новому государю и т. и.
– Можем ли же мы, Ваше Высочество, – продолжали они, – взять это на душу, когда тот государь, которому мы присягнули, еще жив, и мы его не видим? Если уж присягою играть, так что ж после того останется святого?
– Мы готовы верить Вашему Высочеству, – отвечали несчастные жертвы, ослепленные настойчивыми внушениями своих начальников, – да пусть Константин Павлович сам придет подтвердить нам свое отречение, а то мы не знаем даже, и где он».
Неизвестно, чем бы это все кончилось, но тут снова вылез убийца. На этот раз подошла очередь Кюхельбекера. Он стал целиться в Михаила. Но матросы выстрелить не дали.
Корф продолжает: «Что он тебе сделал? – закричали они, и один вышиб из рук Кюхельбекера пистолет, а оба другие начали бить его прикладами своих ружей. Имена этих людей – Дорофеев, Федоров и Куроптев. По настоятельному ходатайству самого великого князя преступник подвергнут был наказанию слабейшему, нежели какое следовало по закону, а избавители его и их семейства щедро были им упокоены и обеспечены…»
4. Кровь на льду
Все это время вокруг клубилось множество народа. Реагировали зрители по-разному: большинство относилось к происходящему достаточно равнодушно, воспринимая это как бесплатный цирк. Были и те, кто, как это писали в советских книгах, «поддерживали декабристов», – из толпы в кавалергардов летели поленья и булыжники: это подтянулись революционно настроенные массы. Они всегда есть в любом большом городе и с удовольствием ввязываются в любые беспорядки. Во время упоминавшегося «холерного бунта» именно эти массы были главными погромщиками. Так что Якубович был не так уж не прав, предлагая разбивать кабаки: тогда революция получилась бы куда более веселой.
Но кроме обычной шпаны имелась еще и шпана благородного происхождения. О них в «житийных» книгах говорится: «некоторые люди из толпы присоединились к декабристам». К примеру, Осип-Юлиан Горский. Случайно оказался рядом с площадью, достал пистолет и полез бороться за народное счастье. Или решил сражаться за свободу родной Польши. По специальности он был мелким юридическим агентом (ходатай по делам), но для красоты присвоил себе графский титул. Некоторое время трудился вице-губернатором на Кавказе, но быстро вынужден был «сделать оттуда ноги», чтобы не пойти под суд. Потом прославился тем, что завел себе гарем из трех крепостных крестьянок, причем обращался с ними так, что те бежали и просили защиты у властей. Затем завел себе какую-то несовершеннолетнюю… За недолгое время пребывания в Питере успел так прославиться, что приличные люди обходили его стороной. Вот такой благородный пан присоединился к декабристам, махал пистолетом и орал «да здравствует свобода». А потом «безвинно пострадал от царских сатрапов».
Или возьмем Александра Глебова, коллежского секретаря, владельца большого, но заложенного имения. Он был из тех, кто что-то слышал о готовящемся выступлении и заранее явился на место действия. Когда пришел Московский полк, Глебов с обнаженной шпагой в руке затесался в число мятежников. Покричал о свободе, дал солдатам сто рублей на водку. Но когда напротив начали строиться кавалергарды, решил, видимо, что становится слишком «весело», – и благополучно убрался.
Затесались к декабристам и еще более интересные персонажи. Например, гражданин Великобритании Эдуард Буль. Что ему нужно было в чужой разборке – так и осталось невыясненным. После подавления восстания его, продержав три месяца в кутузке, просто выслали из страны. Погорячились: ведь за Польским обществом стояли англичане. Так что, возможно, отсутствие интереса к личности мистера Буля объясняется недостаточным профессионализмом тогдашней российской контрразведки.
Как видим, никакого оцепления вокруг площади не было и в помине. Восставшие и им сочувствующие свободно бегали туда-сюда. Видимо, Николай все время надеялся, что мятежники попросту разбегутся. Но бежали, как мы помним, только вожди.
Между тем наступал вечер. Пора было заканчивать затянувшийся спектакль.
Николай Павлович: «Погода из довольно сырой становилась холоднее; снегу было весьма мало, и оттого – весьма скользко; начинало смеркаться, – ибо был уже 3-й час пополудни. Шум и крик делались настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих в Конной гвардии и перелетали чрез войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляли вверх. Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистали мне чрез голову и, к счастию, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении.
Я согласился испробовать атаковать кавалериею. Конная гвардия первая атаковала поэскадронно, но ничего не могла произвести и по тесноте, и от гололедицы, но в особенности не имея отпущенных палашей. Противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр Велио лишился руки. Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха.
Оставалось последнее средство. Орудия были готовы к стрельбе.
Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру, и меня ужас объял.
– …Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования? – отвечал я Васильчикову.
– Чтобы спасти вашу империю, – сказал он мне.
Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверно все; или, пощадив себя, жертвовать решительно Государством».
И опять командир Иван Сухозанет предложил сдаться по-хорошему.
Тут уже нет смысла говорить о «нерешительности» Николая. Три пушки стояли возле угла Адмиралтейского проспекта и Исаакиевской площади – около 250 метров по прямой. С такого расстояния картечь сметет кого угодно. Еще одна пушка стояла на Галерной улице. И тоже могла бить почти в упор.
Евгений Оболенский, выполнявший к этому времени обязанности «диктатора» восстания, был артиллеристом! Он-то знал о силе такого огня. Должен был знать и о 14 вандемьера Наполеона[18], и что пушки в такой ситуации – гарантированная смерть. Но на предложение сдаться он снова ответил отказом.
Легенда о том, что артиллеристы сперва отказались стрелять, не имеет никакого подтверждения. Скорее всего, ее потом придумали сами декабристы.
Николай I: «Тогда, не видя иного способа, скомандовал: пали! Первый выстрел ударил высоко в Сенатское здание, и мятежники отвечали неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрел от нас и с другой стороны из орудия у Семеновского полка ударили в самую середину толпы, и мгновенно все рассыпались, спасаясь по Английской набережной на Неву, по Галерной и даже навстречу выстрелов из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала».
Как и следовало ожидать, после третьего залпа повстанцы побежали в сторону Невы. Финляндский полк, стоявший на Адмиралтейском мосту (он шел от Медного всадника), не пытался отрезать им путь и добить беглецов. Правда, орудия продолжали стрелять вслед. Но это делалось потому, что на льду Оболенский попытался построить солдат и организовать контратаку. Опомнился!
Тут я снова возвращаюсь к версии странного поведения Рылеева. Складывается впечатление, что восставшие все-таки чего-то ждали. И об этом знали очень немногие. Мог ведь Рылеев, убегая, сказать, допустим, что нужно продержаться до вечера. А там… Оболенский так и не «раскололся». Он-то и был одним из создателей красивой сказки про «благородного Рылеева». Но эта тема ждет еще своих исследователей.
5. По горячим следам
После того как мятежники были сломлены, площадь окружили солдаты. Всю ночь собирали трупы, подбирали раненых и смывали кровь. Убитых сбрасывали в проруби на льду. Считается, что под лед бросали и раненых. Но именно «считается». Свидетельства об этом начинаются со слова «говорят». То есть «очевидцы» просто пересказывают городские слухи. Которые, конечно, звучали жутковато.
По официальным данным, число жертв составило 80 человек. Дальше цифры начинают нарастать. К началу XX века, когда либералы уже вовсю раскручивали миф о декабристах, количество убитых выросло до 1271, «включая случайных зрителей». Что уже ни в какие ворота не лезет. Из четырех полевых пушек столько накрошить физически невозможно.
Это как в перестройку считали число «жертв сталинских репрессий»: чем дальше – тем больше. И в результате дошли до полного неправдоподобия.
А для членов Северного общества начиналась пора расплаты.
Первых мятежников отловили прямо на месте. Надо сказать, что император примерно до середины мятежа был убежден, что войска на самом деле чего-то не поняли и хотят на царство Константина. Этим во многом была вызвана его мягкость и беспечность при встрече с гренадерами. Он думал, что видит заблуждающихся людей – а на самом деле беседовал с мятежниками! Верно – Бог его спас тем, что среди них не нашлось Каховского. Вот в ЭТОМ СЛУЧАЕ он бы сделал то, для чего его готовил Рылеев. А стрелял Каховский, как мы помним, метко.
О том, что происходило дальше, лучше всего узнать у главного участника событий – императора Николая I: «Не могу припомнить, кто первый приведен был; кажется мне – Щепин-Ростовский. Он, в тогдашней полной форме и в белых панталонах, был из первых схвачен, сейчас после разбития мятежной толпы; его вели мимо верной части Московского полка, офицеры его узнали, и в порыве негодования на него, как увлекшего часть полка в заблуждение, они бросились и сорвали эполеты; ему стянули руки назад веревкой, и в таком виде он был ко мне приведен. Подозревали, что он был главное лицо бунта; но с первых его слов можно было удостовериться, что он был одно слепое орудие других и подобно солдатам завлечен был одним убеждением, что он верен императору Константину. Сколько помню, за ним приведен был Бестужев Московского полка, и от него уже узнали мы, что князь Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом. Генерал-адъютанту графу Толю поручил я снимать допрос и записывать показания приводимых, что он исполнял, сидя на софе пред столиком, там, где теперь у наследника висит портрет императора Александра.
По первому показанию насчет Трубецкого я послал флигель-адъютанта князя Голицына, что теперь генерал-губернатор смоленский, взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены. Князь Голицын имел приказание забрать все его бумаги, но таких не нашел: они были или скрыты, или уничтожены; однако в одном из ящиков нашлась черновая бумага на оторванном листе, писанная рукою Трубецкого, особой важности; это была программа на весь ход действий мятежников на 14 число, с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому. С сим князь Голицын поспешил ко мне, и тогда только многое нам объяснилось. Важный сей документ я вложил в конверт и оставил при себе и велел ему же, князю Голицыну, непременно отыскать Трубецкого и доставить ко мне. Покуда он отправился за ним, принесли отобранные знамена у лейб-гвардии Московских, лейб-гвардии гренадер и Гвардейского экипажа, и вскоре потом собранные и обезоруженные пленные под конвоем лейб-гвардии Семеновского полка и эскадрона конной гвардии проведены были в крепость.
Я немедленно отправил князя Голицына к управлявшему министерством иностранных дел графу Нессельроду с приказанием ехать сию же минуту к графу Лейбцельтерну с требованием выдачи Трубецкого, что граф Нессельрод сейчас исполнил. Но граф Лебцельтерн не хотел вначале его выдавать, протестуя, что он ни в чем не виновен. Положительное настояние графа Нессельрода положило сему конец; Трубецкой был выдан князю Голицыну и им ко мне доставлен.
Призвав генерала Толя во свидетели нашего свидания, я велел ввести Трубецкого и приветствовал его словами:
– Вы должны быть известны об происходившем вчера. С тех пор многое объяснилось, и, к удивлению и сожалению моему, важные улики на вас существуют, что вы не только участником заговора, но должны были им предводительствовать. Хочу вам дать возможность хоть несколько уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного; тем вы дадите мне возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?
– Я невинен, я ничего не знаю, – отвечал он.
– Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение; вы – преступник; я – ваш судья; улики на вас – положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас; вы себя погубите – отвечайте, что вам известно?
– Повторяю, я не виновен, ничего я не знаю.
Показывая ему конверт, сказал я:
– В последний раз, князь, скажите, что вы знаете, ничего не скрывая, или – вы невозвратно погибли. Отвечайте.
Он еще дерзче мне ответил:
– Я уже сказал, что ничего не знаю.
– Ежели так, – возразил я, показывая ему развернутый его руки лист, – так смотрите же, что это?
Тогда он, как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде.
– Ступайте вон, все с вами кончено, – сказал я, и генерал Толь начал ему допрос. Он отвечал весьма долго, стараясь все затемнять, но несмотря на то, изобличал еще больше и себя и многих других».
Началось следствие. Но о нем будет рассказано в отдельной главе.
В качестве доказательства исключительного благородства декабристов часто приводится тезис, что ни один из них не попытался бежать: мол, сидели спокойно, ждали суда. Это уже либо невежество, либо откровенное вранье. Как все непрофессиональные преступники, которые вдруг круто вляпались, большинство мятежников вело себя не очень умно.
Скрыться и вправду попытались немногие. Николай Бестужев заскочил домой и потом, воспользовавшись законами морского братства, засел в селе Косном, в доме фейерверкера Белоусова. Он рассчитывал перейти по льду в Кронштадт, а оттуда рвануть за кордон. Его брат Михаил скрывался у приятеля Ивана Борецкого, который снабдил его крестьянской одеждой, и намеревался уйти в Москву. Евгений Оболенский засел у полкового товарища, штаб-лекаря Смирнова. Сергей Трубецкой, как мы помним, – у австрийского посла Лейбцельтерна. Самым удачливым из всех «побегушников» был Вильгельм Кюхельбекер. Он сумел улизнуть из города и пробегать почти месяц. Но все-таки 19 января в предместье Варшавы его повязали. Обратите внимание – опять Варшава! Посмотрите на карту. Граница Пруссии (Калининградская область) гораздо ближе. А он отправился в Польшу. Значит, знал, куда шел.
Около пятнадцати человек сочли за лучшее явиться с повинной в течение двух ближайших дней. К примеру, брат Кюхельбекера, Михаил, пошел оформлять явку с повинной сразу же с Сенатской площади. В тот же день сдался знакомый нам Александр Бестужев-Марлинский. Александр Одоевский два дня скрывался у дружка Андрея Жандра. Потом все-таки сдался. И так далее… Остальные тупо ждали ареста.
Да и то сказать – а куда им было бежать? И как? Поездов тогда не было. «На почтовых» – требовалась подорожная. На своих лошадях (у кого они имелись)? Но фельдъегерская связь работала в России великолепно. Далеко бы они не ушли: на заставе ближайшего крупного города их бы «тепло встретили».
Кроме того, это были дворяне, которые всю жизнь обитали в своеобразном мире. У них с детства – даже у самых бедных – имелись лакеи. В армии – денщики. Большинство их них были гвардейцами, то есть элитой. А тут все рухнуло. Жизнь нелегалов была не для них. Николаю Бестужеву еще повезло, что его вовремя выловили. Далеко бы он ушел в крестьянской одежде по Московскому тракту!
Принадлежность к элите определила и стиль деятельности декабристских обществ. Зачем им нужно было создавать явки, налаживать маршруты передвижения?
Когда, допустим, штабс-капитан Генерального штаба Сергей Трубецкой входил на почтовую станцию, он кричал:
– Подать лошадей, пока я буду чай пить!
И ему подавали. И не задавали вопросов.
Да и что бы они делали за границей без денег и документов? От них отвернулись бы даже их польские дружки. Кому был бы нужен, к примеру, Каховский? Отработанный материал.
Жить на самом верху общества хорошо. Только вот вниз падать больно.
Так что устраивать операцию «перехват» Николаю не пришлось. Большинство участников восстания, которые не сдались сами, взяли уже назавтра. Рылеева в день мятежа, еще до полуночи, арестовали на его квартире и отправили в Петропавловскую крепость. На следующий день взяли Каховского. Трубецкого тоже в первую же ночь забрали от родственника. Из непосредственных организаторов и самых активных участников мятежа, если не считать быстроногого Кюхельбекера, дольше всех на свободе погулял барон Штейнгель. До него добрались не сразу. Приказ о его аресте был издан только 30 декабря, а взяли его 2 января.
Но мятеж на Сенатской площади был только первой серией. Вскоре последовала и вторая.
Глава 8
Абсурдное восстание
1. Все идет по плану
Восстание Черниговского полка в истории декабристов является своеобразным «нелюбимым сыном». Нет, конечно, о нем тоже написано немыслимое количество научных работ. Но вот художественная литература, кино и прочие виды искусства в его освещении сильно отстали. На то есть много причин.
Одно дело – «блестящий Петербург», гвардия, графы и князья. Армейские колонны в окружении великих архитектурных ансамблей. Другое дело – глухая провинция и убогие села, среди которых разворачивалась драма. Вместо красавцев-гвардейцев – пьяные пехотные офицеры.
К тому же «серьезные дела происходят только в столице». Все знают об анекдотическом штурме Зимнего в 1917 году. А про то, что в Москве большевикам с боями пришлось брать власть почти неделю, – об этом забыли…
Есть еще одна причина. Если петербургское восстание декабристов имело хотя бы какой-то разумный план, то «вторая серия», на первый взгляд, выглядит уже театром абсурда. Руководители восстания Черниговского полка либо кретины, либо законченные подонки.
Как мы помним, Пестель развернул на Украине бурную деятельность. Однако к 1824 году все его затеи начали пробуксовывать: общество прошло «нулевой цикл», момент споров и разговоров. Теперь требовалось заниматься делом. А с этим было сложно. Потому Пестель и направил свои взоры на Петербург, где уже появился Рылеев и его команда.
Нет, в хозяйстве у Пестеля не все было так плохо. Имелась Васильковская управа, где дела шли вполне успешно. Но за ней приглядывать нужды не было: там встал надежный человек, Сергей Муравьев-Апостол. С этого момента деятельность Павла Пестеля сводится к роли координатора. Последующие два года он пытается связать в один узел три силы (Северное и Южное общества и поляков), утрясти все вопросы и договориться о совместном выступлении в 1826 году. В дела Васильковской управы он не вмешивался – Муравьев-Апостол сам прекрасно знал, что надо делать.
Муравьев-Апостол отличался от циничного прагматика Пестеля. Искренне верующий человек, он столь же искренно желал счастья человечеству. Но идеалист-революционер бывает опаснее прагматика. Если он и не разочаровывается, то быстро приходит к мысли, что ради благой цели все средства хороши. И начинает действовать с такой энергией, что циники и прагматики по сравнению с ним кажутся просто гуманистами.
Я уже мельком упоминал о методах Муравьева-Апостола. Он привлекал на свою сторону солдат послаблениями по службе и денежными подарками.
К тому же у него появились деятельные помощники.
2. Гей, славяне
Речь идет о так называемом Обществе соединенных славян. Эта организация, созданная братьями Андреем и Петром Борисовыми и Юлианом Люблинским, возникла на Украине в 1823 году. На первый взгляд, довольно-таки «травоядная» тусовка, провозглашавшая уже знакомые нам общедемократические цели, осуществлять которые общество было намерено исключительно мирными методами: просвещением и прочей гуманитарщиной. Вроде бы очередная маниловщина, если бы не одно большое «НО» – все тот же неистребимый «польский вопрос»: в планы соединенных славян входило предоставление независимости Польше.
Я уже не раз упоминал о том, что границы своей страны польские националисты видели весьма далеко от тех мест, где звучит польская речь. А один из создателей союза, Юлиан Люблинский, плотно общался с польскими националистами. Вот, к примеру, Северин Кржижановский, выступавший одним из посредников как с соединенными славянами, так и с декабристами. Он тоже участвовал в наполеоновских войнах, правда, на другой стороне. И не только сражался с русскими, но и участвовал в испанском походе Наполеона.
Напомню, о чем идет речь. Когда в 1809 году Наполеон вступил в австрийскую часть разделенной Польши, поляки восторженно его приветствовали. Им думалось, что Бонапарт восстановит их государство (у Наполеона такого и в мыслях не было, но зачем отвергать того, кто назойливо лезет к тебе с дружбой?). Французский император дал понять полякам: «независимость надо заслужить». И корпус Понятовского отправился под французскими заменами в Испанию, где со зверской жестокостью проводил «зачистки», уничтожая испанских партизан. Так что ради своих целей польские националисты готовы были служить кому угодно и сражаться с кем угодно. Добавлю, что жителей Белоруссии и Украины, чьи земли им очень хотелось вернуть, шляхтичи искренне считали «быдлом» (оттуда и пошло это слово).
Понятно, что на Украине и в Белоруссии поляков, мягко говоря, всегда не очень любили[19]. Так что возникновение организации, состоящей (в том числе) из русских и украинцев и отвечавшей их задачам, – было для панов подарком судьбы. Если, конечно, не они сами ее создали. Но, возможно, братья Борисовы были прекраснодушными идеалистами, которым, как и всем революционерам, казалось: все решается очень просто. Скинем «деспотию» – и наступит всеобщее братство. Все проблемы и противоречия решатся сами собой.
Кстати, в уставе Общества соединенных славян есть слова: «С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройду тысячи смертей, тысячи препятствий, – пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных славян».
Можно, конечно, списать все это на романтизм создателей документа. Но некоторые члены общества восприняли их очень серьезно.
Так или иначе, но в 1824 году, не без помощи польских товарищей, на эту организацию вышел Михаил Бестужев-Рюмин, который был, как мы помним, человеком не самого великого ума. То есть ему можно было «навешать любую лапшу на уши». Он с радостью сообщил о своем открытии Муравьеву-Апостолу, который тоже заинтересовался новыми соратниками по борьбе. Они были куда «пассионарнее», чем свои, члены Южного общества. К тому же многие братья-славяне уже измаялись от безделья. Так что к 1825 году они фактически стали структурной единицей Южного общества. И – что самое главное – в их лице Муравьев-Апостол приобрел себе надежных помощников.
4. Зависть – двигатель революции
Соединенные славяне резко отличались от декабристов по социальному составу: это были не просто бедные, но очень бедные дворяне, лишенные каких-либо карьерных перспектив.
Вот, к примеру, человек, ставший одним из главных помощников Муравьева-Апостола, его сослуживец по Черниговскому полку Иван Сухинов. Ровесник Муравьева-Апостола, он тоже участвовал в Отечественной войне и в заграничных походах. Но был поручиком, а Муравьев-Апостол – подполковником (Пестель, будучи на два года старше, – полковником). Сухинов всегда мечтал служить в кавалерии, но не мог: денег на приличного коня не было – он имел всего четырех крепостных (тогда офицеры покупали коней за свой счет – и в кавалерии требования к ним были строже, чем в пехоте). О гвардии Сухинов и мечтать не мог – все служил по глухим гарнизонам. И тут случай сводит его с блестящими гвардейскими офицерами, которые затевают какой-то заговор. Почему бы и не присоединиться?
Когда Сухинов примкнул к заговорщикам, Муравьев-Апостол взял его на содержание: стал регулярно подкидывать ему изрядные суммы и вообще облегчать тому жизнь. Короче говоря, сделал его своим преданным агентом. Потом, решив, что надо расширять сферу влияния, Муравьев-Апостол подарил Сухинову 1200 рублей, и тот сумел перейти в Александровский гусарский полк.
Все остальные товарищи Муравьева-Апостола представляли собой примерно то же самое: крайняя бедность и перспектива до конца жизни болтаться по захолустным гарнизонам, получив перед выходом в отставку чин капитана – как максимум. А мимо тебя наверх шпарят люди, вышедшие из гвардии.
При вербовке новых членов декабристы прибегали к откровенному вранью. Так, когда вербовали того же Сухинова, то клятвенно уверяли его, что к обществу принадлежит чуть ли не вся армейская верхушка.
Собственно, благодаря людям, пришедшим из Общества соединенных славян, Васильковская управа стала самой деятельной и целенаправленной из всех декабристских структур.
Как мы помним, первоначально «день икс» был намечен на 1826 год, и предполагалось два варианта развития событий. Большую работу по подготовке второго варианта, где «южным» отводилась ключевая роль, провел Бестужев-Рюмин, человек по взглядам крайний из крайних. Но не по вопросу о том, какой строй следует установить в случае победы. Об этом он просто не думал. Крайним Бестужев-Рюмин был по предлагаемым методам. Именно он во время переговоров давил на поляков, выбивая из них обещание в случае совместного восстания ликвидировать Константина. Поляки мялись. Возможно, кто-то из их горячих парней такие планы и вынашивал. Но об этом прямым текстом говорить не принято.
Бестужев-Рюмин вел активную работу, претворяя в жизнь старую идею Пестеля о создании отряда «камикадзе» по истреблению императорской фамилии: он готовил для этой цели пятерых солдат. О серьезности его намерений говорит то, что Бестужев-Рюмин заставил солдат поклясться на Евангелии, что они это сделают. ТАКИМИ вещами тогда не бросались. Мы не знаем, какими средствами заговорщики подтолкнули солдат к клятве. Вряд ли рассуждениями о республике: подобные вещи простой народ в те времена упорно отказывался понимать. Так что способов остается два: обман или прямой подкуп. Благо среди солдат, как и среди представителей любых профессий, попадались подонки…
Когда Александр I отправился в Таганрог, Бестужев-Рюмин предлагал послать банду «киллеров» туда. Муравьев-Апостол был в общем и целом не против, но решил, что пока еще рано. России очень повезло, что такие «веселые» ребята оказались в Южном обществе, а не в Северном. Уж в Питере-то им было бы где развернуться… Это вам не поэт Рылеев. Муравьев-Апостол был куда более серьезным человеком. Так вот всегда и получается – упертые идеалисты в итоге оказываются куда опаснее всех прочих категорий революционеров.
5. Тут приходят двое с конвоем
Вся эта бурная деятельность не могла остаться не замеченной властями. Кое-кто из декабристов, слышавших агитацию своих новых подельщиков, задумался, схватился за голову и счел за лучшее сообщить куда следует (в России и по сей день в общественном мнении имеется позаимствованное из воровского мира представление: «стучать западло». Если в сегодняшней ситуации с терроризмом кто-то продолжает так считать – это уже безнадежный случай).
Тогда доносительство в офицерской среде не считалось хорошим делом. Поэтому один из информаторов, капитан Вятского полка Аркадий Майборода, не сразу побежал посылать «сигнал». Он вступил в тайное общество в августе 1824 года. Возможно, без всяких задних мыслей: увлекся железной логикой Пестеля, поддался его обаянию. Но чем дальше, тем больше ему становилось ясно, что это – игры, опасные во всех отношениях. Мы не можем судить, насколько Майборода заботился о государственном благе, насколько – хотел грамотно спрыгнуть с паровоза, летящего в пропасть. Это, по большому счету, не важно. Главное, что 25 ноября он отправил на высочайшее имя донос, в котором назвал основных деятелей Южного общества.
Еще раньше о существовании революционного общества сообщил унтер-офицер Иван Шервуд (забавно: о тайных играх русских офицеров правительству сообщает англичанин), сын английского механика, осевшего в России. В русскую армию его идти никто не заставлял. Но он пошел служить своей новой родине. И, заметим, в отличие от аристократов-заговорщиков, начал службу рядовым. В полку Шервуд столкнулся с агитацией декабристов. Видимо, папа не привил ему любви к английской демократии, которой многие в декабристских кругах восхищались. Поэтому, разобравшись, что к чему, он быстренько слил информацию наверх. Сигнал попал к Аракчееву. По его заданию Шервуд внедрился в круги заговорщиков. Любопытно, кстати, что в «круг посвященных» он вошел через прапорщика Федора Вадковского, которого из гвардии вышибли в армию «за неприличное поведение». В итоге Шервуд узнал истинные цели общества и 18 ноября передал их начальству.
Тут и Аракчееву пришла пора хвататься за голову. Как мы помним, он входил в кружок Марии Федоровны, члены которого были осведомлены о некоторых аспектах деятельности тайных обществ. Но, видимо, им это показалось чересчур: игры с поляками, истребление царской семьи, – то есть курс на гражданскую войну… Тогда о связи Северного и Южного обществ точных сведений еще не было. Но что на Украине назревает черт-те что – это уже стало ясно.
Настала пора наводить порядок. 25 ноября генерал-адъютант А. И. Чернышев, командированный для расследования сообщения Майбороды, под благовидным предлогом вызвал Пестеля в штаб 2-й армии. Тот прибыл туда 13 декабря и был арестован. Главного заговорщика «закрыли» за день до восстания на Сенатской площади.
Нельзя сказать, чтобы удар был для Пестеля совершенно неожиданным. Декабристы догадывались о том, что среди них завелся «стукачок». Отправляясь в штаб, Пестель предчувствовал что-то нехорошее. Но, в общем, он был спокоен. Главный компромат – проект «Русской Правды» и прочие бумаги – был надежно спрятан: зарыт в землю в местечке Немирове, у майора Мартынова. Затем его перепрятали в Кирнасовке, у братьев Бобрищевых-Пушкиных и Зайкина, «под берег придорожной канавы». Так что поначалу Пестель «ушел в несознанку» и все отрицал. Но уже тогда российские спецслужбы знали свое дело: в Петербурге дело стало быстро раскручиваться, картина начала проясняться. Да и Пестель довольно быстро перешел от молчания к откровенности – и стал сдавать всех. Николай I убедился, что положение очень серьезное: приказы на арест стали выписываться пачками.
6. Бессмысленный и беспощадный
Между тем до 24 декабря Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин все бродили впотьмах, пытаясь сообразить: что теперь делать? В конце концов решили послать Бестужева в Питер, дабы там он прояснил обстановку. Муравьев-Апостол и его брат Матвей отправились из Тульчина в Житомир, где располагалось командование корпусом. И вот на самой городской границе они узнали, что восстание в столице мало того что состоялось – оно закончилось полным провалом. Все планы шли псу под хвост. Но Муравьев-Апостол был не из тех людей, кого останавливают такие мелочи. Он принял решение действовать несмотря ни на что. С этой целью братья предприняли вояж по ближайшим селам, наведываясь к товарищам по борьбе. Цель была проста – поднять всех на выступление. Однако, узнав о том, что в Питере дело проиграно, товарищи реагировали вяло.
А тем временем в Васильков, где располагался штаб Черниговского полка, нагрянули жандармы с приказом на арест Муравьева-Апостола. Документ был выписан еще 19 ноября – и вот бумага наконец дошла до цели. Правда, объекта на месте не оказалось. Убыл-с. Жандармы ринулись в погоню.
Однако нельзя сказать, чтобы власти остались совсем уж с пустыми руками: они изъяли бумаги Муравьева-Апостола. Тогда люди вообще любили писать, тем более декабристы, которые мнили себя творцами истории. Так что остальные заговорщики, которые присутствовали в городе почти в полном составе – проходил рождественский полковой бал, – почувствовали: дело пахнет керосином. Самое смешное, что в момент обыска на квартире находился другой вождь – Бестужев-Рюмин. Но до него следствие еще не докопалось.
От отчаяния у братьев-славян появилась идея начать действовать тотчас же. Однако господа офицеры вовремя сообразили, что все они в малых чинах, и слушать их солдаты не станут. Поэтому они решили послать своего гонца, дабы он опередил представителей власти и сообщил боссу о возникших неприятностях. В погоню ломанулся Бестужев-Рюмин, настиг Муравьевых братьев в селении Трилесы и передал им печальные вести. Стали совещаться. Матвей предложил всем пустить по пуле в лоб. Бестужев-Рюмин – немедленно повернуть оглобли в сторону Петербурга и попытаться убить императора.
Сергей Муравьев-Апостол не принял какого-либо конкретного решения. Он поехал в полк: доберемся, а там, на месте, посмотрим. Но Бестужева он все-таки отправил в стоявший неподалеку Алексопольский полк. Там командиром был свой человек, член общества, полковник Иван Повало-Швейковский. Оттуда же он с солдатом послал в Васильков записку своим людям, вызывая их к себе.
Вдруг во дворе раздался скрип полозьев, и в дом, где сидели заговорщики, вошел полковой командир полковник Гебель в компании с жандармским офицером Ланком. Они зашли погреться, утомившись гоняться за Муравьевым-Апостолом по бескрайней украинской степи. И тут – на тебе!
Иван Сухинов как раз приехал из Киева, где он на деньги Муравьева-Апостола закупал обмундирование для нового полка. В славном городе Василькове он остановился у товарища по борьбе поручика Кузьмина. И вот прибегает солдат и приносит от шефа записку, в которой тот срочно предлагает прибыть к нему в село Трилесы.
Партия сказала «надо!» – комсомол ответил «есть!». Сухинов и Кузьмин (прихватив еще двух заговорщиков, Михаила Щепилло и барона Соловьева) поспешили к своему старшему товарищу и обнаружили, что шефа повязали. Однако Муравьев-Апостол умел воспитывать кадры: Сухинов и компания не растерялись и ринулись освобождать своего лидера.
По-видимому, полковник Гебель не очень понимал ситуацию. Он мыслил по старинке: если офицера арестовали – то он будет сидеть и не рыпаться. Впрочем, братья Муравьевы-Апостолы вели себя как положено. Вариант же силового освобождения ни полковнику, ни жандарму и в голову не приходил. Возле дома, где сидел Муравьев-Апостол, караульные солдатики стояли скорее для проформы. Четырем отморозкам они противостоять не сумели. Операция прошла «без сучка и без задоринки». Веселая четверка навалилась на часовых и быстро их обезоружила. Потом досталось и полковнику Гебелю.
Вот что об этом пишет историк М. Цейтлин: «…Щепилло ударил его штыком в живот. Соловьев схватил обеими руками за волосы и повалил на землю. Оба они набросились на лежащего и безоружного Гебеля, Щепилло сломал ему руку прикладом. Весь израненный, исколотый, он нашел еще силы встать, буквально приподняв своих противников, и вырвал ружье у Щепилло. В это время тоже с ружьем прибежал Сергей Муравьев».
За компанию хотели порешить и Ланка, но тот успел «сделать ноги» и укрылся в доме священника.
Главарь оказался на свободе и тут же начал действовать. Первое, что он предпринял, – кинул в печку все изъятые у него бумаги. А затем твердо взял курс на восстание своего полка. Каковы были цели этого, в общем-то, спонтанного выступления? А черт его знает. Никакими практическими соображениями объяснить восстание невозможно. Даже если мятежники рассчитывали, что все части, где были их люди, поднимутся, – далыпе-то что? Идти на Киев, как это предлагали «славяне»? Но Киев был тогда обычным губернским городом, а не столицей Украины. Никакой радости с этого не было бы. Начать крестьянскую войну типа пугачевской? Но мятежники не предприняли никаких серьезных попыток поднять крестьян на восстание: это явно не входило в их планы.
Самое простое объяснение – Муравьев-Апостол решил: «пропадать, так с музыкой». Есть и другая версия. О ней – позже. Но даже если предположить в Муравьеве-Апостоле и его подельщиках желание красиво умереть – это все равно выглядит гнусно. Ладно бы послушались Бестужева-Рюмина и отправились бы убивать царя. В конце концов, свою смерть каждый выбирает сам. Но, раскочегаривая восстание, эти люди ставили под удар своих солдат! Их поведение не объяснишь даже соображениями «революционной целесообразности». Людей просто приносили в жертву своим представлениям о героической жизни и героической смерти, стараясь забрать с собой на тот свет как можно больше спутников. Знаете, на что это похоже? На то, как в 1945 году Гитлер открыл шлюзы Шпрее и затопил метро, где укрывались мирные берлинские жители. Подыхать – так всем!
Так или иначе, но теплая компания в составе Муравьева-Апостола, поручика Щепилло и «примкнувшего к ним» штабс-капитана Вениамина Соловьева (тоже «брата-славянина») отправились в село Ковалевку, где располагалась 2-я гренадерская рота, которой командовал штабс-капитан Соловьев. Тем временем оставшиеся сколотили из стоявшей в Трилесах 5-й роты некое подобие боевого подразделения и «организованной толпой» двинулись следом. Все встретились в исходной точке, попили чайку и принялись за организацию восстания. Муравьев-Апостол толкнул речь, обещая всем всего и сразу: свободу, счастье, выпивку и закуску. А после пригрозил заколоть любого, кто не подчинится его приказу.
Почему солдаты послушались? Приказание им отдавал их непосредственный командир. И сказались рождественские праздники. Все отдыхали – никто ничего не понимал. К тому же идти-то предстояло в местный культурный центр.
7. Первый еврейский погром
Части двинулись на город Васильков, где находилась главная квартира полка, – примерно в 25 километрах, в одном дневном переходе. К утру дошли до Василькова. Вперед Муравьев-Апостол выслал Сухинова со взводом «прикормленных» солдат, чтобы подавить возможное сопротивление. В Василькове уже знали, что творится что-то нехорошее, только не очень понимали – что именно. А потому реального сопротивления организовать не сумели. Возможно, сказались все те же рождественские праздники. Старший офицер, майор Трухин, вышел навстречу, чтобы выяснить наконец, что происходит. Ему слегка начистили физиономию.
В городе захватили денежный ящик. Это оказалось очень кстати: Муравьев-Апостол построил находившиеся в Василькове три роты и начал разговор с солдатами.
По воспоминаниям декабристов, эта беседа выглядела следующим образом: Муравьев-Апостол вызвал полкового священника Даниила Кейзера, который прочел сочиненный ими (Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым) «Катехизис», где формулировались цели восстания. В этом документе на псевдоцерковном языке объяснялось, что надо идти устанавливать республику.
«Вопрос. Какое правление сходно с законом Божиим?
Ответ. Такое, где нет царей. Бог создал нас всех равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей.
Вопрос. Стало быть, Бог не любит царей?
Ответ. Нет! Они прокляты суть от него, яко притеснители народа.
…
Вопрос. Что надо делать?
Ответ. Взять оружие и следовать за глаголющим во имя Господне, помня слова Спасителя нашего: блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся, и, низложив неправду и нечестие тиранства, возстановить правление, сходное с законом Божиим… Российское воинство грядет возстановить правление народное, основанное на святом законе. Никаких злодейств учинено не будет. Итак, да благочестивый народ наш пребудет в мире и спокойствии, и умоляет Всевышняго о скорейшем свершении святаго дела нашего. Служители алтарей, доныне оставленные в нищете и презрении злочестивым тираном нашим, молят Бога о нас, возстанавляющих во всем блеске храмы Господни»[20].
Согласно мемуарам, услышав такое, солдаты пришли в восторг и выразили готовность идти за заговорщиками в огонь и в воду.
Как-то не очень в это верится. «Катехизис» написан так, что трудно понять, о чем там идет речь. Да и для тогдашнего российского солдата вне понимания было: как это так – жить без царя? Автор этой книги ни в коей мере не является монархистом. Но стоит признать, что простой русский человек в то время ни о какой другой форме правления, кроме монархии, и представления не имел. Потому-то в Петербурге и рассказывали сказку про «Константина в цепях».
А вот слово «свобода» солдаты понимали. Правда, по-своему, но кого это волновало? Тем более что действие красивых слов тут же усиливалось раздачей денег и водки. И еще: Муравьев-Апостол являлся на тот момент старшим офицером в полку. А солдат все-таки подчиняется прежде всего своему командиру. На этом и держится армия. С офицерами вышло не так просто. Кое-кто сбежал сразу. Другие решили посмотреть, что из всего этого выйдет, но перед этим заскочили к местному городничему и попросили в случае чего удостоверить: они идут не по своей воле, а подчиняются угрозам. Но все-таки пошли. Видимо, ребята Муравьева-Апостола сумели достаточно запудрить им мозги – они верили, что идут за чинами и орденами.
В общем, пять рот построились и двинулись в расположенное в нескольких километрах село Мотовиловка, где встали на дневку. Зачем? Согласно традиционному объяснению, Муравьев-Апостол ждал вестей от других членов общества. Дождался он лишь Бестужева-Рюмина, который прибыл с вестью, что «кина не будет». Более никто поддерживать авантюру не собирался. Но, возможно, Муравьев-Апостол просто хотел поднять дух солдат, которых он втравил в это дело. Вот тут-то и пригодилась прихваченная полковая касса. Закупили спиртное. По свидетельству очевидцев, за сутки пребывания в селе восставшие (около 1000 человек) выпили 184 ведра[21] вина («вином» тогда называли водку). Несложный расчет показывает: на каждую солдатскую душу пришлось около 2,2 литра ее, родимой. Результаты сказались довольно быстро. Борцы за свободу стали вести себя, как какая-нибудь банда атамана Козолупа, почти на столетие предвосхитив стиль поведения всех армий времен Гражданской войны.
Для начала развлекались тем, что срывали с офицеров эполеты и били им лица, а потом началась настоящая гульба. Пошли по домам, прихватывая все, что плохо лежит. Начали, понятное дело, с евреев. Их слегка пограбили и поколотили, пару девушек изнасиловали. Так что первый еврейский погром на территории России устроили не черносотенцы, а декабристы. Потом дошла очередь и до православных. В общем, первая ночь свободы была «веселой» для жителей городка, которые имели несчастье там оказаться. Думается, борцов за народное счастье они запомнили на всю оставшуюся жизнь.
8. Разгром
Дальнейшие действия Муравьева-Апостола не поддаются логическому объяснению. Если посмотреть на карту, то маршрут его полка напоминает движения пьяного, заблудившегося в трех соснах. Три дня восставшие крутятся на отрезке в двадцать километров – между Васильковом и Трилесами. То есть, по сути, в несколько ином варианте повторяют топтание на Сенатской площади. Братья-славяне, как они сами потом утверждали, упорно подталкивали Муравьева-Апостола двинуть-таки на Киев. Но он упорно отказывался туда идти. Конечно, брать такой город силами пяти рот было все равно, что плевать против ветра. Но и болтаться по глухомани особого резона не было. То, что они вообще двигались, а не сидели в той же Мотовиловке, объясняется скорее всего лишь тем, что в походе можно поддерживать хоть какую-то дисциплину. От безделья солдаты совсем бы озверели…
Впрочем, с дисциплиной и без того становилось все хуже и хуже. Рядовые начали потихоньку трезветь и задавать нехорошие вопросы: а куда и зачем мы идем? Водка кончилась – а в трезвом состоянии разговоры о республике солдатики как-то не воспринимали. Офицеры, сообразив, что с этими повстанцами каши не сваришь, разбегались. Самые умные двигали прямиком в Киев – сдаваться и каяться. Муравьев-Апостол и его соратники успокаивали солдат, как могли: говорили, что идут они на другие квартиры, что ничего такого не произошло. Погуляли – и ладно. Или рассказывали сказки о том, что вскоре к ним должна присоединиться драгунская дивизия (хотя уже точно знали, что подмоги ждать неоткуда).
В конце концов Муравьев-Апостол, который до последнего хотел пробудить в солдатах революционный республиканский пыл, махнул на все рукой и завел ту же песню, что и его петербургские сподвижники, – о Константине Павловиче, незаконно лишенном престола. Но это помогало все меньше и меньше. Абсурдность происходящего становилась видна невооруженным глазом.
Кончилось все так: 3 января возле села Ковалевка восставшие встретились с отрядом генерала Гейсмара, посланного, чтобы разобраться с мятежниками. В отличие от Петербурга, на этот раз время на переговоры тратить не стали. У Гейсмара имелась артиллерия. Вот генерал и обратился к восставшим на понятном всем языке под названием «картечь». Муравьев-Апостол попытался построить своих людей и бросить их в штыковую атаку на пушки. Прием рискованный, но во время наполеоновских войн он часто удавался как русским, так и французам. Беда только в том, что для того, чтобы переть на изрыгающие смерть дула, нужен высочайший моральный дух. В данном случае моральный дух уже упал ниже нуля. В начале боя один из солдат с криком «Обманщик!» бросился на Муравьева-Апостола. Соловьев закрыл его собой. А зря. Солдат-то был прав. Сражение оказалось недолгим. Правительственные войска обошлись без потерь. Из подставленных солдат на поле боя осталось около сотни. Остальные сдались. Вожаки – Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин – были взяты с оружием в руках. Михаила Щепилло убили, поручик Кузьмин застрелился. Тем же путем перешел в мир иной и только что прибывший из Петербурга брат вождя восстания Ипполит.
Интереснее всего дальнейшая судьба Ивана Сухинова. Как мы помним, он был одним из тех, кто, собственно, и начал восстание. Но 3 января, лишь только раздались первые выстрелы, поручик решил, что помирать ему рановато, – и убежал. Сначала он спрятался в деревне Мазницы, в погребе, – и дождался, пока все участники драмы ушли. А дальше началось самое веселое.
Некоторое время он шатался от одной деревни до другой, пока не достиг города Черкасска. Там Сухинов зашел в Казначейство, купил себе лист гербовой бумаги и «нарисовал» паспорт на чужое имя. В те времена паспорт представлял собой гербовый бланк с печатью, на котором было указано имя, звание и приметы. Дело, следовательно, оставалось за печатью. Сухинов на простом куске мела вырезал фальшивую печать и шлепнул ее на документ. Как потом выяснилось, поручику доводилось подделывать документы и раньше. В общем, Сухинов обладал выдающимися криминальными способностями.
Подделав паспорт, он купил себе гражданское платье, лошадь с санями – и спокойно, у всех на виду, поехал в сторону Молдавии. Кстати, судя по тому, что у поручика было с собой столько денег, он успел дотянуться и до полкового денежного ящика.
Изрядно поистратившись в дороге, Сухинов не сделал только последнего шага – не стал воровать и грабить. Он написал письмо брату с просьбой о деньгах. На том и погорел. Его взяли в Кишиневе 15 февраля. То есть Сухинов бегал почти полтора месяца. Дольше всех декабристов.
Но и этим дело не кончилось. Получив в итоге бессрочную каторгу, Сухинов не успокоился. В Чите он попытался устроить восстание заключенных. За это его все-таки приговорили к смертной казни, которой он избежал благодаря гуманизму Николая I. Не дождавшись казни, он покончил жизнь самоубийством. Колоритный человек, не правда ли? Создается впечатление, что он просто опередил свое время. Люди такого типа придут в ряды борцов за народное дело лет через сорок-пятьдесят. И тогда в царей полетят бомбы.
С этим человеком, как, впрочем, и с другими членами Общества соединенных славян, связана еще одна версия, объясняющая странности восстания Черниговского полка. Создается впечатление, что восставших умело направляли некие люди. Судите сами: Муравьев-Апостол колеблется – начинать восстание или нет (будучи арестованным, он ведет себя тихо и смирно). И тут появляется Сухинов с компанией – и буквально выталкивают Муравьева на выступление. Куда ему деваться после таких «подвигов»? Заметим, что большинство арестованных декабристов надеялись, что отделаются если не легким испугом, то не слишком тяжелым наказанием. После же атаки Сухинова выбора уже не было.
Далее. Братья-славяне активно подталкивают Муравьева-Апостола в поход на Киев. То есть именно они стремятся наделать как можно больше шума. А вот члены Южного общества – Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин – шуметь особо не рвутся: им достаточно «красиво умереть».
Кажется, что след снова тянется в Польшу. Польские националисты работали с Обществом соединенных славян. А когда стало ясно, что дело декабристов проиграно, они попытались напоследок их использовать. Провести, что называется, разведку боем. Поглядеть, насколько много на украинских землях «горючего материала». Можно ли там поднять восстание для поддержки своего выступления, которое уже тогда готовилось и в конце концов состоялось в 1831 году. И прошло еще более нелепо, чем оба восстания декабристов.
Во всяком случае если принять эту версию, то второе выступление декабристов не выглядит столь абсурдным.
Глава 9
Время держать ответ
1. Заговорщики идут косяком
В истории декабристского движения следствие и суд над заговорщиками занимает особое место. Тут уж столько мифов понакручено… Особенно этим отличились авторы художественных произведений шестидесятых-семидесятых годов. Любители эзопова языка, описывая эту тему, пытались уподобить следствие по делу декабристов политическим процессам тридцатых годов. Обличить таким образом «тирана», который повесил и законопатил на каторгу таких славных ребят.
Самое смешное, что сходство и на самом деле имеется. Как доказали сегодня историки, далеко не все «жертвы сталинских репрессий» были невинно пострадавшими. И показаний у них не выбивали. Они сами наперебой закладывали друг друга…
Но вернемся к декабристам и расставим точки над i. Эти люди совершили ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Они планировали насильственное свержение власти. В какой стране и в какие времена за подобные действия награждают ценными подарками? С декабристами же обошлись на удивление мягко.
С самого начала расследования Николай I сформулировал его принцип: «Моя решимость была, с начала самого, – не искать виновных, но дать каждому оговоренному возможность смыть с себя пятно подозрения. Так и исполнялось свято. Всякое лицо, на которое было одно показание, без явного участия в происшествии, под нашими глазами совершившимся, призывалось к допросу; отрицание его или недостаток улик были достаточны к немедленному его освобождению. В числе сих лиц был известный Якубович; его наглая смелость отвергала всякое участие, и он был освобожден, хотя вскоре новые улики заставили его вновь и окончательно арестовать. Таким же образом лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона поручик Назимов был взят, ни в чем не сознался, и недостаток начальных улик был причиной, что, допущенный к исправлению должности, он даже 6 генваря был во внутреннем карауле; но несколько дней спустя был вновь изобличен и взят под арест. Между прочими показаниями было и на тогдашнего полковника лейб-гвардии Финляндского полка фон-Моллера, что ныне дивизионный начальник 1-й Гвардейской дивизии. 14 декабря он был дежурным по караулам и вместе со мной стоял в главной гауптвахте под воротами, когда я караул туда привел. Сперва улики на него казались важными – в знании готовившегося; доказательств не было, и я его отпустил».
Между тем причин для подобной мягкости у императора, честно говоря, не имелось. В истории России было множество государственных переворотов. Но такое случилось в первый раз! Впервые в стране возникла разветвленная организация, которая планировала не просто смену одного монарха на другого, а далеко идущие цели.
«Это не военный бунт, но широкий заговор, который хотел подлыми действиями достигнуть бессмысленные цели… Мне кажется, что у нас в руках все нити и мы сможем вырвать все корни… Могут меня убить, каждый день получаю угрозы анонимными письмами, но никто меня не запугает», – сказал император великому князю Михаилу Павловичу.
Николай I решил довести дело до конца, и машина расследования заработала. Механизм ее был следующим:
«Всякое арестованное здесь ли, или привезенное сюда лицо доставлялось прямо на главную гауптвахту. Давалось о сем знать ко мне чрез генерала Левашова. Тогда же лицо приводили ко мне под конвоем. Дежурный флигель-адъютант доносил об том генералу Левашову, он мне, в котором бы часу ни было, даже во время обеда. Доколь жил я в комнатах, где теперь сын живет, допросы делались, как в первую ночь, – в гостиной. Вводили арестанта дежурные флигель-адъютанты; в комнате никого не было, кроме генерала Левашова и меня. Всегда начиналось моим увещанием говорить сущую правду, ничего не прибавляя и не скрывая и зная вперед, что не ищут виновного, но желают искренно дать возможность оправдаться, но не усугублять своей виновности ложью или отпирательством.
Так продолжалось с первого до последнего дня. Ежели лицо было важно по участию, я лично опрашивал; малозначащих оставлял генералу Левашову; в обоих случаях после словесного допроса генерал Левашов все записывал или давал часто им самим писать свои первоначальные признания. Когда таковые были готовы, генерал Левашов вновь меня призывал или входил ко мне, и, по прочтении допроса, я писал собственноручное повеление Санкт-Петербургской крепости коменданту генерал-адъютанту Сукину, о принятии арестанта и каким образом его содержать – строго ли, или секретно, или простым арестом.
Когда я перешел жить в Эрмитаж, допросы происходили в Итальянской большой зале, у печки, которая к стороне театра. Единообразие сих допросов особенного ничего не представляло: те же признания, те же обстоятельства, более или менее полные».
Конечно, император просто физически не смог бы лично заниматься расследованием. Хотя он беседовал как с основными фигурантами, так и с людьми, к которым ранее хорошо относился. Николай I не пытался сам докопаться до корней заговора. Он хотел понять логику этих людей, мотивы их поступков. А в некоторых случаях – явно пытался «поговорить по-человечески». Однако сначала эти его попытки успеха не имели.
«Орлов жил в отставке в Москве. С большим умом, благородной наружностию, он имел привлекательный дар слова. Быв флигель-адъютантом при покойном Императоре, он им назначен был при сдаче Парижа для переговоров. Пользуясь долго особенным благорасположением покойного Государя, он принадлежал к числу тех людей, которых счастие избаловало, у которых глупая надменность затмевала ум, считав, что они рождены для преобразования России. Орлову менее всех должно было забыть, чем он был обязан своему Государю, но самолюбие заглушило в нем и тень благодарности и благородства чувств. Завлеченный самолюбием, он с непостижимым легкомыслием согласился быть и сделался главой заговора, хотя вначале не столь преступного, как впоследствии. Когда же первоначальная цель общества начала исчезать и обратилась уже в совершенный замысел на все священное и цареубийство, Орлов объявил, что перестает быть членом общества, и, видимо, им более не был, хотя не прекращал связей и знакомства с бывшими соумышленниками и постоянно следил и знал, что делалось у них. В Москве, женатый на дочери генерала Раевского, который одно время был начальником штаба, Орлов жил в обществе как человек, привлекательный своим умом, нахальный и большой говорун. Когда пришло в Москву повеление к военному генерал-губернатору князю Голицыну об арестовании и присылке его в Петербург, никто верить не мог, чтобы он был причастен к открывшимся злодействам. Сам он, полагаясь на свой ум и в особенности увлеченный своим самонадеянием, полагал, что ему стоит сказать лишь слово, чтоб снять с себя и тень участия в деле.
Таким он явился. Быв с ним очень знаком, я его принял как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне уже известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтоб слепо верить уликам на него, но с душевным желанием, чтоб мог он вполне оправдаться; что других я допрашивал, его же прошу как благородного человека, старого флигель-адъютанта покойного Императора сказать мне откровенно, что знает.
Он слушал меня с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, и отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не слышал и потому к нему принадлежать не мог; но что ежели б и знал про него, то над ним бы смеялся как над глупостию. Все это было сказано с насмешливым тоном и выражением человека, слишком высоко стоящего, чтоб иначе отвечать, как из снисхождения.