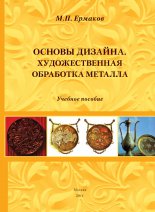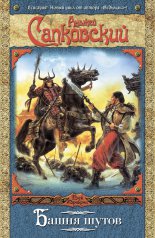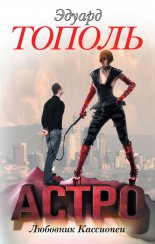Магический бестиарий Кононов Николай

По дороге из аэропорта он был, само собою, расстрелян, разъят в клочья и разбросан по небольшой хорошо обозримой территории. Конечно, из всепроницающего хрустального гранатомета. Истерзан самыми ласковыми молниями, насыщенными прекрасным зимним звуком. Тело, точнее, сегменты останков, я увидал в сверхсекретных вечерних новостях. Я в них всегда прекрасно осведомлен, даже не включая телевизор. Самое главное, вовремя на них подписаться. В конце четвертой недели февраля високосного года. Правда, сумма цифр года должна делиться на число “пи” без остатка. Так сказать, насухо. “Пи”, кстати, надо брать с точностью до девятого знака.
Картинка была как всегда выразительна: в приспущенных светлых штанах он, раскинув руки, безголово полеживал в мутной жиже в сени серебряного, ставшего горючей купиной, “мерса”. Удовлетворенный. Неторопливо под слабым дождем возились безразличные эксперты, обряженные во флуоресцентное платье с крестами, как инопланетяне или монахи галлюценогенной конфессии.
Я почуял, что нагреваюсь.
И вот меня опалило.
Будто во мне лопнул тугой термос со светящейся расплавленной субстанцией. Ею малюют кресты на рясе эти прилетевшие к сегментам Овечина монахи.
И вот меня, как ракету, выбросило вверх.
Судорожной волной, распрямившей все мое тело, хотя я всего-навсего сидел в старом кресле перед допотопным мигающим цветным телеком.
Но, развязав шелковый бантик и сняв две резинки, я раскрыл папку.
Стопкой лежали немыслимые бумаги.
Но подписи мои разбежались, а печати само собой, как можно было догадаться, мгновенно выцвели. Да, чертовы чернила были симпатическими.
Мне, конечно, надо было действовать.
Тупо по плану боевой эвакуации.
Безотлагательно.
Ведь над моим милым домом промчалась первая эскадрилья.
Из ящика буфета я достал военный билет. Я прочел его от корки до корки. Моя военная специальность еще пригодится новым крестоносцам. Я выглянул в грязное окно. Над классическими фасадами вздымалось переливчатое зарево, видимое только мне. Вот моя первая военная тайная тайна.
Белое дымное факсимиле божественного Овечина таяло за последним аэропланом невообразимо прекрасного боевого порядка.
Мир источал волны милетантного восторга. Он залежался в одной и той же скучной мирной позе. Он сокращал здоровые боевые мышцы. И это было хорошо. По длинному воспаленному облаку кольцом проползла судорога. Я вспомнил противное слово “сфинктер”.
Далеко с нарочитой физиологией прогрохотали первые разрывы.
“О, как сухо!” – подумал я.
Мне стало настолько легко, что я загрустил.
Я почти плакал.
Я должен был хорошенько немедля подготовиться. В своей загаженной ванной я перво-наперво побрился. Следом я щедро намылил венчик кудрей вокруг своей глупой тонзуры, и через минуту смыл и сбросил эту мусорную поросль на кафельный пол. Как давно надо было это сделать. Мне стало в сотни раз легче.
Из священника я сделался просто человеком.
Простым призывным чином. В них ведь – всегда недостаток.
Начиналась зима.
И я не положил бритву на полочку, даже когда обрил брови и подмышки.
Клочья прошлой человечьей омерзительной пегой волосни. Они застывали в снежных барханах пены. На полу, на стенах, на белом чудном полотенце. Я захотел обриться весь. Но хватит ли времени на это? Ведь на мне миллион миллионов волосков. Сады, леса, дебри, урочища. На руках, между бедер, на голенях, на лобке, на седалище, но там я не смогу достать. Да. Времени мне вполне хватит. Ведь я все-таки, если приглядеться, и не очень-то и волосат по сравнению сами знаете с кем…
О! Эта красота…
Из облезшего зеркала на меня смотрел кто-то другой.
Сначала залапанный мыльными пятернями гипсовый дегенерат.
Потом гадкий манекен, восковая персона с облизанным эпидермисом в редких сочащихся красным порезах.
Я не узнавал этого неприятного резинового субъекта.
Я стал похож на манекена, поднятого со дна кислотной реки.
Будто с меня сошла вся краска.
Я стал глобусом без суши.
Я уезжал.
Все-таки побрившись весь, как предписывают строгие монастырские инструкции воинам Господа нашего.
С полупустой сумой через плечо.
Кроме новой жизни мне ничего было не надо.
Прошлого у меня не осталось.
Мыльной пеной я начертал на своем прошлом времени большой аккуратный специальный тайный крест прощания.
Все-таки, все-таки я что-то должен был сделать еще.
Я вернулся в ванную.
О! Во мне кое-что оставалось! Это мне было ни к чему. Семя жутко меня тяготило. С ним я не мог, конечно, не только взмыть, но и слететь в балкона.
Но красивый член, ставший в моем боевом кулаке абсолютно прекрасным фаллом, мог сбросить несколько белковых крупных слез всем на прощание.
На этот мыльный снег, чтобы взошли низкие басовитые всходы.
Семя прогудело во мне:
– Ууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!
– Стой спокойно! Ничего не делай! Изувечишься, стой спокойно, стой спокойно, стой спокойно!!! – вопили скучные сердобольные голоса глупых прохожих откуда-то снизу. Они доносились до меня, они делались смешными, нелепыми. Что они понимают…
Но мой взлет с широкого карниза был неукротим.
Машины “скорой” и спасателей пришли, однако, быстро…
Я эвакуировался.
Я ничего не взял лишнего.
Одеть меня им не удалось.
Милый Овечин, друг мой разлюбезный, пишу тебе шутливую открытку, извини, что тупым карандашиком, ведь теперь в свои права вступают другие темные силы, и податливый графит, то есть мрачный углерод, как никто иной из хорошо знакомой тебе таблицы Менделеева, уместен для перечисления: и страшного клятвопреступления, и отвратительной измены, и богомерзкого кровосмешения, а также греха, грезы, любви и счастья, для которых я не могу пока подобрать по-настоящему красивых слов. Я сделаю это позднее, если мне хватит времени. И если я смогу заострить карандашик. Правда, пока с этим проблемы. Ведь тут, в этом замкнутом заведении, нет ничегошеньки острого. За этим, знаешь ли, следят. Неусыпно. Да и сам я боюсь пораниться. И еще я чую, как времени остается все меньше и меньше.
Глупо на таком безжалостном фоне описывать перемены, коснувшиеся моего уклада. Но могу заверить тебя, брат мой во отцовстве, что нет лучше профессии, чем богатый путешественник, перебирающийся с одного облюбованного курорта на другой, с одного спокойного острова мечты – с мирным видом из окна – на еще более упокоенный укромный темный островок. И все это вместе (вместе!) с непристойно молодой особью особой особы, которая, вполне может статься, ему и дочь, как, впрочем, и тебе. Дочь. Ночь. Похожие словааа. Слышишь меняяяяаааааа?
Кем тебе приходится ночь?
Ыбосо-йобосо-юьбосо.
Надо ли продолжать эту историю?
Интересно ли тебе?
Да и что в ней, впрочем, всем прочим поучительного?
Ничего?
Овечин!
Будь внимателен!
Прочитай-ка наоборот это слово!
ничевО!
Ошибки не считаются, важен смысл!
Кроме того, что я все время, когда сплю, бодрствую, принимаю процедуры, завтракаю и прочее, осязаю или вижу перед собой живой милый памятник, хрупкий и гибкий монумент тебе, любезный друг, брат мой по белковой субстанции, хоть ты и считаешься провалившимся в небытие (в полный еитыбен), в изваянии коего ты принял ровно столько же участия, как и я.
Если выдастся время, когда мне станет, наконец, муторно и скучно или я устану от шума, и если при этом у меня не закружится голова, я поведаю тебе еще несколько сюжетов, связанных с ревностью, страхом, двойничеством и самым настоящим психозом, ведь моя чудесная дочь, моя молодая любимая пава зовется…Ты вообще-то можешь прочесть имя на ее фотографии. Ведь она осталась у тебя тоже? Все ведь двоится, коль удачно делится? Хоть ты однажды и отдал мне последнее. Только старайся прочесть с лицевой стороны. На просвет. У луны хватит яркости высветить насквозь этот лепесток.
Прощай, не забывай меня, соотец.
PS. У меня вторые сутки, Овечин, ничевО не болит. Совсем. Кроме одной буквы, как ты сам понимаешь, – “О”.
Ну, догадался ли ты, кто ты такой, мой непомерный, всеобъемлющий, лютый и дражайший?
Ну, понял ли ты хотя бы то – есть ли ты?