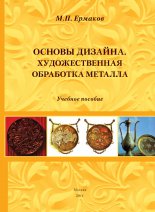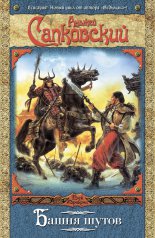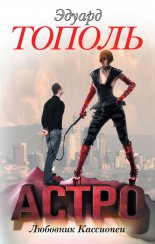Магический бестиарий Кононов Николай

Итак, собачка и усатая кукла навели меня на след, и, еще не зная причины, я стал приглядываться.
Они тоже смотрели на меня – точнее, на стеклянную кладку, разделяющую нас.
Общего, кроме университетской специализации, у нас не было ничего.
Мне почему-то кажется, что зажатые и сторонние, но всегда держащиеся вместе, они оттаивали рядом со мной, – когда в читальном зале я садился неподалеку, на один ряд дальше, обычно несколько сбоку. Наверное, это иллюзия, они меня, скорее всего, не замечали, но мне вспоминаются их лица, увиденные мной в боковом ракурсе. Я так больше всего люблю смотреть на других, на лепку лба и линию скулы, что бы читалась щека. Ведь ход ее линии всегда легок и выразителен. В любом лице. Он всем дает равный шанс. Три четверти – самый выгодный ракурс. Вот они и посейчас румяно улыбаются друг другу. Вернее, мне видится Вовкина щека, по которой пронеслась легчайшая волна согласия. К вечеру щетина пробивалась по его белой коже как россыпь мельчайшего мака.
И я внутри себя созерцаю их, улыбающихся, не могущих эту улыбку и легкость ее возникновения перенесть. Это особенная неутоляемая динамика. Жертвенная и компромиссная.
А партикулярная картина всего-навсего такова. Васька – бледный блондин, стриженный в скобку с тощей челкой, ходящий плоским животом вперед, как-то глупо косолапо, и Вовка – опрятный и бедный, сине-выбритый высоколобый красавец, очень способный. По своему социальному анамнезу он очень подходил для тогдашних наук.
Я помню их пару на сдвинутых ближе, чем обычно, конторских стульях, будто меж ними действовало какое-то тесное гравитационное поле, за одним библиотечным столом, под одной зеленой лампой в университетской библиотеке.
Я никогда не слышал резкого звука, чтобы они сдвигали стулья. Расстояние уменьшалось само. Может в нем проявлялась другая смутная мера.
Вовка – прямой и ладный, держащий хребтом строгую вертикаль, и Васька – сползающий к нему, в его сторону. Они глядят в одну и ту же проклятую книгу. Я-то к тому времени уже возненавидел свою будущую профессию, и волны электронов в эфире для меня больше не летали, а только зло искрили, задевая о синусы моей черепной коробки. Глядя на Вовку я чувствовал себя предателем гуманизма. Учился я только из-за уже выкинутого коту под хвост времени. И чтобы моя мама не расстраивалась. Да, еще – чтоб в армию не загреметь.
Теперь, вспоминая Вовку и Ваську, я понимаю и незримую конструкцию, объединяющую их. Понимаю с другой силой искренности, каким-то глухим, не метафорическим способом, довербальным. Будто еще не знаю слов. Ибо нынче все зоны моей личности для меня почти определены.
Последний осенний день.
Пригревающее солнце.
Все когда-нибудь умрут.
Сладости больше, чем понять свое прошлое, разгадать логику и силу его воздействия, не существует, так как, физически пройдя, прошлым оно не стало. Ведь не ускользает, не закатывается за горизонт некая язвящая сила, от которой-то и зависит определенность всего моего существования.
Прямая Вовкина спина, и Васька, вторящий ему на полтона мягче.
Я перехватывал горящую Васькину улыбку, горящий плотский взгляд, обволакивающий товарища. И это мне было безразлично. Но тонкого движения Вовкиных уст, донесшегося до меня, как лесной шум из-за косогора того времени, я не позабуду никогда.
И собачка вообще-то ожидала всегда именно его, Вовку. Семенила именно за ним.
Как она прибегала в урочный час к дверям факультета с другого края города? Тайна сия велика есть… Она тащилась за их парой к троллейбусной остановке всегда прибиваясь к Вовке. И если не было давки, то, бывало, и запрыгивала следом за ними, поджав многовитый хвост, поколебавшись и перетаптываясь перед прыжком. Они делали вид, что никакого отношения к псине не имеют. Но она преданно и как-то душевно смотрела на них, подбиваясь к Вовке.
Учеба делалась для меня все проще и проще, так как конец был не за горами, и надо было не делать только уж очень больших глупостей. Знаний никто с нас не спрашивал. Считалось, что все мы постигаем сами. Сами так сами. Что может быть лучше самостоятельности…
Какой-то, запамятовал, но весьма искусственный, насквозь сомнительный спецкурс нам втолковывал новоиспеченный младой доктор, как моряк, хороший сам собою. Сытый красавец, партикулярный успешник, лоснящийся советским ученым лоском чистого номенклатурного выдвиженца. Он распускал перед нами хвост, где, помню, помню, редко взблескивали и гуманитарные перья. В общем, свежевыбритый павлин.
И каково было мое удивление, когда я стал замечать стройного подтянутого Вовку в его лучших выучениках, добровольных ассистентах и лабораторных помощниках.
Чапа теперь сиживала сфинксом, ожидая Вовку, у младопрофессорских “Жигулей”. Какие вопросы она ему задавала?
Васька двигался по рекреациям потемневшим облаком, то есть не ходил, а просто плыл в случайных атмосферических потоках, кружился в разреженностях. Весь его вид говорил о том, что судьба, хорошо ли, плохо ли, но управляемая им, переменилась и стала судьбиной, с которой и делать-то ничего не надо, – она все порешит сама. Он тяжело ступал на полную стопу. В одночасье он стал косолап.
И он, не долго думая, отдал себя в жесткие длани Марсу, то есть написал какое-то заявление на военной кафедре, и машина его будущего закрутилась сама собою.
Какие-то там войска, какие-то там части, некие необжитые местности… Но, впрочем, чем это хуже выгородки у пьющей тетки в левой верхней части с правого конца Глебоврага.
Когда он подзывал Чапу, то подлая тварь отходила, не давалась и тихо, но внятно показывала зубы, словно мстила ему за что-то.
Поговаривали, что Вовка квартирует теперь у младопрофессорской родни. От Васьки он совершено определенно съехал.
И вот на моих глазах понурый Васька закатывался за горизонт. А Вовка восходил. Под него, молодого и перспективного, лепилось место ассистента павлина на кафедре, аспирантура и прочая синекура. Васька будто огибал его успех, будто боялся электрического разряда, могущего вспыхнуть между ними. Плюс и минус.
Над ним тихо зубоскалили, а мне было не смешно.
Сразу стало видно, что светлая скобка прикрывает молодые залысины, что он ссутулился, что он одет в вязаную жилетку и немодные штаны, что вид его глуп, что он брошен, никому в этой жизни не нужен и жалок. Вокруг него образовывалось пустот. Кому нужно чужое несчастье? И заразиться недолго. О них что-то поговаривали, об их неразлучной в прошлом паре. Но ничего такого, ручаюсь.
Тут в свои законные классические права вступает дорога железная, как литературный символ перемены, от нее никто, по меньшей мере физически, не сможет уклониться.
На вокзал Вовку привез фат-профессор. Он был в больших солнечных очках, скрывавших запудренную фару под глазом. Она лиловела сквозь грим. Как пережаренная глазунья. Чтоб это было не так заметно, он поворачивался к нашей короткостриженной толчее в профиль.
Трехмесячные военные сборы проходили за тридевять земель – в Дагестане, куда ехать самой малой скоростью надо было почти трое суток с двумя пересадками. В Астрахани и Махачкале.
Южная жара, выставленные окна (у Васьки оказался железнодорожный ключ), купленное на родине Хлебникова дешевое фруктовое хлёбово, меняли атмосферу южнорусского университета на тропическо-азийский бардак.
Этот путь стоит бегло описать, хотя бы для того, чтобы сравнить с тем же путем, проигранным задом наперед при возвращении.
Самое интересное во всех смыслах начиналось за Астраханью.
Голый поезд полз по однопутке через безнадежную пустыню с разбросанными бирюзовыми линзами непонятно откуда взявшейся воды. Эти линзы фокусировали свет небесный, и вся наша бездарная гвардия тихо глазела на пустынные пленэры, превозмогая всепобеждающее вагонное пьянство.
Что-то происходило вокруг движущегося поезда, – голубело, сгущаясь, небо, садилось тучное солнце, начинали темнеть барханы в округе. Точно прочерченная линия горизонта не сулила ничего.
Ничего не должно было измениться, и эта константа утверждала именно это.
Но что сблизило давно расставшихся друзей?
Мы тоже зададимся этим простодушным вопросом.
Но достоверного ответа на него не будет.
Сначала гордый Вовка незаметно перешел в наш вагон. Потом как-то перебрался в нашу плотно набитую выгородку. На каждой нижней полке сидело по три парня. Среди них – Васька. Я лежал этажом выше.
Вот Вовка втиснулся четвертым. Соседи, чтобы уменьшится, как будто выдохнули. Грубияны не посетовали на явное неудобство.
Васька не поворачивал своей, отданной на заклание Марсу, остриженной башки в его сторону. Я видел две его макушки. Будто в полуметре показывали для учеников опыты по электростатике, когда щетинятся наэлектризованные опилки.
Вдруг я почувствовал, как в его теле невидимое сжатие сменилось абсолютно непостижимой разреженностью. Что это – один из главных законов бытия белковых человечьих страждущих тел. Вот – по вдруг задышавшей ложбине его тощего затылка, убегающей в ворот тенниски, – словно у него отворились жабры, по хищно выпрямившейся спине и развернувшимся в напряжении плечам – я прочел невидимую конвульсию, пробивавшую его плоть. И лишь потом – в вагонной среде видимых измерений – просто увидел, как он жестко сжимает стакан, как разливает темное пойло, не заботясь о конспирации.
Я понимал – между ними что-то происходит. В это самое время, что вдруг стало жидким, то есть обратимым и безразличным. Оно перестало им мешать.
Ведь Вовка уже втиснулся рядом с ним и протянул свой стакан.
Тот налил, зажав на гранях стакана Вовкину руку. Этот жест не имел ни значения, ни протяженности. Смысл как-то испарился. Поэтому нынче я наблюдаю этот фрагмент все крупнее и крупнее. Я могу пересчитать рыжеватые волоски на фалангах Васькиных пальцев. У него, оказывается, тощие руки. Ногти скруглены лопаткой. Он зажал Вовкину ладонь до белизны. Это так достоверно, что я могу дать показания, заполнить протокол.
Вовка уставился сначала на стакан, потом – с трудом поднял лицо. Сверху я вдруг увидел, что дуга его лба скруглялась так, что мне не преодолеть восхищения этой абсолютной линией. Эта прелесть была очевидна всем. Она прельщала так, что не оставляла барьера. Я понял, что обольщение – это когда он, сидящий в полуметре от меня, приближается и удаляется одновременно. То и другое – навсегда. И я, не почувствовав преграды, переметнулся в Васькино зрение.
Через вспышку они посмотрели друг на друга. Словно укусили.
Всё.
Пришла ночь.
Утром мы еле вывалились в Махачкале на свежий и тихий перрон.
Ночью был дождь, и под прямым солнцем лужи начинали таять на глазах.
Мы ждали построения.
Васька тащил, как муравей, Вовкин огромный рюкзак. Он прислонил его к своему задрипанному чемодану. С третьего раза. В этом был ненужный никому символ. Я переглянулся сам с собою. Мне стало его жаль. Чувство, что это я совершаю неловкость, уже не покидало меня.
Ночью что-то произошло. Между ними лопнула какая-то перемычка, или их замкнуло накоротко… У Вовки алела свежая ранка на нижней губе. Как от неосторожного бритья. Он залепил ее покрасневшей папиросной бумагой. Это читалось мной как досадное нарушение целостности его тела, будто в это место вошла острая мокрая молния. Сквозь дурной сон я видел, как они все время сидели на нижней полке. Близко, без зазора. Молча. Как они выходили в тамбур. Шли тихой походкой конокрадов, примкнув друг к другу, – Вовка и Васька за ним.
Им предстояли три месяца плена. Одна казарма, легкая, как крыло саранчи, – доски внахлест, битые стекла окон, невесомая кровля над ребрами стропил, двухъярусные койки.
Стояла влажная морская жара, на акациях сидели цикады. Несмолкающие. Иногда их треск был совершенно невыносим, и кто-то из нас не выдерживал, бросался на дерево и отрывал живой трещащий коробок.
Так мы и жили на фабрике цикад.
Липнущая жара, слабая муштра, ленивые марш-броски, тяжелые недействующие противогазы через плечо.
Васька – неумолимый сержант, и я всегда что-то драил и мёл из-за своей нерадивости и полной непригодности к службе всякого рода. Стоял сутками у тумбочки, карауля незнамо что…
Но, надо сказать, арсеналы там были циклопические. Парки новеньких зеленых тягачей, гаубицы, танки, самоходки, обмундирование – стоило только нарядить миллион еще не спившихся мужчин, залить бензин в ссохшиеся баки – и, лети до Босфора.
Вовка и Васька были неразлучны.
К ним никто не приставал, так как они должны были разлучиться очень скоро, – и я вычеркивал в своем самодельном календарике дни, оставшиеся до возвращения. Их лесок делался все жалчее. И это уменьшение – на фоне всего летнего бреда было единственной реальностью и очевидностью.
Когда однажды мы, уже лежа на койках, всей казармой посылали очередной подобравшийся к ночи день на х…й, Ваську прорвало. Он гаркнул высоким едким голосом на нас – за хамство, нелюбовь к жизни и дикий рев и гвалт. Он явно не хотел, чтобы эти дни кончались.
За пределами этого времени его ждала неизвестность как чистая сущность подступающего будущего. Оттуда ему было невозможно дождаться никаких вестей, поэтому оно так и называлось.
Но человек, особенно молодой, может привыкнуть и приспособиться ко всему, а уж к молодеческой забаве военных лагерей – подавно.
От моей сердобольной подружки, вообразившая себя суженой военного, мне пришла полураскуроченная бандероль. Две пачки молотого кофею и переписанная ее дорогой рукой одна из “Северных элегий” престарелой Ахматовой. Та, самая скрипучая, где “две эпохи у воспоминаний” и ненавистное мне «как бы».
Простой Васька, застав меня за чтением элегического послания от моей подружки, стеснительно попросил стишок и во время самоподготовки старательно скопировал в свою военную тетрадку. Я увидел как элегия поползла, завиваясь ядовитой зеленой бухтой его немужского веревочного почерка. Среди схем и формул. Числительное “две” он подчеркнул красным, почему-то обвел “пятно чернил не стерто со стола”. Каких таких чернил, все думал я? В этом была какая-то берущая за сердце подростковая наивность. Из него получался очень плохой военный, – высокий голос срывался в фальцет плюс легкая шепелявость. Он старательно маршировал по плацу плоским шагом, разбрызгивал несуществующую в этой очумевшей природе воду. В нем не было ни куража, ни артистичности. Я понимал, что ему будет совершенно нечем заслониться от любых обстоятельств. Он должен был и там пребывать в туманных последних рядах.
Бывает, что юность, наоборот, не распрямляет и не расправляет молодого человека, а пеленает его коконом невзрачной силы. И Васька мог, нисколько не тренируясь, подтягиваться и отжиматься бесчисленные разы, как тяжко дышащий автомат. Мне почему-то запомнилось, что он не потел при этом. Только бледнел от натуги и распространял какой-то тугой запах. Будто внутри него сворачивались туже и туже какие-то жгуты. Он себя отжимал. Я знал, что так должна пахнуть сила. Сама по себе, если она есть в человеке. Что-то вроде чистого белка. И он не расстегивал гимнастерку на марш-броске и не сдвигал на затылок нелепую пилотку. Она была ему велика.
Только белесые высолы расходились от подмышек к лопаткам, как план зачаточных крылышек существа, не примкнувшего к боевому отряду насекомых. Как видимый очерк его внутреннего усилия.
И эта примета противоречит моей памяти, рисующей его как аллегорию сдержанности.
Армия ему абсолютно не подходила.
И он, невзирая на то, что я всегда был им же, неумолимым сержантом, наказан, вступал со мной в гражданские разговоры, записывал в свою тетрадку названия книг, которые еще не прочел. Служба – одно, а жизнь – другое.
Он скрывался с Вовкой в какие-то щели и темноты. То есть они выпадали непостижимым образом из времени, а, проявившись снова, почти в тот же час как исчезли (стояли самые длинные дни в году), красноречиво свидетельствовали о счастливом занятии, которому предавались. По меньшей мере свидетельствовали мне. Однажды за Вовкиным прижатым ухом так и осталось маленькое розовое соцветие, и стойка гимнастерки не скрывала залиловевшего отпечатка поцелуя. Закрытые темные скобки, между их дугами – бледный пробел. Но это все увидел только я.
С профессионально состоявшимся Вовкой я не обмолвился и словом – он проходил мимо меня, когда я что-то мыл в казарме или дневалил у тумбочки, как прекрасный парусник, поймавший струю бриза, и грудь его округло раздувалась.
Эти впечатления, честно говоря, были для меня несколько смазаны тем, что я сам закрутил не роман, романец, с младой воспиталкой детсада, резвящегося через забор от нашей глупой казармы.
Что себя обманывать, но по прошествии времени даже тень тогдашних удовольствий изгладилась совершенно, а череда часов, потраченных на милую молодушку, к сожалению, исказила достоверность моих наблюдений за настоящим философским романом, разворачивающимся рядом, вблизи, между Васькой и Вовкой. И эта потеря точности невосполнима.
Но даже редкие сегменты их любовной смуты, попадавшие в поле моего зрения, свидетельствовали о катастрофической силе их напрасной, да и опасной истории.
Но, кроме того розового цветика, они ничем себя не выдали. И след засоса никто кроме меня не заметил.
Да и что, собственно, цветик-цветок – “цветок увядший, безуханный”…
Мой цветик, старше меня на пятнадцать лет ничего, кроме встреч в пропахшей глаженьем комнатке кастелянши детсада, от меня, юнца, не хотел. Я помню, как выходил оттуда будто бы выутюженным. Чистым и гладким от астматического запаха детских пододеяльников, наволочек и простынок. Надпись на деревянной полке пальцем, окунутым в чернила: «чистое», «сменка». Эти слова я читал, лежа с цветком на топчане. Их лиловый смысл был параллелен моему положению – локальному и временному. Многому ленивый цветок меня так и не научила тогда. Во всех смыслах. И моя история, увы, тянула только на скучный анекдот. Цветочный муж в дальнем гарнизоне, а тут жаркое лето, фрукты, большое облако не сходит со своего места как воздушный змей… Я был просто каким-то юношей, не более. Самое значительное слово в этом предложении – «каким-то». Едва заполненной пустотой. Вот и все воспоминания.
Но ощущенья существуют только тогда, когда ощущаются. Звучит глупо, но зато точно. И мой сюжет со смешливой сероокой жинкой, отдыхающей от служивого мужа, укладывается в несколько кадров диафильма о гигиене гетеросексуальных отношений.
Я был чист по молодости лет. Она же – так как работала в детском саду.
Может быть кадров семь-восемь.
Рядом же закручивался настоящий мальштрем.
Жуткий, сдержанный и молчаливый. Смеха, точно, там не было.
В окна нашей тощей летней казармы перла луна. Она внезапно, как бульдозер гору сияющего шлака, вваливала мертвенно-желтый несвежий свет.
Я часто по дневной нерадивости и благодаря Васькиной неумолимой приметливости стаивал в карауле и думал, глядя на спящих: “Вот – поверженные”. И если бы они не проснулись, то по-настоящему мне жаль было бы только Ваську, потому что он имел свою собственную катастрофу. И смертная, самая лесистая часть моей души, вдыхая сонный ночной воздух, реагировала на это с каким-то звериным острым чутьем.
Я всегда знал о его появлении мгновением раньше, чем он появлялся.
Вот он несет кипятильник и голубоватую баночку из-под майонеза, чтобы заварить себе и мне кофе. Он искал моего общества.
Он все спрашивал и спрашивал меня, будто перед ним в ближайшем будущем приоткрывалась бездна свободного времени, и его-то он наконец употребит на книги, музыку и театр… Где он только их возьмет в тьмутаракани?
Один раз мы тащили с ним тяжеленный лагун-термос в караулку на обед. Я спросил его, изогнувшись дугой над завинченной на ушастые винты емкостью, спросил, будто между нами давно шел разговор, а, может быть, так оно и было, ведь никогда неизвестно, говорим ли мы что-то вообще:
– Василий, зачем он тебе нужен?
И он ответил, сразу поняв, о чем это я, глядя на меня:
– Зачем? А смерть зачем нужна?
И тогда я понял, что она, смерть, над ним всегда витала.
Я это вовсе не выдумал теперь, так как та реплика – одна из немногого, что достоверно проскользнуло между нами.
Теперь-то мне известно, что либидо и мортидо заодно и не противостоят друг другу. Но тогда я удивился этой случайной фразе, выскользнувшей помимо воли с самого дна его души.
А он, как выяснится по ходу повествования, понимал толк в катастрофах.
Первая, – разразилась следующей ночью, то есть ранним-ранним, еще сизым от ночной темноты, утром.
Перед самым отбоем перед казармой парни курили. Вспыхивая от последней затяжки, окурки летели в покрышку, наполненную песком.
И аккуратный Васька, гася папиросу, сказал высоким резким голосом:
– Ну, мужики, будет какая-то ерунда, попомните, блядь, мое слово. Генерал не пришел. Небось с бабой резвится.
Его фальцет зацепил меня, как узенький бич. Самым кончиком. Оставляющим красные следы. Огоньки нескольких сигарет вспыхнули одновременно. Но в такую ночь любой снайпер бы обессилел.
Гогот парней будто чуть растормошил воздух, сосем осевший к ночи, как стог. Мне казалось, что я облеплен трухой и пылью. Ночной час сбивался в колтун.
И жара, став во тьме невидимой, томила еще больше.
Так душно, и тяжело не было еще никогда.
Самые глупые услышав слово «баба» загомонили, как браво трахались все лагеря. Но это было неправдой, так как я, как почти бессменный дневальный, видел почти всё и всех. На самом деле только я один ходил к своей молодушке. В такой духоте их речи были настолько неубедительными, что все почти сразу смолкли.
Где-то вдали аккордеон гонял по кругу одну и ту же мелодию.
А Генералом, вообще-то, звалась кавказская овчарка – как йети – вся в белых лохмах и непомерной, не собачьей величины. Генерал сторожил фруктовый сад, примыкавший, как соблазн, к нашей части.
С одной стороны женственный детсад, с другой – просто сад.
Чтобы бессовестно наедаться разноцветной черешней, персиками и абрикосами, Генерала подобострастно прикармливали. Он был так велик, что полбуханки солдатского серого проглатывал в два глотка – точнее, в два жевка. Он был очень мил и весел, как каждое гигантское существо, и, валяясь перед входом в казарму, колотя тяжелым хвостом, сильно портил воздух.
И он, как дух фруктового сада, появлялся с наступлением сумерек.
Но этим вечером его не было, и я, как всегда, бдел неисправимым дураком у тумбочки и раздумывал, как хорошо улизнуть на свидание к моей робкой воспитательнице – не бурных чувств, но милых ощущений.
Про такую пору суток хорошо сказал Пушкин:
«Тиха украинская ночь».
Все так, но только не украинская, а аварская…
Я даже успел, когда все угомонились, сбегать, азартно расталкивая жару, в ее светелку и возвернуться, начувствовавшись, то есть наощущавшись всласть, и снова встать у той самой тумбочки беспечным удовлетворенным дурнем, только что совершившим преступление. В военную пору за него быстренько назначают расстрел.
Надо признаться, я полюбил сладкую оцепенелую тупость, мягкое начало времени, куда меня так легко вводила моя цветик. Искренне преисполнился благодарности за легкие уроки безразличия. С ней я словно репетировал семью. Весь мой обмякший растрепанный вид говорил: стреляйте, вот он – совсем сомлевший и сдавшийся я. Но я никому, даже моей ленивой воспитательнице, уже не был нужен. Чтобы добраться до нее мне надо было сделать что-то около тысячи невзрачных шагов. Я подсчитал. Он и я, счетовод и ходок, сливались в тупящей атмосфере. Я просто дурел.
Мимо меня мягко прошли полуодетые Васька с Вовкой. Они были в одних галифе, босые. Васька ступал внутрь, подворачивая стопы, словно лечил плоскостопие, Вовка шел тоже очень мягко, по-кошачьи, но как-то след в след за ним. Заметив меня, сутуло сидящего на тумбочке, они перешли к нормальному шагу и приосанились.
Васька тихо бросил мне, словно присвистнул:
– Слышь, мы друг друга не видели.
Я миролюбиво кивнул.
– Слышь, у тебя башка сегодня не кружится? – прибавил, задержавшись подле меня, он, очертив указательным пальцем медленный овал перед моим носом.
– Нет, едет, туда, – я глупо показал пальцем в голую лампочку, висящую на стропилах, как удавленник.
Они растворились.
Через несколько минут подо мною, вздохнув, качнулась тумбочка, и тихое невидимое напряжение пробежало по половицам. Будто неподалеку тяжелый состав беззвучно тронулся с места. “Дотрахался”, – сказал я сам себе. Но тут со стен посыпалась лаптами побелка, затрещали перекрытия, сорвался со стены огнетушитель, и громко проорав спящей казарме: “Атас!” – я первым выбежал вон.
Это было самое настоящее землетрясение.
Обошлось без жертв, так как строение с нашими “летними квартирами” было щитовым и легким, как воздушный змей. Только огромная длинная орясина стропил, сосновая поперечина обломилась на спящих. Она уперлась ржавой не выдержавшей скобой ровно в мою койку, ровно в плоскую казенную подушку моей постели на втором этаже.
– Да, бывает, и круглым балбесом быть неплохо, все ему как с гуся вода. Два наряда вне очереди, гусь! – Сказал, указывая на меня пальцем на утреннем построении под всеобщий нервный гогот, наш университетский офицер.
Гусь не стал обижаться и спорить, так как предстоял государственный экзамен по военной специальности. И оценки, полученные мною, были весьма красноречивы:
подход к начальнику – 5
тактика – 3
знание спец. предмета – 2
надевание противогаза – 3
отход от начальника – 5.
Итоговую четверку, то есть “хорошо”, я честно заработал.
Синклиту экзаменаторов была куплена целая сумка спиртного и объемистый туесок съестного.
Вообще-то по логике вещей дубина должна была ухнуть на Ваську.
Но логика на то и логика, что промышляет отдельно от вещей.
И Васька бродил в одиночестве по пустому, залитому солнцем плацу, после этого несовпадения внезапно разбуженной сомнамбулой.
Описывая историю утреннего землетрясения, я окончательно отодвигаю ее от себя, изгоняю путем поглощения, хотя бы для того, чтобы она не поглотила меня самого с потрохами.
Для чистоты жанра воспоминаний, (чья чистота назначается лишь мною самим), стоит привести еще одну фразу Васьки, обращенную ко мне, когда через несколько дней после происшествия он с Вовкой прошел мимо меня, стоявшего у злосчастной тумбочки.
Если можно столбенеть, то можно и тумбенеть.
Этой фразой он еще раз прошил меня – точнее, ту мою часть, где обитают: смущение, недоумение и страх.
– Ты вот спрашивал: “Зачем?” А хочешь попробовать?
И, не оставляя места для паузы, сам и ответил. Сразу и определенно:
– Но я знаю, ты не хочешь.
И эта фраза все время продолжает во мне работу, ведет глубокий подкоп под мое прошлое – под его самую неопределенную область. Она и составляет для меня главный сегодняшний интерес.
Достоверно ли это выглядит? Вот что волнует меня больше всего.
Как доказать истинность прошедшего времени, представшего в виде нагромождения аффективных эпизодов?
И вот я в полном молчании, закрыв глаза, восстанавливаю закономерный конец этой истории.
Не итог сюжетного и фабульного равновесия, а настоящий конец – как на пиру Валтасара, когда все едящие прочли первое сияющее слово – текел, (что толкуется: ты взвешен на весах и признан очень легким).
После экзаменов до конца сборов оставалась какая-то неделя, и сам черт был нам не брат. Упавшее на мое ложе, изголовье ложа, стропило было бодро распилено и вынесено к чертовой матери, и продано аборигенам на дрова, водка само собой полилась широкой русской рекой, и письмоноша принес Вовке тощее письмецо, видимо от сердечного друга. Он помахал им как веером перед Васькиной круглой физиономией. Тот по-кошачьи подобрался, молниеносно выхватил и порвал конверт, точнее, искромсал его в шелуху, в конфетти.
Я это видел, так как тем самым письмоношей был я.
– Пфу, рэпята, – промолвил я, – нэ ната ссооритсаа, – глупо имитируя эстонский акцент.
Я каким-то образом стал тогда их поверенным.
Они перестали меня стесняться. Как общежитской мебели.
– Дай ключ! – сказал он мне.
Я дал. Ключ от каптерки, как у вечного дневального, был у меня.
Пронзительно посмотрев на Вовку, не сходя с россыпей порванного послания, он спокойно сказал:
– Пошли.
– Да иди ты…
Но Васька посмотрел на него так, что тот сделал шаг к нему.
– Постоишь на стрёме, – бросил он мне, и я не смог не подчиниться.
Отчаяние, иллюминированное им, не опознать было невозможно.
Это качество в последние предотъездные дни стало каким-то видимым приложением к его образу, хотя наличествовало в нем и раньше, так как я помню его и до лагерей отчаявшимся человеком, – он перестал чаять, но столь зримо, как сейчас, это не проступало.
Ему невозможно было не подчиниться, он просто парализовал, вводил в транс подчиненности, вызывал животное подчинение. Где-то на уровне живота во мне угнездилось чувство, что я давно готов выполнить любой его приказ.
Было ясно, что он теперь с кем угодно мог сотворить что угодно.
Но, кроме Вовки, ему никто не был нужен.
Он стал ненасытен и прожорлив.
Чтобы не оскандалиться, Вовка тихо ему повиновался.
Но тот был ненасыщаем.
Это был пир. Каннибала.
Еще немного, и он бы его съел. С потрохами…
О милосердии уже не могло быть и речи.
Он себя вел так, будто все кончалось.
Мы погрузились в состав, и я подумал, что вот она – долгая обратная дорога, небыстрый путь – убаюкиватель и успокоитель, то есть – лучший лекарь.
Дорога – сама по себе уже перемена и может подготовить человека к простой мысли о том, что жизнь, полная скрытых трагедий и терзаний, – меняясь час от часу хотя бы внешне, все-таки продолжается. Например, как пейзаж за окном. Эта простая мысль посещает всех, едущих на долгих небыстрых поездах. С Кавказа в Поволжье. Ржавым кружным путем. Примерно так я и думал, сидя на грязной полке. Ну, элегия, да и только…
И, действительно, спокойные зеленя пригородов сменились зелено-голубым стеклом Каспия. Даже раскиданная тут и там индустриальная пакость не могла испортить целебного морского вида. Молодых офицеров свежил йод, они пили без устали и, кажется, взирая за окно, умиротворялись. Вот море отступило, и мы, ненужные морю, переползли в чудесную степь, а степь – в восхитительную пустыню, ровную, как стол, как синоним новой жизни. Мы опять тащились в песках. Как фантом.
Никакой перемены.
И мне казалось, что поезд вытягивается, как резиновый.
На полустанках мы покупали арбузы или отбирали их у торгующих, всего теперь и не упомнишь, но драки сопутствовали всему нашему перемещению, и это было как в вестерне, только без стрельбы.
Арбузы, выпивка, драки, песни, карты, прочие глупости.
За всей этой катавасией я позабыл про моих героев – про Ваську с Вовкой. Простые молодые удовольствия занимали меня куда больше, чем чужие страсти, бушующие в полуметре.
Но вот последняя пересадка в Астрахани.
Наши два последних общих вагона, забитые молодыми офицерами под самую завязку. Грязные стекла, нет матрасов и постелей. Да и ладно, и так скоро доедем.
Без каких бы то ни было желаний, я тупо лежал на верхней третьей полке, как чемодан, у самого потолка, нюхая липкую поездную пыль, перемешанную с духом одуревших парней.
Все мысли отступили от меня.
Мне чудилось, что я рассматриваю свою руку. Считаю пальцы. Сначала от большого к мизинцу, а потом наоборот – от мизинца к большому. До меня вдруг дошло, что «я» стал «ты» и между ними не было разрыва. И надо ли течь времени, что бы преодолеть этот промежуток?
Моя рука сама меня толкнула. Еще. Еще раз. Почти удар. Я не успел сам себе возмутиться.
Это был Васька:
– Пошли!
Блеск его почерневших глаз не терпел возражений.
– Там тамбур не запирается. Подержишь! – дыхнул он струей жесткого горючего угара, будто накидывал мне на шею удавку, не прикасаясь, толкал меня, но не от себя, а за собой, к себе.
Нет-нет, он не был пьян, и от него не несло перегаром, – нет, чем-то другим, что уже развернулось, расплавилось и вот-вот станет газообразным и всепроницающим.
Задевая ноги спящих, мы шли с ним в последний вагон, в самый последний тамбур. Мне показалось тогда, что я иду по моргу, – только ступни торчат по краям прохода, но без бирок. Босые или в грязных носках. Их еще не стянули санитары.