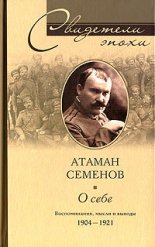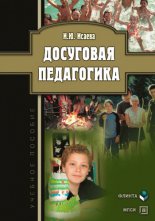Нити разрубленных узлов Иванова Вероника
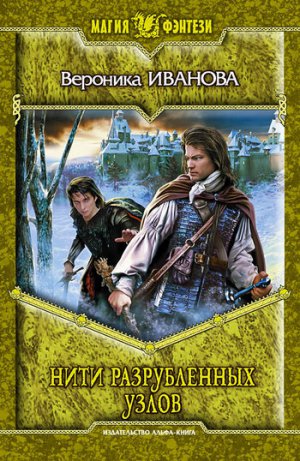
Здесь…
Иакин Кавалено никогда и ни в чем не сомневался. Даже в тот день, одним легким движением зачеркнувший детство, сомнений не возникло. Ни на мгновение.
Казалось бы, мальчишка, называющийся наследником человека, которого одна половина Катралы боялась, а другая ненавидела, мальчишка, видевший с рождения только согбенные спины слуг или гордо поднятый подбородок отца, мальчишка, слышавший слово «нет» так редко, что почти забыл о его существовании… Он должен был усомниться, удивиться, прийти в ярость, наконец. Но вместо всего этого лишь послушно кивнул, когда Кроволивец Горге, позвавший своего единственного сына в кабинет и ожидавший там, но не в одиночестве, а положив ладони на плечи тоненькой девочки, сказал:
— Ее тело примет меня, когда придет время.
Сказал, улыбаясь с той самой нежностью, что когда-то наполняла каждый его взгляд, направленный на любимую супругу. Супругу, вот уже много лет почивавшую в усыпальнице рода Кавалено.
Мальчику не раз объясняли, что он и не смог бы ослушаться повеления своего отца, каким бы оно ни было, — такова уж участь всех недокровок, особенно при звуке голоса того, кто их породил. Нечего ни стыдиться, ни проклинать, лучше принять предначертанную судьбу как должное. Иакин никогда не собирался делать ни первое, ни второе. Но в тот день решил отказаться и от третьего тоже.
Девочка, заметно млеющая от сильных прикосновений и в эти минуты вряд ли способная что-то видеть затуманенным взглядом, была похожа на свою мать. Похожа настолько сильно, что смогла не только пробудить воспоминания, но и помогла понять истинный смысл обрывков прошлого.
Эррита Имма появилась в Катрале не по своей воле, привезенная кем-то то ли из слуг, то ли из наемников Горге Кавалено, причем привезенная для личного пользования, сразу же привлекла внимание Кроволивца и ступила на порог нового дома, пройдя по трупу несчастного, отыскавшего в неизвестных краях белокурую красавицу. Она была вовсе не злой и не жестокой, даже наоборот: Иакин помнил мягкое тепло материнских пальцев на своей макушке и тихий покой странно светлых глаз. Но она была женщиной и была влюблена в своего мужа. Влюблена настолько, что не осмелилась перечить его воле и тем самым только лишний раз доказала, что явилась на юг из совсем других земель: оттуда, где женская гордость лишь отражение мужской.
Горге Кавалено был нужен особый наследник, способный стать вместилищем его души. Для всего прочего должен был сгодиться сын, зачатый в первую же, еще добрачную ночь прямо на столе, до которого влюбленные едва успели добраться, путаясь в объятиях и одеждах. Правда, свадьба не заставила себя ждать, и никому даже из недоброжелателей не пришло бы в голову назвать первенца незаконнорожденным. В конце концов, что решает всего один день? А потом еще долго других детей не рождалось. Зато Иакин часто видел свою мать изможденной, измученной, глядящей на супруга затравленно, но по-прежнему влюбленно. Вскоре к ней начали приходить мужчины. Почти каждую ночь. И их было много, мужчин и ночей. Так много, что эррита Имма неуклонно становилась похожей на бледную тень. Пока не растаяла вовсе.
Сын честно оплакивал свою безвременно скончавшуюся мать, но одновременно вместе с ее кончиной в его сердце поселилась спокойная уверенность, сделавшая маленького мальчика удивительно немногословным. Правда, в тот день он едва не онемел навсегда.
Девочка, вставшая на пути беспечального будущего. Зеркальная копия женщины, скончавшейся, потакая прихотям супруга. Ладони отца на ее плечах походили на крылья, пока еще сложенные, но вот-вот готовые раскрыться и вознести свою ношу на самый верх, туда, где светит яркое солнце и где сбываются мечты…
Иакин не умел сомневаться и в единое мгновение понял: все кончено. Кроволивец Горге приготовил себе настоящую замену, приготовил тщательно, любовно, жертвуя истинно драгоценными вещами, вкладывая в свой труд чувства, и малой толики которых пожалел для единственного сына.
Лус…
Ненависть? Нет, Иакин не испытывал к своей сестре чего-либо подобного. Но, всякий раз взглядом натыкаясь на точеное личико в облаке коротких светлых локонов, понимал, что не сможет никогда ни простить, ни забыть. Ни Горге, ни ее. И будет только правильно, если дочь последует за отцом.
Да, так будет правильно.
Верховный бальга Катралы отодвинул кисею занавески и, брезгливо щуря глаза, посмотрел на крышу галереи внутреннего двора, по тусклой черепице которой протянулась тень от одной из дозорных башенок. Близился вечер, а с ним и исполнение давно намеченного плана. Если у Танны все уже готово, можно не медля ни минуты…
Иакин с удовлетворением отметил, что пальцы, касающиеся тонкого кружева, остаются настолько неподвижными, насколько это вообще возможно, и плетеный узор колышется, потревоженный лишь дыханием. Впрочем, сейчас и оно казалось лишним посреди покоя огромного кабинета, где стулья, столы и шкафы были расставлены тем особым способом, что легко позволил бы какое-то время держать оборону даже при самом неудачном раскладе сил.
Отец всегда старательно думал о безопасности, этого у него не отнять. Но счастливец, получающий почти все на свете без каких-либо стараний, рано или поздно становится слишком самоуверенным. Именно самоуверенность сгубила и Кроволивца Горге, привыкшего считать своего сына таким же слугой, как и все остальные. Таким же послушным и пустоголовым…
Одним ударом рассечь суставы не удалось, пришлось пилить. И как бы Иакину Кавалено ни была в глубине души омерзительна эта кровавая работа, он ни на мгновение не помыслил позвать кого-то на помощь. И потому, что не мог быть уверен ни в ком из обитателей дома, и потому, что, выступая против отца в одиночку, он в одиночку получал всю награду за свое деяние. Позже, когда власть окончательно перешла в руки юного наследника прежнего бальги, помощники нашлись сами. Вернее, помощница.
Танна Тьяри не помнила своих родителей, да и не желала помнить: достаточно было того, что один из них носил в своем теле демона. Это роднило светловолосого мужчину и темнокосую женщину лучше всего другого. Даже лучше чувств, что обычно возникают между людьми. Чувств, которые верховный бальга не испытывал ни к кому на свете просто потому, что не успел их узнать.
— Этот человек опасен.
Она любила войти вот так, неслышно и незаметно, подбирая подол, чтобы платье шелестом не выдало свою хозяйку. Подкрасться, оказавшись на расстоянии не более двух шагов, и что-нибудь проговорить, чаще всего что-нибудь глупое и неуместное. Но сейчас Иакин простил своей верной служанке ее излюбленную вольность. Ведь все это было уже неважно. А вот слова…
— О ком ты говоришь?
Не дождавшись быстрого ответа, верховный бальга недовольно повернулся, но если раньше Танна непременно бы зарделась или побледнела, встречая тяжелый темный взгляд, то в этот раз выдержала его спокойно, словно было что-то другое, куда больше волновавшее женщину, чем гнев господина.
— Этот человек, — повторила она и снова долго молчала, прежде чем добавить: — Вы привели его с собой прошлой ночью.
— Что ты видишь в нем опасного?
— Он человек, — произнесла Танна, перекатывая каждый слог во рту, как камешек.
— Я видел.
Большинство недокровок не считали себя людьми, остро чувствуя собственную ущербность. И зачастую готовы были поставить выше себя ничтожного человека, лишь бы его кровь была чиста, ведь она давала тому шанс стать равным божествам, спустившимся на землю.
Иакин Кавалено был о себе лучшего мнения, но и сам еще во время поездки в паланкине, находясь так близко от чужака, ощущая сонм его желаний всей своей кожей, поймал себя на мысли, что хочет преклонить колена и губами коснуться пыльных сапог. С жителями Катралы было проще, почти все они старательно избегали желаний либо желали одного: спрятаться и скрыться. Даже у эрриты Фьерде желание уничтожить бальгерию было единственным, а вот гость из столицы…
— И он что-то ищет…
— Ищет силу.
Танна качнула головой, будто хотела возразить, но не решилась сделать это вслух.
— Думаешь иначе?
— Ему не нужна сила, я знаю.
— Знаешь? Откуда?
— Потому что мне сила тоже не нужна.
Женщина шагнула вперед, впрочем так и не осмелившись пересечь невидимую черту, в ее понимании отделявшую верховного бальгу от остального мира. Зато посмотрела так пронзительно, что Иакин невольно сравнил глубину глядящих на него глаз с яростным взором эрриты Эвины. Мысленно, разумеется, чтобы не признавать победу за своей помощницей.
— Что же нужно тебе и… ему?
— Сильный вождь, за которым стоит идти.
— И что же в этом опасного?
— Если тот, кто впереди, вдруг перестанет быть сильным, пусть даже на короткое время…
Танна осеклась, запоздало сообразив, что признается в сомнениях, которые уж точно могут быть опасны, и прежде всего для нее самой, но Иакин смотрел на вещи с иной стороны. Той, на которой не было места женским страхам.
— Не волнуйся об этом.
Опасен чужеземец или нет, не имело значения раньше, да и теперь ничего не решало. А уж когда свершится задуманное, у верховного бальги останется всего лишь один враг. Время. Но без гостя из столицы не обойтись. Если Катралу Иакин знал до омерзения хорошо, то все земли, что простирались дальше, пока оставались загадкой, справиться с которой в одиночку будет сложно.
— Я хотела сказать…
— После. Мы поговорим обо всем после, обещаю.
По щекам женщины стремительно разлился румянец.
Всего одно коротенькое слово, и больше ничего не нужно… Надо же. И значит произнесенное вовсе не то, что она себе вообразила.
Но Иакин не лгал, давая туманное обещание. Он вообще не имел привычки обманывать, потому что с детства усвоил: молчание никогда не бывает правдивым или лживым, а значит, способно прикидываться и тем и другим.
— Ты подготовила сверток?
— Да, эррете.
Она склонила голову, и гладко причесанные волосы глянцево блеснули, оказавшись на пути солнечного луча, пробившегося сквозь неплотно задвинутые занавески.
— Я сейчас спущусь. Жди меня в паланкине.
Женщина еще раз поклонилась и, половину пути до двери пятясь, а другую половину пролетев быстрыми шагами, покинула кабинет. Иакин Кавалено не стал провожать свою помощницу взглядом, вновь уделяя куда больше внимания теням на крыше галереи.
Разговор произойдет. Совсем скоро. Обо всем на свете. И его никому не удастся избежать.
* * *
Глорис не различал дни месяца между собой. Но не потому, что от мига пробуждения до мига, когда закрытые глаза начинали видеть сны, всегда проходило одно и то же количество времени. Нет, просто это самое время изо дня в день текло одинаково. Утренний молебен, дневной молебен, вечерний молебен и краткие часы отдыха между разговорами с небом — замкнутый круг, из которого невозможно было вырваться.
Нужно было думать о побеге давным-давно, когда совсем юного прибоженного привезли в Катралу. Думать, пока еще жили в памяти смутные образы других краев и других людей, существовавших не одной лишь верой, пока предначертанный путь не превратился из кочковатой тропы в мощенную камнем дорогу. Да, идти стало удобнее и проще. Но впереди почему-то виделся тупик, а не просторы, убегающие за горизонт…
Мысли, текшие с привычной плавностью, вдруг остановились, и Глорис не сразу смог понять, что произошло. А когда понял, голова показалась совершенно пустой. Как главный зал кумирни по окончании последнего за день молебна.
Это слово — горизонт. Откуда оно взялось? Что означает?
Когда-то оно было знакомо и чему-то соответствовало, как и все прочие слова, но куда исчез его смысл? Верно, туда же, куда утекали минуты жизни.
Он знал, что умрет раньше прочих, об этом ему не преминули сообщить сразу же после инициации, дабы вновь допущенный до общения с богами не возомнил себя равным небесным жителям. И Глорис помнил, что это известие его не испугало. Наоборот, показалось вполне уместным. Прибоженный и сейчас не боялся, но…
Тот человек. Чужеземец. Да, он был другим сам по себе, хотя светлыми волосами немного походил на верховного бальгу. Но главное, смотрел по-другому. Смотрел на Глориса не как на сошедшее с небес божество, а как на человека. С уважением, но как на равного. Это было так странно — не ощущать границы, к которой привык за многие годы, просто дух захватывало. Словно еще мгновение назад ты уныло шел по опостылевшему лабиринту, от стены к стене, и вдруг оказался перед зияющим проломом… Он мог вести в бездну или к неприступным высотам, мог скрывать за собой опасность, зато показывал: есть и что-то кроме смыкающихся над твоей головой стен. Есть что-то и за ними.
Глорис мысленно вернулся к разговору с верховным бальгой, разговору о непонятных вещах и заведенному с непонятной целью. Пока голос Иакина звучал в ушах, прибоженный внимал каждому слову, что бы оно ни означало. Но потом, в ночи, окутавшей Катралу, пришли сомнения, оковами повисшие на руках и ногах, и только взгляд чужеземца каким-то странным образом смог их рассеять.
Это как раз удивляло Глориса больше всего остального. Почему незнакомый человек, да еще и приехавший издалека, оказался убедительнее, чем друг детства? Все должно было быть ровно наоборот!
Прибоженный привык верить. Можно сказать, вера была для него способом существования, но сегодня утром словно иссякла, потому что случилось… Ну да, настоящее чудо: дверь, о которой говорил Иакин, все-таки приоткрылась, показав, что выход есть не только в отчаянных мечтах, но и в реальности. И чудо было явлено человеком.
Человеком…
Но если так, значит, и сам Глорис тоже когда-нибудь сможет для кого-то сотворить чудо?
От дерзости собственных мыслей стало одновременно жарко и холодно: струйки пота побежали по спине наперегонки с мурашками.
Мир рушился. На глазах. Еще час назад он выглядел неприступно-незыблемым, а сейчас рассыпался быстрее, чем песчаный замок. Быстрее, чем…
Прибоженный вновь осадил мысль, как непослушного скакуна. Песчаный замок? Это еще что такое? В Катрале не было песка, одна лишь земля, иногда больше похожая на прах. И из нее никто и никогда ничего не строил. Но если в памяти всплыла пара непонятных слов, значит, мир и вправду больше, чем кажется? Значит, где-то в прошлом были и горизонты, и шелковистый песок, струящийся между пальцами?
Дыхание на мгновение прервалось, а потом нещадно зачастило.
Так вот каков истинный соблазн! О борьбе с ним было легко твердить, пока бороться не приходилось. А что делать теперь, когда где-то глубоко внутри затеплился и с каждым мгновением все сильнее разгорается огонь того, от чего нужно спасаться?
Огонь желания. Он оказался совсем не похожим на все представления о нем. Он мучителен, но вместе с тем и безумно приятен. Он словно помогает плоти и духу согреваться изнутри, а не снаружи, и кажется, что жара за окнами кумирни беспомощно складывает свое оружие перед незримым пламенем…
Или просто наступает вечер, а вместе с ним час подношений.
Глорис вздохнул и поправил складки своего одеяния, уже не белоснежного, как полагается при проведении молебна, а скромно-пепельного, более подобающего при принятии даров от благодарных молельщиков.
Сколько их будет на сей раз? Чуть более дюжины, как обычно? А лучше бы вовсе никто не пришел. Прибоженный впервые не хотел делать то, к чему его принуждали правила.
Впервые никого не хотел видеть, потому что тогда бы увидели и его. Увидели бы, насколько он смятен и…
Сумерки, постепенно сгущающиеся даже под сводами кумирни, расступились, пропуская знакомую фигуру в черном костюме. Позади виднелась еще одна, но та вместе с чем-то, похожим на сверток, предпочла оставаться в густых тенях.
— Ты ведь нарочно привел его на молебен, да?
Начинать принятие подношений следовало совсем с другой фразы, но Глорис не смог удержаться, хотя тут же пожалел о сказанном, потому что в вырвавшихся на свободу словах оказалось слишком много чувств. И далеко не тех, что должен испытывать прибоженный.
— Нарочно? — Ответный вопрос прозвучал по-настоящему удивленно, как будто верховный бальга то ли не понял, о чем идет речь, то ли не имел никакой задней мысли, приглашая чужеземца в кумирню.
— Ты хотел, чтобы он подтвердил твои слова. Ты думал, что тебе я не… Не поверю так, как нужно.
Теперь Глорис не спрашивал. А Иакин не спешил отвечать: стоял и смотрел своими темными спокойными глазами. Просто смотрел.
— Ты знал, что я не смогу на что-то решиться. На что-то невозможное. А тот человек показал: выход есть. Много выходов. — Прибоженный старался говорить медленно, придавая каждому слову значение, но дыхание то и дело предательски срывалось, оборачиваясь всхлипами. — И когда я понял, что есть земли, где люди живут иначе, чем здесь, я… Я больше не могу жить, как прежде. Я хочу…
На последнем слове Иакин очнулся от бесстрастного созерцания и поднял правую ладонь:
— Остановись.
— Но почему?
Странный приказ друга, раньше тотчас же исполненный бы, теперь заставил возмутиться, заставил почувствовать ограничение свободы в сотни раз острее, чем прежде.
— У тебя появилось желание. — Верховный бальга, казалось, стал еще спокойнее, чем это возможно. Или сосредоточеннее? Это хорошо.
— Разве? — горько усомнился прибоженный. — Почему же тогда в молитвах всегда повторяется обратное? Почему они говорят: желать — все равно что губить себя собственными руками?
Иакин должен был улыбнуться. Если бы он улыбнулся той самой улыбкой, что совсем недавно посещала его губы, все бы изменилось, Глорис чувствовал это. Все бы вернулось назад, к привычному, хоть и до смерти надоевшему порядку. Вокруг снова выросли бы непроглядные стены, сохраняющие покой, и…
Покоя прибоженному больше не хотелось. Но он ждал, что уголки губ верховного бальги вот-вот приподнимутся. Боялся — и все-таки ждал.
— Для тех, кто остается здесь, желания всегда будут запретны. Для тех, кто уходит…
Иакин не улыбнулся. Напротив, сейчас он выглядел серьезнее, чем когда-либо. И увереннее. Можно сказать, уверенности в выражении его лица хватило бы даже не на двоих, а на добрую половину жителей Катралы. Если этим жителям, конечно, вообще когда-либо требовалась уверенность.
— Это правило, которое нельзя нарушать!
— Но можно установить другое. Действующее только для тебя одного.
Глорис почувствовал, что почти задыхается, а бальга, подойдя на расстояние вытянутой руки, продолжил:
— Правила придумывают люди, и это ты должен знать лучше всех нас. Ты же разговариваешь с богами. Как часто они отвечают тебе? Да и вообще, ответили ли хоть раз?
Он произносил кощунственные вещи, и все же он был прав. Прибоженный хотел бы поспорить, он чувствовал, что именно сейчас спор не только уместен, даже необходим, вот только чего-то не хватало. Может быть, сил. Может быть, веры.
Они ведь и правда молчали. Иногда казалось, что ответ вот-вот раздастся или уже раздается, просто звуки далеких голосов не долетают до ушей преданного слуги божьего. Были лишь дуновения теплого воздуха, но кто создавал их?
Не молельщики ли, послушно повторяющие слова за своим духовным поводырем?
— Ты богохульствуешь…
Иакин насмешливо приподнял левую бровь.
— Ты… — Глорис понимал, что и сам не верит собственным словам. Все, что так долго и упорно вдалбливали ему в голову, оказалось горсткой праха, развеянного случайно залетевшим под своды кумирни свежим ветерком. — Ты…
— Я пришел за тобой, как и обещал.
И тут слова закончились. Совершенно некстати, потому что прибоженному именно сейчас захотелось рассказать обо всем, что он испытал за прошедший день.
Оставалось только молча, одним лишь взглядом попытаться спросить…
«И что дальше?»
— Ты хотел увидеть другие земли? Ты их увидишь. Твое желание исполнится. Но у меня тоже есть желание. Понимаешь?
Глорис кивнул, сглатывая густую, как сироп, слюну.
— Там, куда мы пойдем, будет много разных людей. И не все будут нам рады. Но я не хочу причинять кому-то вред, я хочу… Говорить с ними. Говорить так, чтобы они слушали и слышали меня. Тогда кровь не прольется. Ни капли крови. Слова могут быть сильнее оружия. И они не отнимают жизни.
С этим прибоженный был согласен, хотя что-то в речах верховного бальги настораживало. Какая-то мелочь, прячущаяся за правильными утверждениями. Но огонь еще не оформившегося желания жег все сильнее, мешая думать.
— Моего голоса может не хватить, чтобы поговорить со всеми. Мне нужна помощь. Помощь друга.
Друга… Он на самом деле произнес это слово?!
Глорис почувствовал, как внутренний жар прорывается наружу, наверняка выступая алым румянцем на щеках. Это было немного стыдно, так прилюдно показывать свое счастье, но о приличиях теперь можно было забыть.
— Мне нужно, чтобы мои слова добирались не до разума, а до самого сердца. Ведь только сердце способно поступать правильно.
— И что я… должен сделать?
— Всего лишь захотеть.
— И только-то?
Верховный бальга приподнял вторую бровь, став похожим на растерянного ребенка. Глорис хотел было объяснить ему, как это легко — захотеть, но вместо этого махнул рукой и мысленно шагнул в марево, предваряющее костер желания.
Языки невидимого пламени обступили прибоженного со всех сторон, только ничуть не обжигая, а ластясь, словно верные псы, сплелись коконом, сжимая своего хозяина в крепких объятиях, сдавили, лишая зрения, слуха, дыхания… Но милостиво не отнимая дар речи. Милостиво позволяя прокричать в тишину кумирни:
— Я хочу нести твои слова в сердца людей!
И сейчас…
Из двух занятий, помогающих скоротать время, — утешения рыдающей девицы и безмятежного сна в тишине и покое, я выбрал сон. Правда, полностью безмятежным он не получился, и опять-таки благодаря женщине. Которой в моей постели на сей раз не было. Благодаря благороднейшей из благородных.
Верховный бальга ничем не показал своей обеспокоенности, а ведь следовало бы, по меньшей мере, задуматься. Не каждый день посреди вроде бы покорного тебе города устраивается безумный танец с кроваво-красными платками, недвусмысленно намекающий на дела давно минувших дней.
Только приезжий мог оставить странное представление без внимания. Только я, если быть точным. Но я-то к этому времени уж услышал печальную историю о сошедшем с ума и устроившем резню демоне. И может быть, именно из-за свежести впечатлений уделил происходящему куда больше внимания, чем должен был?
Нет, ерунда. То, что случилось на площади, в хрониках обычно называют «народными волнениями». Называют, конечно, потом, когда высыхают и чернила под приказами о казнях, и пролитая кровь. Пусть Эвина Фьерде не совсем «народ», а скорее предводительница второго крыла местной знати, у нее есть поддержка, и значительная. На площади танцевали многие, а вот темные камзолы с красными пряжками на груди мне что-то не припоминаются.
Это был вызов. Объявление войны, если угодно. Серьезное, продуманное, непоколебимое. Теперь кто-то из противников должен был сделать первый шаг. Кто-то должен был броситься в атаку. И почему-то мне казалось, что этим первым станет именно верховный бальга. Даже при очевидной недостаточности сил.
Другой на его месте сейчас либо сгорал бы от бессильной злости, либо раздумывал бы о побеге, либо яростно искал бы оружие, способное сокрушить врагов. А как ведет себя блондин? Он спокоен, бесстрастен, скучен. Что все это может означать?
Первое: раз выходка Эвины не разозлила верховного бальгу, значит, он считает новоявленную опасность детской шалостью.
Второе: бежать он не собирается.
Третье: у него уже есть необходимое оружие.
Каков итог? В какую бы минуту ни разразилась война в Катрале, надежнее оставаться на стороне эрте Кавалено и его приспешников. Даже учитывая, что я здесь чужой для всех, есть небольшая, зато значимая разница между одной и другой противоборствующей стороной.
Благороднейшая из благородных сначала использовала меня и лишь потом сочла необходимым мимолетно отблагодарить, а чуть позже и вовсе забыла о моем существовании, поглощенная собственными тревогами. А ведь тогда она все еще могла бы заручиться поддержкой пусть и чужака, но честно платящего по счетам…
Как поступил бальга? Позволил мне перейти в свой лагерь без всякой предварительно оказанной услуги. Спасение жизни таковой точно не являлось, потому что было случайным и, главное, скорее стоило того, чтобы его скрывать от всех — и от друзей, и от врагов. Лично я бы на месте Иакина приказал избавиться от меня сразу же, как только верные слуги пришли на зов. Избавиться прежде всего потому, что чужеземец стал свидетелем человеческой уязвимости правителя города. Но бальга поступил иначе. Показал, что у каждого из нас своя дорога и они необязательно должны пересечься.
Да, он несомненно собирается меня использовать. С какой целью? Неважно. Пока она существует, меня будут держать рядом, а это именно то, чего я и хотел добиться.
Итог размышлений выглядел успокоительным и разумным, потому следом за ним пришел крепкий сон, лишенный каких бы то ни было сновидений. А когда я открыл глаза, мне даже показалось сначала, что наступило утро: сквозь ажур решетки в комнату проникали яркие лучи света. Вот только, чуть присмотревшись, пришлось удивленно нахмуриться, потому что свет был, но отнюдь не солнечный.
Застегивая камзол, я подошел к окну и за несколько мгновений насчитал несколько десятков маленьких солнц, зажегшихся во внутреннем дворе.
Факелы. А они не вспыхивают сами по себе, только по воле людей, которые…
Я не успел присмотреться внимательнее: позади распахнулась дверь.
— Вас зовут вниз.
Голос Танны чуть подрагивал, но, поскольку я не пытался сейчас смущать ее смелыми фантазиями, причиной волнения явно было что-то другое.
— Что-то случилось?
— Эррете Кавалено хочет говорить.
Хм, если вдуматься, как это звучит, ожидается что-то вроде торжественного выступления. А почему на ночь глядя?
— Не слишком ли поздний час… для разговоров?
Она не ответила, просто повернулась и пошла по коридору, даже не дожидаясь, когда я последую за ней.
Приступ гордости? Я уже замечал за помощницей бальги подобное, но не настолько явное. Похоже на то, будто женщина в одночасье вдруг заполучила некое могущество, возвысившее ее над всеми остальными. Блондин наконец-то снизошел до близости? Верится с трудом. Значит, случилось что-то куда более значимое. Неужели…
По дороге во двор я старался не думать о дурных предчувствиях. Вообще старался не думать, хотя это могло оказаться опасным, если недокровка столь чутко ловила все мои ощущения. А когда шагнул на брусчатку под шипение горящей смолы, капающей с факелов, понял, что теперь чувства можно больше не скрывать. Хотя бы потому, что при таком скоплении народа рано или поздно начинаешь вести себя как все остальные.
Их было много. Не настолько, чтобы назвать армией, но вполне достаточно, чтобы устроить в городе заварушку. Примерно пять дюжин мужчин в возрасте до сорока лет, облаченные в одинаковые черные костюмы. Вряд ли это была вся бальгерия в сборе, скорее только особо избранные, и в пользу этого предположения говорило выражение лиц собравшихся. Все стоящие во дворе выглядели опытными и умелыми бойцами. Все были сосредоточенны, не обменивались даже невинными фразами и уж тем более шуточками, подходящими к случаю. И все были вооружены, конечно же.
Два длинных ножа на каждого — итого более сотни клинков, а это уже неплохо. Можно и повоевать. В том, что грядет война, я уже не сомневался. И если блондин решил ударить по противнику первым, собранных сил может оказаться вполне достаточно. Но окажется ли этот удар неожиданным, вот в чем вопрос.
Они наверняка добирались до дома Кавалено скрытно, прячась по теням и узким переулкам. И все же из пяти дюжин людей, о чьей принадлежности к бальгерии известно всему городу, хотя бы один мог попасться на глаза лазутчикам благороднейшей из благородных. Нет, должен был. Значит, в это же самое время поместье Фьерде наверняка тоже походит на потревоженный улей. Или лишь немного запаздывает в готовности по сравнению с войском бальги, ведь тот успел начать сборы раньше.
Сборы… А кстати, зачем они понадобились? Не проще ли и надежнее было разнести приказы исполнителям? Тогда начало войны уж точно оказалось бы внезапным. Да, я бы, пожалуй, сделал именно так: заранее наказал бы солдатам быть наготове, а потом, выбрав наиболее удобный для нападения момент, отправил бы каждому условный знак. Которым мог бы стать, к примеру, большой огонь. Или что-то другое. Неважно. Нет ничего страшнее ожидания атаки, и, если бы бальга выбрал такую тактику, благороднейшая из благородных и ее люди оказались бы измотаны раньше, чем и вправду начались бы боевые действия.
Он не таится от врагов. Почему? Или самоуверен, или по-настоящему силен. Но чем?
— Время слишком позднее… — безучастно произнес блондин, появляясь наверху лестницы, ведущей с галереи во двор. — Но время не ждет.
Он спустился примерно до середины, так чтобы и находиться близко к своим соратникам, и в то же время являть собой точку притяжения всех взглядов. Он не выглядел ни торжественным, ни грозным, ни решительным: все в чертах бальги оставалось прежним, спокойным и равнодушным.
— Не все из вас были сегодня утром на площади перед кумирней. Но все вы знаете, что там произошло.
Хоть бы чуть-чуть добавил чувства в свои слова! А впрочем, может, так и надо? Может, надо оставаться именно безучастным, чтобы показать свое пренебрежение надвигающейся опасностью? Да, подобное поведение командиров тоже имеет успех. Только реже, чем пламенные речи. Намного реже.
— Эррита Фьерде выступила против меня. Против бальгерии. Против закона. А закон гласит…
Белые крылья просторного одеяния взметнулись над ступенями, и, думаю, каждому из людей, стоящих во дворе, пригрезилось, что за спиной хрупкого юноши, невесть каким чудом оказавшегося посреди ночи в доме Кавалено, высится разноцветный витраж кумирни.
— Закон гласит, что любое преступление должно быть искуплено трижды. Трое держат ответ перед законом. Первым отвечает сам преступивший. Вторым отвечает палач, исполнивший свои обязанности. И третьим всегда отвечает судия, вынесший приговор.
Как зовут этого мальчика? Глорис? А следовало бы именовать гласом божьим. Мне доводилось слышать многих людей, искусно владеющих своей речью, но никто из них не внушал такого благоговения, как скромный прибоженный из захолустного городка.
Его слова не звучали — они текли. Горячей смолой прямо в сердце.
— Никакое деяние не остается без наказания: об этом заботятся боги. Но в доброте своей и щедрости владыки небесные не разделяют преступивших между собой. Все мы дети божьи, и все мы равны перед своими родителями.
Голос журчал ручейком, ловко пробирающимся между камнями извилистого лесного русла. Проникал во все потаенные уголки плоти. Казалось, тек внутри меня вместе с кровью и постепенно становился ее частью, все большей и большей, чтобы в какое-то из мгновений заменить полностью.
— Она будет наказана, эта слабая женщина, возомнившая себя сильной. И будет наказана не за собственную гордыню, а за то, что смутила и сбила с истинного пути других людей. Тем страшнее ее вина. Тем тяжелее ее преступление. И боги однажды сожмут свою длань в кулак, чтобы покарать… Но сколько из заплутавших в чужом обмане сохранят свою жизнь к тому времени?
Он все говорил правильно. Но гораздо важнее было то, что он говорил одновременно со всеми нами и с каждым в отдельности. По крайней мере, мне казалось, что черноволосый юноша стоит напротив, близко-близко, так, что можно поймать его дыхание.
— Когда боги медлят, люди должны сами набираться смелости стать судьями и палачами. Труднее прочих приходится тому, кто отвечает последним, и я говорю вам: она виновна! Я приговариваю женщину по имени Эвина Фьерде к тому, что некогда настигнет каждого из нас. Смерть никогда не отказывается от своей добычи, и мы лишь поможем ей затравить зверя.
Чистый восторг юности, смешанный с седой мудростью опыта. Это уже не человек. Не знаю, кто именно, но Глорис, которого я видел в кумирне, и Глорис, чья речь льется на меня благословенным дождем небесным, не одно и то же. И если его преображение — дело рук божьих, я…
Готов уверовать. Сейчас и навечно.
— Я не буду лгать: вы станете палачами. Но вы станете и дланями божьими. Вы исполните то, что предначертано свыше. Ее, погрязшую в лживых горестях, уже не спасти. И кто знает, как далеко распространилась зараза, порожденная ее сердцем? Может статься, что все, волей судьбы оказавшиеся рядом с Эвиной Фьерде, ступили на путь греха. Вы узнаете их. Узнаете отступников по тому, как они вас встретят — пустыми руками и чистыми душами или наточенными клинками.
Да, узнать будет легко. Очень. Может быть, кто-то из них сообразит, как спастись от смерти, но, думаю, гордость победит. Она всегда побеждает. И слуги благороднейшей из благородных не опустят оружие, а значит…
Пусть прольется кровь!
— Вы ответите за их гибель. Ответите так, как сможете. А потом буду отвечать я. За всех вместе.
И я верю тебе, судия. Ты ответишь. Возможно, примешь на себя больше, чем понимаешь в эти минуты. Но можешь быть уверен: я не подведу. Не заставлю брать на себя ответ за мои грехи.
— Скоро вы шагнете на тропу, недостойную человека. Я не буду лгать вам, и вы не лгите себе. Нет ничего страшнее греха смертоубийства, особенно когда он складывается с другими грехами, груз которых уже лежит на ваших душах и ваших телах. Слова молитвы помогут очистить души, и это моя забота. Но грех плоти… Он смывается только плотью.
Что еще за грех? Не припомню за собой ничего похожего. Впрочем, судие виднее, а мне остается только внимать.
— Плотью, что была истинно невинна. Плотью, что была рождена для исполнения долга. Плотью, что примет в себя ваши грехи. Плотью, что станет навеки закрытым сосудом…
Одно из слов резануло слух. Все равно что нож брадобрея сорвался с твоей щеки и полоснул по шее.
Сосуд? Нет, только не он. Я не помню, что означает это слово, но я чувствую: оно омерзительно. Оно воняет грехом, но не запертым внутри, а оставшимся где-то снаружи.
— Сосудом, покорно ожидающим наполнения…
Она шла по галерее очень медленно, словно боялась попадать в полосы света между колоннами. Или словно боялась поранить босые ступни. А может, потому, что дрожала от холода, ведь на дворе была ночь, пусть и наполненная факелами, и воздух, касавшийся обнаженной кожи, наверняка казался слишком холодным той, что привыкла к тяжести черного одеяния.
Она остановилась на самом верху. Замерла над ступенями, растерянно глядя куда-то вперед, а значит, поверх наших голов. Куда-то в закрытые решетчатыми ставнями окна второго этажа.
Она не старалась прикрыть свою наготу, наоборот, руки безвольно висели вдоль тела, даже пальцы были расслаблены. А короткие локоны белокурых волос, влажно облепившие голову, будто еще больше подчеркивали беззащитность девушки, которая, казалось, не понимала, что происходит.
Лус Кавалено готова была выполнить приказ. Сейчас она наконец-то знала, что делать, хотя это знание снова стало заемным.
— Но есть грехи, которые нельзя искупить с чьей-то помощью, — продолжил Глорис, и прежний ритм его речи вдруг сбился, зато начал рождаться другой, разительно отличный от предыдущего. — Я мог бы провести тебя через коридоры молитвы, предатель. Я мог бы очистить твое тело любовью и ненавистью. Я мог бы помочь. И все же помогать не стану, потому что искупление всегда должно быть искренним. По собственной воле. И если ты не поймешь, что совершил, любые усилия будут тщетны.
Сейчас прибоженный снова говорил вроде бы со всеми присутствующими, но я больше не чувствовал его внимание на себе. И невольно начал озираться по сторонам, равно как и мои соседи.
— Ты знаешь о своем преступлении. Но видишь ли ты всю его глубину? Узри же!
Последние слова прозвучали почти что громом, и один из черномундирников вдруг рухнул на колени, утыкаясь лбом в брусчатку.
— Узри же и ужаснись!
Коленопреклоненного сотрясало рыданиями, как лихорадкой. И неудивительно, что мы расступились, стараясь оказаться как можно дальше от человека, только что обвиненного в неизвестном нам, но несомненно страшном преступлении.
— Ты предавал своих собратьев по оружию. Ты прятал свое истинное лицо под маской дружбы и преданности, сам служил врагу. Ты преступил не закон города, а закон людей, появившийся на свет в те времена, когда городов здесь не было и в помине. Чем карается предательство?
Он спрашивал, но не у нас, а у того, кто сжимал сейчас свою голову скрючившимися пальцами.
— Чем карается предательство?
— С… см…
— Я не слышу ответа!
— Смер…
— Я не слышу ответа!
И пусть эти слова относились не ко мне, я невольно произнес, хоть и одними губами, то, что желал услышать божественный судия. И не только я один: те, кто стоял рядом, те, чьи лица я мог видеть, шептали. Все громче и громче. А потом нарастающий гул разорвался криком:
— Смертью!
Крикнул сам обвиненный. Крикнул и поднял голову. По его щекам текли слезы, но глаза… Они могли быть какими угодно: испуганными, озлобленными, ненавидящими — и все же они были счастливыми. Как будто вместе со страшным словом куда-то прочь умчались все страхи и тревоги.