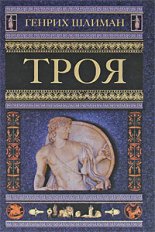Югорские мотивы: Сборник рассказов, стихов, публицистических статей Цуприков Иван
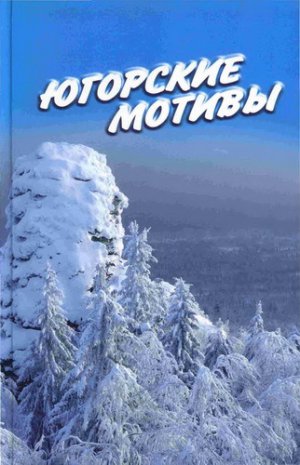
Гавриловна все рассказывала, облегчая душу, все сокрушалась о своем горе, о наступившей трудной жизни.
– …мне бы только остаться с Петенькой, мне много не надо, хлеба немного, да воды, да тепла… – говорила Гавриловна.
Я прочувствовал огромную ее боль, все равно что боль отвергнутой любви. Между Гавриловной и ее Петенькой пролегла глубокая пропасть, которая, возможно, никогда не соединит их вместе, и эту пропасть затапливает море слез. Боль ее души взметнулась, как проснувшийся вулкан. Боль разлуки рвала ее сердце, как хищник зубами рвет жертву, но кому до этого дело? Тишина кругом… Сколько боли и горя людского наделали «демократические» реформы! Сколько семей разрушено, людских гнезд! Прислушайтесь – и вы услышите плач людских душ! Для чего все это сделано, кому это нужно? Неужели для обогащения алчущих? Разлуку двух жизней, накрепко соединенных судьбой, не могут оправдать миллиардные богатства всех олигархов…
А боль разлуки из уст Гавриловны все лилась и лилась, говорила, спешила, словно боялась заплакать навзрыд. Подумалось: «Вы, жадные рыцари, зачем вам богатства? Что бы вы ни употребили, все равно из вас выйдут отходы – такие же, как и из самых бедных, отвергнутых, от выкинутых вами объедков, найденных ими в мусорных баках. Есть ли у вас другая любовь, кроме любви к деньгам, власти и разврату? Когда вы состаритесь, поймете, что вы – нищие с миллиардными состояниями на счетах в банках мира и белокаменными дворцами, а юные жены будут мечтать отравить вас. Богатейте, обворовывая себя и свою жизнь!»
Замерзшие колеса и сцепки вагонов заскрипели сильнее на крутом повороте. За окном плавно меняются зимние пейзажи один краше другого. С шумом промчался встречный поезд, поднимая облака снежинок.
– Извините, разболталась я… – сказала Гавриловна и больше уже не говорила.
Вновь ее взгляд устремился вдаль, и из глаз снова потекли слезы. Так она просидела до самого Нижнего Тагила, А где-то в городке Ивделе страдала другая душа – душа ее мужа с устремленным вдаль взглядом. Мне казалось, что эти два человека видят друг друга сквозь сибирские просторы и говорят друг с другом.
Я прилег, задумался и спросил себя: «Ты любил или любишь?..»
Поезд продолжал свой путь, приближаясь к железнодорожному вокзалу Нижнего Тагила. Там, в зале ожидания, прячась от холода в теплой шубке, ожидала поезда красивая женщина с прекрасными выразительными глазами. Ее имя было – Лиля.
4
– Пассажиры, туалет будет закрыт, санитарная зона, через полчаса будет Нижний Тагил, – проводница, протискиваясь через проход вагона, повторила фразу неоднократно.
Пассажиры оживились. Кто-то спешил в туалет. Кто-то нес сдавать постельные принадлежности. Доставали вещи с багажных полок. А некоторые, проснувшись от шума, переспрашивали: «Это будет Нижний Тагил?» В соседнем купе – возмущенный женский голос:
– Вставай! Ну, вставай…
Затем – тише, с горечью в голосе:
– Скотина, опять напился.
В ответ раздалось мужское ворчание, которое трудно было понять. Захныкал ребенок. Наконец мужчина членораздельно, но пьяным голосом проговорил:
– Не кантуй, змея дорогая… Причалили? Ну что, встану – дай глотнуть.
В другом купе одевали ребенка, он плакал и не хотел одеваться. В проходе вагона молодые и пожилые женщины и мужчины снимали с багажных полок пустые ящики, огромных размеров сумки из полосатой ткани, ручные тележки. Это зашевелился малый бизнес, который снабжал Север продуктами и промтоварами. Они, как пыль от ветра, разлетятся по Нижнему Тагилу в поисках товара, и затем – вновь на поезд, на Север. Там, на Севере, продадут товар в два-три раза дороже. Они бойкие, толкают друг друга, громко говорят, разговор только о том, где купить и где продать.
Стала собираться и Гавриловна. Я помог достать ее вещи с полки. Гавриловна оделась. Слезы перестали течь.
Женщина, как солдат перед атакой, приготовилась к выходу из вагона в заснеженный, морозный, неприветливый и чужой для нее Нижний Тагил. Она волновалась, озиралась по сторонам и никак не могла пристроить сидушку к своим немногочисленным вещам.
Поезд медленно катился вдоль перрона, пассажиры, выходящие в Нижнем Тагиле, столпились в тамбуре. Я помог Гавриловне вынести вещи и ждал остановки поезда. Наконец поезд последний раз дрогнул и остановился.
Трудно Гавриловне спускаться по ступенькам вагона, но тут подоспела молодая красивая женщина. Это была Лиля. С настороженной и скупой улыбкой она помогла матери сойти на перрон.
Встреча Гавриловны с дочерью внешне была радостной. Они обнялись и одновременно что-то друг другу говорили. Я мог разобрать только слова «мама» да «доченька». Гавриловна улыбалась. Подошел мужчина, обнял Гавриловну – это муж Лили. Затем он взял вещи, и все пошли к зданию вокзала. Гавриловна не рассталась с сидушкой, она висела на ее руке. Сделав несколько шагов, Гавриловна обернулась. Провела взглядом по вагонам поезда, в котором она приехала. Затем наши взгляды встретились. И в этот момент ее лицо с застывшей улыбкой, с печальными глазами выражало глубочайшую тоску. Она с поездом прощалась, как будто с живым, дорогим ей человеком. Поезд – единственное связующее звено с ее прошлой жизнью и с неизвестной жизнью будущей. Я многое успел прочесть в ее взгляде. Как она удерживала свою боль в душе! Не хотела переживаниями своими огорчить Лилю. Она ушла, оставив в моей памяти коротко рассказанную свою жизнь, и длинную свою боль души, и необычные слезы души. Я ей желал удачи и спокойной, умиротворенной жизни около своей дочери. Хотелось, чтобы ее отмеренное жизнью время оказалось счастливым, если только возможно счастье в одиночестве. Одиночество – это не то, когда ты один. Одиночество – когда кругом люди, а ты – как в пустыне. Дай бог, чтобы Лиля относилась к матери не по обязанности, а от души, от имени добра.
Гавриловна скрылась в пасти вокзальных дверей, которые беспрерывно то поглощали, то извергали пассажиров из внутренних помещений вокзала.
А жизнь продолжалась, суетились пассажиры – приехавшие и отъезжающие. Покрикивали носильщики, толкая впереди себя широкие тележки, нагруженные вещами. Таскали и грузили свой товар предприниматели, которых народ окрестил «челноками».
Я зашел в вагон, удобнее уселся, задумался: «Что будет со мной? И меня время сделает старым». Время! Неумолимое, жестокое и животворящее время, оно все старит, все убивает и все вновь возрождает! Время идет… Его не видно и не слышно, но оно с каждым тактом, с каждым движением стрелки часов отнимает жизнь по секундам, по минутам, часам, суткам и годам, и вот перед тобой твой век. Встречай! Что ты скажешь при встрече, человек?
Моя память глубоко спрятала встречу с Гавриловной. И я не знал, что по прошествии многих дней эта встреча всплывет в моей памяти…
5
Расставание с близкими людьми, расставание с городом, в котором много лет жил, с производством, на котором долго работал, для меня всегда процесс сложный. На севере я прожил 20 лет. Расставание с Югорском и друзьями открывало в душе тяжелые душевные раны. Новоиспеченным пенсионером я уезжал в город Ростов-на-Дону, покидал Сибирь навсегда.
В Сибири оставался мой сын с молодой женой Светой. Расставание с сыном тоже было непростым. По требованию Светланы, я именно так думал, молодая семья срочно попросила меня оставить их одних. Я оказался для них лишним. Фраза сына, смотревшего на меня упрямым взглядом: «Ты обещал уехать, когда мы приедем! Так ты уезжаешь? Или нам со Светиком искать квартиру? Мы хотим жить отдельно, без вас», – оставила неприятное чувство в душе. Тяжело было на сердце не столько от слов, сколько от взгляда – жесткого и колючего. Я задавал себе вопрос: «За что так?» Пути жизненные неисповедимы, но хотелось бы, чтобы на этом пути под ноги не попадали камни да ямы. Этот мой опыт отношений с детьми был первым и поэтому самым болезненным.
Вспомнил я и другой взгляд, который видел много лет до настоящих событий. Я провожал сына в армию. Около сборного пункта в городе Омске – именно из Омска он призывался в армию – собралось много призывников. Двор сборного пункта – большой, ворота – из кованого, с затейливым орнаментом железа – закрыты. Вход во двор – через проходную, представляющую собой небольшое одноэтажное строение. Я ожидал, когда вызовут сына и он начнет армейскую жизнь. Стояли молча, и так было все понятно, советы в этот момент были неуместны. В душе была тревога. В этот период началась информационная кампания о неуставных отношениях в армии. Комитеты солдатских матерей по телевидению пугали событиями в армии и результатами этих событий. И судьба сына меня тревожила, а жена орошала землю слезами. Пропаганда почти всех убедила, что неизбежно случится непоправимая беда. Армия стала проклятым, ненавистным местом для родителей, любящих своих сыновей. Сын тоже беспокоился, но панике подвержен не был.
Вышел из проходной офицер и зачитал список призывников. Среди них был и мой сын. Сердце тревожно сжалось. Мы обнялись:
– До скорого свидания, папа, – сказал сын и пошел к проходной.
И слова «до скорого свидания» он подобрал нужные, не сказал «прощай», его фраза не так больно отозвалась в моей душе.
В двери проходной сын оглянулся. Наши взгляды встретились. Взгляд, который я увидел, не просто запомнился – он высекся в моем сердце, как наскальная надпись, глубоко и надолго. Взгляд его выражал тревогу, сожаление разлуки и просьбу простить, что не по своей воле надолго уезжает, и еще что-то, что написать сложно, понять трудно, но это что-то было близко моей душе и моим чувствам. Короткий взгляд – и вот уже сын по другую сторону, затем я его видел во дворе, наблюдал сквозь решетку ворот.
Вот и новая разлука. Я уходил с вещами на вокзал. Невестка спокойно наблюдала, а сын сидел за вычислительной машиной и развлекался игрой, в которой кукла все время повторяла: «Пойдем-пойдем…». И ей кто-то отвечал: «Пойдем-пойдем». Я открыл двери, обернулся и проговорил\'
– До скорого свидания.
– Прощай, – не отрываясь от своего занятия, ответил сын.
Дрогнула у меня рука, в сознании моем встретились два его взгляда – тот, на призывном пункте, и новый взгляд – я его стал называть югорским. Я аккуратно закрыл за собой двери квартиры и вновь оказался в четвертом вагоне поезда Приобье – Свердловск, в котором когда-то ехал с Гавриловной.В Свердловске, простите, в Екатеринбурге все по-старому, все знакомо. И помпезный памятник посреди привокзальной площади, и огромная гостиница, и здание мельницы с фальшивыми окнами, и суета… В музеях я был несколько раз и на память помню древние молоты, паровые машины, паровоз Ползуновых и первый велосипед. До посадки мне ждать долго. Я расхаживал по площади, невеселые мысли одолевали меня. Довести себя до стресса легко. Мысли нарастали как ком снега, накручивали события последних дней пребывания в Сибири, а воспоминания прошлого добавляли смуту в душе. Я ходил, ничего не замечая, кроме своих невеселых мыслей. Не сразу я понял, что кто-то ко мне обратился, и только когда меня взяли за руку, я перешел из мира чувственного в объективный.
Меня остановили два милиционера – молодой лейтенант и среднего возраста капитан.
– Предъявите ваши документы, – потребовали они.
Я подал им свой паспорт и билеты до Ростова. Они внимательно стали их рассматривать. Лейтенант спросил:
– Кто вас обидел? Помощь наша нужна?
– Никто не обидел. Помощь не нужна, – ответствовал я.
Капитан, возвращая мне документы, задал неожиданный вопрос:
– Почему тогда вы плачете?
Я провел ладонью по своей щеке, посмотрел… Да, действительно, глаза и щеки были мокрыми от слез.
– Все в порядке, соринка в глаз попала, – ответил я заботливым стражам порядка.
Они ушли. А я вспомнил Гавриловну с ее удивительным подарком – сидушкой – и слезы, истекающие из души.
После этого случая я пытался контролировать такие слезы, но бесполезно, и появлялись они неожиданно и незаметно. Наверное, душа переполнилась болью.
Стал присматриваться к прохожим, стал замечать, что действительно есть слезы души. Я видел нередко, когда люди идут, сидят на лавочках, лица их спокойны, задумчивы, а по щекам текут слезы, как в поезде у Гавриловны, и люди их не чувствуют и не вытирают.
Однажды я спросил себя: «У птиц, когда их птенцы покидают свои родные гнезда, или у волков, когда волчата, огрызаясь, покидают родительскую нору, текут слезы?»
Живой мир един, и все живое роняет слезы души. Дерево, которое ранят, тоже плачет молча в спокойном своем величии. Только многие не замечают этих слез. Прозревает живое в живом только тогда, когда ранят их душу, когда текут слезы души! Их видит только тот, кто прозрел, кто способен видеть и понимать боль другого живого существа. Боль, не роняй слез!.. Нет, наверное, не так сказал, правильнее будет: живые, не делайте боли живым!..Инесса ЗАХАРОВА
«Бывают дни, когда я о тебе не помню…»
Бывают дни, когда я о тебе не помню —
Ни глаз твоих, ни рук твоих, ни слов,
Но голос паутинкой тонкой
Вновь заточит меня во власть оков.
Нет, от тебя мне не уйти и не укрыться…
И за тобой иду за шагом шаг.
Проснешься утром – иней заискрится,
То свет печали в близких мне глазах.
Бывают дни, когда в разлуке длинной
Приходит боль за прерванный покой,
Но вновь вплетется тонкой паутиной
В меня чудесный голос твой.
«Где-то, знаю я, светятся окна…»
Где-то, знаю я, светятся окна,
Словно ждут, очень долго ждут:
Оживут немые полотна
И границы веков сотрут.
И на них, проступая мягко,
Всколыхнутся чьи-то черты.
Заиграет на платье складка.
И нелепей, смешней мечты
Не отыщешь и не откроешь,
Будто можно проникнуть вглубь
Тех столетий. И неба просинь
Ощутишь вдруг, и трепет губ.
И невольно пойдешь за ними
В те года, в те чужие века,
Где, терзаясь от ностальгии,
Дышат травы и облака.
И чужие судьбы приемля,
Будешь верен чьей-то любви.
Будешь ждать и просить прощенья,
Став свидетелем злостной молвы.
Будешь петь и рыдать,
Отрекаться и верить
И у гроба чужого молчанье хранить.
И одно будет свято:
Ты будешь здесь первым.
Первым станешь любить и казнить.
Где-то знаю я – светятся окна,
Словно ждут, очень долго ждут:
Оживут немые полотна
И границы веков сотрут.
«Мне снится дом…»
Мне снится дом
В зеленом палисаднике
С резным окном,
Дверьми парадными.
В окошке том неяркий свет
Голубизной своею манит,
И твой истершийся портрет
Врезается навеки в память.
Твои глаза. Рук белизна.
Незащищенность, даже робость.
Кто ты? Возлюбленная иль жена?
Мне дорога твоя неброскость.
Мне снится дом
В рассветной сини
С резным окном,
Двором красивым.
В окошке том неяркий свет
Голубизной своею манит,
И твой истершийся портрет
Врезается навеки в память…
«Ты говоришь: „Ну что ж, начнем сначала…“»
Ты говоришь: «Ну что ж, начнем сначала.
И что за горе – расставанье? Не беда».
А я кивала, а рука дрожала,
Сжимая ручку кресла. «А года?
Ну что ж жалеть, коль вышло так,
Сама подумай. Какой ты выход можешь предложить?
Не плачь! Пустяк! – и резко дернул на гитаре струны. —
Ведь это ж чепуха – взять и забыть!»
И я кивала: «Да! Ты прав, конечно.
Пусть лучше уж сейчас, а не потом», —
И теребила тонкое колечко,
И улыбалась непослушным ртом.
«Забываю тебя. Снова дождь моросит…»
Забываю тебя. Снова дождь моросит,
И в полосках кривых потускневшие окна.
А старинный диван очертанья хранит
Наших тел. И твой шарф обречено под зябкими струями мокнет.
Забываю тебя. В зеркалах пустота, отрешенье.
Свет по комнатам без тепла.
Я другою стала, наверно,
А быть может, другой была.
Забываю тебя. Как ошибку, как непоправимость,
Как несбыточность. Странный итог.
Ты ушел, и земля накренилась.
Ты ушел. Может, просто иначе не мог?
«Я думала, что без тебя не буду жить…»
Светлой памяти моего мужа
Я думала, что без тебя не буду жить.
А вот живу, и даже очень сносно.
И где-то позади остались весны,
Наполненные радостью любви.
Там, позади, остался целый мир —
С твоей улыбкой и твоей душою,
С дыханьем лета, с влажною листвою,
Где еще даже след твой не остыл.
Я думала, что без тебя умру.
А вот дышу, и даже улыбаюсь.
Весеннему цветенью удивляюсь
И пенью птиц счастливых поутру.
Лишь сердце отголоском журавлиным
Вдруг так забьется, что я задохнусь.
К холодному стеклу щекой прижмусь:
«Единственный, родной, любимый…»
«Пусть остается все как есть…»
Пусть остается все как есть:
Малиново застывшие закаты,
Заснеженный печальный лес,
Грозы нечаянной раскаты.
Моя рука в твоей руке,
Улыбка, взгляд и губ касанье,
И отраженное в реке
Недоуменное прощанье.
«Хрупкая, нежная…»
Хрупкая, нежная
Девочка прежняя
Где-то из прошлого
Выплыла бережно
И, улыбнувшись одними губами,
Молвила тихо:
«Ну что же, я с вами.
Только я, знаете ли, трусиха».
Руку дала очень теплую,
Мягко вскинула голову,
Ноги в туфельках стоптанных
Переставляя робко.
Счастье было огромно,
Хоть для других незаметно.
Хрупкую, нежную помню,
Только такую, наверно.
«Быть твоею. До конца…»
Быть твоею. До конца.
И не прятаться. Не прятать
Слишком бледного лица,
Улыбаться, а не плакать.
Быть твоею. Столько слов
Недосказанных прорвется!
Быть твоею! А любовь?
Вряд ли к нам она вернется.
Отпусти меня
Отпусти меня, нежный,
Отпусти меня, добрый,