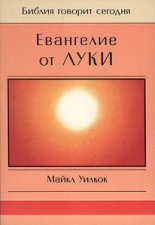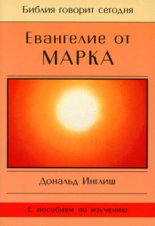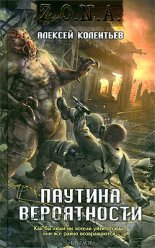Царь Грозный Павлищева Наталья
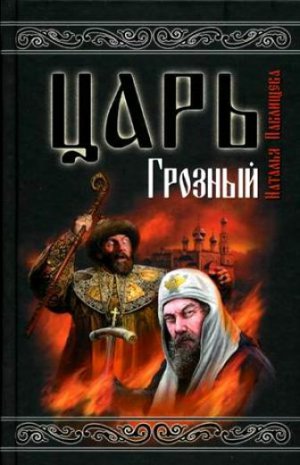
И исчезла, словно ее и не было…
Боярам же очень понравилась задумка молодого князя – венчаться на царство и жениться на русской девице. О женитьбе он сообщил еще месяц назад, в декабре, причем сказал, что не желает искать заморскую царевну, вдруг жизнь с ней не сложится, как тогда быть? Боярская дума, живо помнившая Софью Палеолог и Елену Глинскую, обрадовалась. Своя, значит, боярская дочь, значит, кто-то из них в царские родственники угодит, как Сабуровы, когда Василий женился на Соломонии. Принялись наперебой предлагать дочерей, племянниц, внучек.
И вот с самого утра, не евши, не пивши, обливались потом в тяжелых шубах знатные и состоятельные мужи на лавках, полна палата… Маются, лаются, меж собой поминают, кто родовитей, кто кому свояк или дальний племянник… Понимают, что, возможно, сегодня кто-то из них возвысится, а кто-то будет локотки кусать оттого, что не случилось.
Иван вошел в палату чуть не к вечеру, длинный, нескладный, голенастый. Острые коленки не спрятать ни под каким платьем, локти торчат. Бояре прятали ухмылки в усы и бороды, нескладен князь, ох, нескладен… Пронзительные, цепкие глаза Ивана пробежали по лицам, ни на ком не останавливаясь. Возле престола стоял Михаил Глинский, поджидая племянника, но приветствовать не стал, даже головы не склонил. Много чести перед сыном сестры преклоняться, а что он князь, так не его заслуга, и что у власти как бы, так это только пока. Власть она не у того, кто на престол садится, а у того, кто, сидя на нем, может распоряжаться, за кем сила. Потому как с престола и скинуть легко. Меж собой братья несколько дней назад решили – Ивану сидеть недолго, пока они сами не укрепятся, полгода, не больше. Захотел племянничек жениться? Да пусть его. Подыщут боярскую дочь, чтоб род был поплоше и родственников поменьше, отвлечется молодой князь, а там… там видно будет!
Иван, подойдя к престолу, неловко, почти боком присел, шапка явно мешала, но терпел. Стоящий в стороне Юрий Глинский даже усмехнулся, неловок племянник во всем, когда еще в силу войдет… Князь тем временем снова оглядел бояр и вдруг объявил:
– Устроить смотр девиц, как у отца было, князя Василия! Сам выбирать буду, сам погляжу! – Он дал время боярам попрятать новые улыбки в кулаки и добавил: – Но прежде венчаться на царство буду! Чтоб царем зваться, а не князем! После Крещения!
Не давая опомниться, встал и, четко печатая шаг, вышел вон. Только после этого зашумели, заволновались бояре, Глинские переглянулись меж собой. Пока действия племянника им особо не грозили, но мальчишка оказался упрямым, мало ли что придумает? Решили проследить, чтобы не выбрал кого из Шуйских, не дай бог, или тех же Оболенских! О-хо-хо… гораздо проще было, когда молодой князь, дурачась, запрягал вместо лошадей холопов и пахал на них или играл в собственные похороны, наряжаясь в саван и укладываясь в гроб, чтобы девки целовали его в губы, а он совал руки под их подолы.
Но князь уже вышел из повиновения, он сам метнулся по крупнейшим городам, Михаил Глинский едва увязался следом. Нельзя было допустить, чтобы в таком важном деле Иван наломал дров! Дядя смотрел на разряженного в меха и блестящую парчу племянника и дивился, как тот вдруг похорошел. Иван даже стал красив, решив жениться, он точно вдруг повзрослел. Не так заметна угловатость, появился веселый блеск в глазах. Иван ждал встречи не просто с красивыми, но и умными девушками, а девицы при одном только виде великого князя проглатывали языки, краснели или бледнели безо всякого повода, жеманились либо слишком старательно показывали свою скромность. Ни одна Ивану не глянулась, из поездки в Новгород и Псков князь вернулся разочарованным.
Но в Москву уже привезли десятки других красавиц. И каких только не было! Рослые и низенькие, полноватые и тоненькие, светловолосые и с черными, как ночь, волосами, старательно убранными под праздничные венцы… Иван смотрел и смотрел, но глаза не останавливались ни на одном лице. За обедом он вдруг поманил к себе Никиту Захарьина, показал, чтоб наклонился ближе, что-то зашептал почти на ухо. Никита был стольником, потому такому разговору никто не подивился, лишь Глинские внимательно прислушивались, но и им ничего не удалось разобрать. А Иван спрашивал своего стольника:
– А ваша сестрица где? Что-то я ее не видел.
Захарьин чуть не поперхнулся от таких слов. Никак не ожидал, что князь заметил Анастасию. Если вдуматься, то немудрено. Анастасия Захарьина чудо как хороша собой, умна и скромна, но в княгини никак не метила, потому братья и не придавали значения смотринам, даже не думали вести сестру среди других. Теперь придется. Никита закивал:
– Завтра придет, князь.
Тот вскинул глаза, чуть усмехнулся:
– Смотри мне!
Где же Иван смог углядеть красоту Анастасии? Верно, приметил где-то в церкви, ведь в другие места Захарьина не ходила. Род их хотя и знатный, Захарий Иванович Кошкин, по которому фамилию получили, служил у Василия Темного, но небогатый. Захарьины прославились боевыми заслугами при Иване III, а дядья девушки занимали прочное место в Боярской думе при Василии III. Правда, отец Анастасии Роман Юрьевич, пожалованный окольничим, при дворе появлялся редко, служил все больше воеводой в разных городах, и несколько лет назад умер. А вот дядя Анастасии, Данилы и Никиты Михаил Захарьин даже был в числе опекунов самого Ивана, но против его матери Елены Глинской никогда не выступал, рассудив, что жизнь дороже власти, потому для Глинских не опасен.
На следующий день молодой князь поднялся раньше обычного и, не успев как следует одеться, спросил, готовы ли к смотринам следующие девицы. Михаил Глинский, приглядывавший за племянником ежечасно, подивился такой торопливости, ответил, что пока собираются, мол, рано еще.
– Поторопить, мне недосуг! – Голос Ивана был почему-то взволнованным. Глинский встревожился, с чего бы? Молодой князь почему-то плохо спал, о том дяде уже доложили, плохо ел и явно торопился. Снова решил поехать чудить? Негоже князю, который объявил о своей женитьбе, якшаться с кем попало, до сих пор помнят его гречиху, которую сам сеял, и ходьбу на ходулях помнят, и саван, в который обряжался всем на смех. Пора бы остепениться. Но если вдуматься, то пусть лучше потешается, чем в дела московские лезть, вон как указывать начал, голос откуда-то взялся. Давно ли трясся от страха, когда с его любимцами расправлялись у него на виду? Растет, взрослеет птенец, как бы в стервятника не вырос.
В большую горницу, где выстроилась для осмотра новая шеренга московских красавиц, Иван вошел быстрым шагом, пригнувшись, чтобы не зацепить лбом притолоку. Это показалось смешным кому-то из девушек, хихикнула, на нее цыкнули со всех сторон. Нашла время смеяться, дуреха! Остальные обмерли, почему-то неуместный смех одной показался настоящим приговором остальным. Теперь великий князь наверняка рассердится и не станет смотреть ни на кого.
Но Иван, похоже, даже не заметил смешка и им вызванного волнения, его глаза побежали по лицам. В княжеских хоромах жарко натоплено, девушки прели в своих нарядах, туго стянутые в косу волосы (чтобы спрятать под венец) не давали не то что поморщиться, попросту вольно моргнуть, брови подведены, щеки намазаны свеклой. Глупые мамки изуродовали девичью красоту, мало кому из стоявших удалось выглядеть не хуже, чем обычно в жизни. Но среди них не было той, которую Иван искал, – Анастасии.
Прошел еще раз, девушки обмерли окончательно – слишком внимательно вглядывался в их разукрашенные лица молодой князь. Иван повернулся к дяде:
– Это все?
Михаил вновь поразился нетерпению племянника. Уже стало ясно, что Иван кого-то ищет. Кого?
– Нет, есть еще. Прикажешь привести?
– Конечно! – Нет, Глинскому не показалось, в голосе князя прозвучало даже облегчение. Значит, и впрямь ищет. Иван вышел вон, поджидать в соседней горнице, пока приведут еще невест. Михаил Глинский вдруг подошел к нему:
– Может, сначала глянешь через щелку, а то девки от твоего внимания помрут с перепугу.
Князь кивнул, сам напряжен, дергается. Дядя решил спросить начистоту, поинтересовался с легкой усмешкой:
– Да ты кого ищешь-то?
Видно, уставший от волнения Иван неожиданно для себя признался:
– Анастасию Захарьину. – Видя, что дядя пытается вспомнить девушку, добавил: – Сестру Данилы и Никиты Захарьиных, племянницу Михаила Юрьевича.
У Глинского отлегло от сердца, успокоился разом. Захарьины не враги, к власти не рвутся, эту можно. Он не помнил саму Анастасию, но кивнул:
– Сейчас посмотрю.
Оставив племянника маяться в светлице, вышел вон. К нему метнулся дьяк Демидов, ближний помощник.
– Покажи-ка мне Анастасию Захарьину. Есть такая здесь?
Демидов быстро-быстро закивал:
– Есть, как не быть. Покажу, надежа-боярин. – Поманил пальчиком, указал на стоявшую в ряду других Анастасию.
Михаил Глинский пригляделся, вспомнил, что видел в церкви, сам дивился достойной красоте девушки. Но все же повернулся к дьяку:
– Не ошибся?
Тот замотал головой:
– Она, она, не сомневайся, боярин.
Чуть улыбаясь, Михаил вернулся в светлицу:
– Третья стоит. Хороша, что и говорить.
Иван коротко кивнул и почти бегом бросился смотреть на невест. Девушки стояли, опустив головы, Глинский решил помочь племяннику, выбор Ивана вполне удовлетворил дядю:
– Головы-то поднимите, не все же князю на ваши макушки смотреть!
Его насмешливый голос вогнал большинство невест в краску, залилась румянцем и Анастасия. Несмотря на волнение, Иван сразу увидел ее, узнал бы и без помощи дяди. Когда шагнул ближе, девушка несмело, но все же подняла на него глаза. Эти серые очи он мог узнать из тысяч других! Князь замер, потом протянул руку в сторону. В эту руку Михаил тут же вложил перстень и нательный крест. Анастасия приняла подарки с достоинством, и ее глаза блестели не меньше княжьих. Едва не забыла вручить Ивану ответные дары – такие же перстень и крест. Среди остальных пронесся вздох то ли разочарования, то ли облегчения, ведь стояли ни живы ни мертвы.
По Москве тут же пронесся слух: князь выбрал себе невестой Анастасию Захарьину, дочь Романа Юрьевича, племянницу Михаила Захарьина, своего опекуна.
Михаил Глинский как бы невзначай поинтересовался у Ивана:
– Где увидел-то ее?
Тот буркнул в ответ, краснея:
– В церкви…
И дяди и бабка одобрили выбор молодого князя, можно было не переживать. Теперь предстояла подготовка к свадьбе и венчание на царство.
16 января 1547 года Москву разбудил праздничный звон колоколов. Звонили во всех церквях, звук плыл по округе, радуя сердца. В Москве и на Руси праздник – великий князь Иван Васильевич венчается на царство. Сам Иван, почти не спавший ночь, к утру, однако, был бодр и свеж. Михаил Глинский даже вздохнул: и ничего ему, жеребцу, не делается, откуда только силы берутся? Эх, молодость, где ты?..
Молодого князя уже ждали в Столовой палате, показали выложенные на золотое блюдо венец, бармы и золотой крест. Само венчание проходило в Успенском соборе, куда Иван отправился в сопровождении брата Юрия и многих бояр. Вся площадь запружена народом, собравшимся поглазеть на невиданное действо, но как ни толкались, а заступить путь будущему царю никто не решился, хватило ума. В соборе Ивана усадили рядом с митрополитом на специальном помосте – слушать торжественную службу.
Все происходило как в тумане, вокруг люди, люди, он живо вспомнил те приемы, на которых бывал еще маленьким мальчиком при матери. Сидел тогда, стараясь лишний раз головой не качнуть, лишнего не сказать. Теперь снова вспомнилось это состояние, и вдруг сильно захотелось выбраться на воздух или вообще бежать, но Иван взял себя в руки и постарался слушать, о чем говорят и поют в храме. Кто звал венчаться на царствие? Сам захотел! Теперь будет царем, настоящим правителем, потому к вот такому скоплению людей, следящих за каждым движением, ловящих каждое слово, должно привыкнуть.
Иван обманывал сам себя, был неглуп и понимал, что настоящей власти ему не видеть, пока рядом дядья Михаил и Юрий Глинские. «Ничего, наступит и мое время!» – почему-то злорадно подумалось молодому царю. А служба продолжалась. Он снова размышлял не о том, что звучит под сводами Успенского собора, а о том, пришла ли на венчание Анастасия? Сам себя одернул – конечно нет, ведь она теперь невеста, ее берегут-стерегут мамки, тетки, бабки, не дают шагу ступить лишнего. Почему-то сразу сокрушился: жаль, что не видит всей красоты действа, и решил, что непременно обо всем расскажет жене.
От посторонних мыслей его отвлекло окончание торжественной службы. Теперь уже Иван был главным лицом происходящего, потому размышлять о чем попало не мог. Митрополит Макарий, громогласно молясь, почти со слезами радости на глазах возложил на него венец, бармы и крест.
– Радуйся и здравствуй, православный царь Иоанн, всея Руси самодержец на многие лета!
Неужели это о нем?! Ивана точно поделили надвое. Один принимал поздравления, слушал поучения митрополита Макария о том, каким царем должен быть, кивал в ответ на приветствия, на крики собравшегося на площади народа. Второй словно наблюдал за всем со стороны, видел свою высокую, все еще нескладную фигуру в тяжелом нарядном одеянии, бармы, великоватые для юношеских плеч, длинные пальцы руки, сжимавшие скипетр, и толпу, кричащую от радости.
Откуда-то появилась неожиданная мысль: «Они-то чему рады?» Сам себя осадил: «Как не радоваться? Теперь у них есть царь! А царь – это я!» И даже самому было не до конца ясно, рад он этому или нет. Хотел венчаться, очень хотел. Царь – титул императорский, князя выше. Но, значит, и вольной жизни, когда делал, что в голову взбредет, пришел конец. Беспутство и развлечения надобно бросить, негоже царю толпу конем давить или в саван рядиться, хватая девок за всякие места.
Иван скосил глаза на шествующего рядом митрополита Макария. И как он может вот так поститься, на женщин не глядеть, не давать себе воли? Ему вдруг очень захотелось и самому смирять необузданный нрав, подчинить натуру воле, стать именно таким правителем, о каком говорил митрополит в напутствии. «Стану!» – решил Иван.
Толпа вокруг славила нового царя, для народа прямо на площади выставлены бочки с медом и пивом, столы с жареным мясом, калачами, разной снедью. Москвичи должны запомнить венчание Ивана на царство! «Только бы давку не устроили, не то поломают друг дружке ребра», – подумал и сам себе подивился. И это он, который совсем недавно был не прочь сам ломать ребра прохожим, давя конем не успевших вовремя отскочить с дороги! Поистине, Иван менялся на глазах, собственных глазах, и радовался этому, пожалуй, больше, чем самому венчанию. Нет, правитель он не потому, что венчан, а потому, что вдруг почувствовал себя таковым! Отныне он будет править, а не просто сидеть во дворце или гонять по округе, решил молодой царь, и вдруг, широко и радостно улыбнувшись, прибавил шагу. Он царь, скоро будет мужем, молод, здоров, его любит народ, чего еще желать?
Знать бы Ивану, что лишь события, произошедшие полгода спустя, позволят ему действительно стать правителем. Не случись июньского пожара 1547 года, неизвестно, смог бы он одолеть своих родственников Глинских?
Но до пожара была еще свадьба.
Ивану совсем не хотелось, чтобы и на них с Анастасией вот так же глазели толпы любопытных, вокруг толпились неповоротливые бояре в огромных шубах, потели, пыхтели и бурчали себе под нос с неудовольствием. Потому он не возражал, когда дядя Михаил Глинский объявил, что присутствовать будет только родня самого царя и его невесты. Бояре тоже не возражали, многие были недовольны выбором Ивана. Как же, кто такие Захарьины? Почти холопы царские, что же, не нашлось более высокородной красавицы в Москве?
Венчали молодых тоже в Успенском соборе. За несколько дней до венчания митрополит потребовал, чтобы жених и невеста исповедались, мол, как же вступать в новую жизнь, не покаявшись в грехах прежней? Иван от таких слов ужаснулся, хотя он и каялся время от времени своему духовнику, но не митрополиту же, да еще и такому, как Макарий! Но сделать это пришлось. На исповедь царь приходил трижды, видно, много грехов за ним числилось, зато уходил после бесед с Макарием каждый раз все светлее и светлее. Навсегда после этого Иван запомнит, что исповедь, искреннее покаяние облегчает и осветляет душу всенепременно, и не раз будет поступать именно так – безумно, страшно грешить и искренне каяться.
Анастасия тоже говорила с митрополитом. Ивана очень интересовало, о чем, но открыто спросить не мог, нельзя выспрашивать тайну исповеди. Митрополит сказал сам. Заметив любопытство, светившееся в глазах молодого царя, когда завел разговор об исповеди его будущей жены, Макарий притворно вздохнул:
– Грешна молодица…
Иван чуть не ахнул, ведь он сам выбрал невесту, а если та не дева?! Митрополит едва сумел спрятать улыбку, все так же сокрушенно качая головой:
– Да только и ты, царь-государь, виновен в том грехе.
– Я?! – изумился Иван.
– Да. – Макарий улыбался уже открыто, но Иван этого не замечал. Как он мог быть виновен в грехе девушки, с которой дважды едва перекидывался взглядами в церкви?! Митрополит продолжил: – В самом ее страшном грехе, какой нашелся. Не о службе думала отроковица, стоя в церкви, а о тебе, едва тебя завидела.
Если бы кто-то, кроме самого Макария, видел растерянную физиономию царя, смеха не обобраться, но митрополит никому не стал рассказывать об этом разговоре. Иван наконец понял, о чем речь, тоже не смог сдержать улыбку, которая была чуть смущенной, но довольной. И Макарий был доволен, немало изменился Иван за последнее время, точно это были два человека – до и после. Митрополит возносил благодарение Господу за то, что сподобил Ивана повзрослеть, подвигнуться к лучшему. Теперь удержать бы государя…
Сразу после венчания в Грановитой палате был устроен пир. После свадебных торжеств, занявших несколько дней, молодые, несмотря на зимнюю непогоду, отправились пешком в Троице-Сергиев монастырь, где неделю истово молились у гроба святого Сергия. Такого от Ивана не ожидал никто, митрополит Макарий не мог нарадоваться, великовозрастный оболтус на глазах превращался в истового христианина. Братья Глинские и бабка Анна Глинская только усмехались, для себя семейство решило, что ничего страшного во вдруг открывшейся набожности молодого государя для них нет, а значит, пусть молится. Это лучше, чем влезать в их дела.
Ивана и впрямь пока занимала только Анастасия, рядом с ней муж не мог повысить голос, старался во всем угодить, только бы большие серые глаза смотрели ласково. Анастасия так и смотрела, она влюбилась в рослого красавца с первого взгляда, когда Иван оказался в Благовещенской церкви одновременно с Захарьиными.
Настя стояла, как всегда, скромно потупившись, занятая мыслями о благолепии идущей службы, когда почувствовала, как чуть забеспокоились люди у входа. Кажется, даже пронеслось: «Князь!» Москвичи не ждали от беспокойного Ивана ничего хорошего, он мало заботился о неудобстве других, потому вошел в церковь довольно шумно и расположился, как ему удобно. Люди расступились, освобождая место правителю. Анастасия тоже оглянулась и неожиданно встретилась взглядом с молодым князем. Смутившись, девушка резко отвернулась, но немного погодя, не удержавшись, скосила глаза снова. И снова встретилась с ним глазами. Потом уже не могла дождаться, когда закончится служба, мало понимая, о чем говорит священник.
Дома даже мать заметила волнение дочери. Но на следующий день князя в церкви не было, и через день тоже, и через неделю. Появился он лишь больше месяца спустя. На сей раз вошел тихо, встал скромно, никому не мешая, долго стоял, разглядывая Настю, пока та не почувствовала его взгляд. И снова ее точно обдало жаром из печи, полыхнуло все, сердце бешено забилось. Девушке казалось, что стук сердечка слышен по всей церкви Благовещенья, что люди должны бы обернуться, испугавшись этого грохота. Но все стояли, никто не поворачивался, никто не дивился. Только брат Никита, оказавшийся рядом, заметил, как зарделась сестра, тихо спросил:
– Ты чего полыхаешь? Жарко?
Анастасия замотала головой:
– Нет, нет…
Не удержавшись, снова скосила глаза в сторону князя. Никита поглядел следом и закусил губу. Ему совсем не понравился интерес Ивана к сестре. Князь молод, да ретив, не ровен час опозорит девку, что тогда делать?
Но по окончании службы Иван попросту ушел и больше ни Анастасии, ни Никите в церкви не попадался. Брат никому не сказал об увиденном, ни к чему пугать мать и Данилу, но за сестрой пригляд усилил. И зря, Настя себя блюла, никуда без матери не выходила и, уж конечно, с Иваном не встречалась. Постепенно все успокоилось, Никита даже решил, что сестра случайно попалась на глаза Ивану и тот попросту забыл о девушке.
Но потом объявили смотрины невест, и Захарьины долго спорили, вести ли туда Настю. Помня о происшествии в церкви, Никита сомневался больше других. А уж когда Иван сам поинтересовался, где его сестра, Захарьин понял, что это тот самый случай. Однако снова ничего никому говорить не стал, только объявил дома, что не подчиниться приказу царя невозможно, Настя должна немедля идти во дворец, как и все другие!
Сама Анастасия была ни жива ни мертва, когда их выстроили посреди большой горницы, разодетыми и наряженными для царского смотра. Стояла на подкашивающихся ногах, думая только о том, как бы не встретиться с теми самыми глазами, не выдать свои давние девичьи думы! Только краем глаза заметила, как шагнул в горницу царь. Горло перехватило, ни вздохнуть, ни проглотить, а он уже рядом, стоит и почему-то не идет дальше. Время остановилось, она медленно подняла глаза и снова встретилась с этим зовущим в неведомые дали взглядом.
Иван смотрел, не отрываясь, казалось, прошла вечность, пока он протянул руку в сторону, а потом к ней – поднося перстень и нательный крест. Сколько им твердили, что надо поклониться и в ответ подать такой же подарок, даже при себе каждая имела на всякий случай! Но она все забыла, его дар приняла и все смотрела, не отрываясь. Девушка справа, кажется, это была Анна Юрьева, чуть толкнула в бок, мол, что же ты? Анастасия опомнилась, протянула и свой дар. Но и Иван взгляда не отрывал.
Как он ушел, что при этом говорилось, Анастасия попросту не помнила. Ее поздравляли, глядели заискивающе и завистливо одновременно, старались, чтоб заметила, запомнила. Выручил все тот же Никита, живо увел подальше от чужих, не всегда добрых глаз. И пошло – царская невеста! Вокруг ходили, берегли-стерегли, готовили к свадьбе, наставленьями замучили, рассказывали, как должно вести себя на венчании и после с мужем, чего бояться и как не опростоволоситься…
Все оказалось так и не так. Когда исповедовалась, сильно насмешила митрополита, сознавшись, о чем думала тогда в церкви, увидев Ивана впервые. Много добрых слов услышала от Макария, обещала постараться смягчить буйный нрав молодого царя. Но буйства у мужа даже не заметила, Иван был ласков и очень счастлив. Они оба светились от внутренней радости, было хорошо друг с дружкой, покойно и мирно. Однажды, уже в Троице-Сергиевом монастыре Иван вдруг признался, что впервые ему расхотелось вести разгульную жизнь, когда встретил ее. Анастасия почувствовала такой прилив нежности и теплоты после этого признания, что сама прижалась щекой к мужнину плечу.
Господь не сразу благословил этот брак, словно испытывал молодых, царица понесла лишь через год. Радости Ивана, хорошо помнившего о двадцатилетнем ожидании своего отца, не было предела, царь готов носить свою царицу на руках, что иногда и делал, когда оставались наедине. Он, уже познавший многих женщин, с первой минуты очень бережно относился к жене, почувствовав ее неиспорченность, поверив в ее любовь и верность. Иван не ошибся, ласковей и верней Анастасии ему не найти.
Но не так-то просто вдруг измениться во всем. Когда большие серые глаза молодой царицы смотрели на мужа, тот вел себя лучше некуда, был добр и справедлив, даже благостен, только не всегда же Анастасия оказывалась рядом, а привычки ломать трудно. Даже портить девок не перестал, стоило оказаться подальше от жены и дворца, как требовал привести себе нескольких покрасивей, раздевал донага и куражился вволю. Частенько творил это с беспутными приятелями, с которыми и до женитьбы предавался пьянству и гульбе. Задирали девкам рубахи до головы, ставили раком и использовали по назначению по очереди, заставляя потом гадать, кто это был. Если бедолаги не угадывали, то лупили нещадно розгами по голым задам и снова насиловали. Девок после раздавал всем желающим на потеху, причем, отдавая, сначала требовал, чтобы и облагодетельствованные мужики также попробовали при нем женского тела.
Но использовать девок по назначению дело привычное, на то они и девки, а вот когда молодой царь стал и молодых мальчиков также ставить раком, начали говорить недоброе. Иван узнал, кто недоволен, позвал боярина к себе. Бедолага уже понял, что добра ему не видать, крестился, плакал, умоляя, чтоб не губили, не позорили, но пьяная компания желала веселья. Семена раздели также донага, поставили, как и девок, здоровенный пьяный дьяк применил свою мужскую стать, потом беднягу выпороли. А потом и вовсе вставили в зад большую свечу и подожгли. И хоровод водили, пока у боярина кожа не запалилась. Он после неделю ни сидеть не мог, ни даже лежать на спине, так зад обгорел. Но и после Иван его в покое не оставил, велел снова позвать к себе, ласково расспрашивал, зажили ли раны, просил показать, чтобы удостовериться, что все в порядке. Тот ужом вертелся, чуя, что все начнется сначала, да только как с царем поспоришь? Снова оголили, снова надругались, только что палить свечу не стали. На следующее утро Семена нашли в петле, не вынес издевательств.
Макарий выговорил Ивану за непотребство, но не слишком, рискованно было идти супротив молодого государя, горяч слишком, несдержан. И корил митрополит тем, что при такой жене, как Анастасия, стыдно непотребством заниматься. Это, пожалуй, единственное, что удерживало повзрослевшего Ивана от полного разгула.
Весна в том году выдалась ранняя, снег сошел уже в начале марта, без дождей земля подсохла за несколько дней, на деревьях набухли и раскрылись почки. Молодая зелень так и звала подальше от шумной, суетной Москвы. Тем более что в Москве начались пожары. На Пасху погорели многие лавки в Китай-городе. У Москвы-реки непонятно с чего в арсенале вспыхнуло пушечное зелье. Взрыв был страшный, разорвало саму стрельницу, и камни разметало по берегу. Потом горели гончары и кожевники. В воздухе сильно пахло гарью, по городу стоял плач, к царю люди толпами несли челобитные с просьбами о помощи.
Иван, которому совсем не хотелось пока заниматься делами, морщился, всячески увиливал и в конце концов объявил, что едет за город. Решили отправиться погостить в Островок. Туда приехали большой толпой, Анастасия вместе с боярынями принялась распоряжаться будущим обедом и другими хозяйственными делами, а Иван с товарищами уехал на охоту. Настроение было не просто весеннее, а приподнятое, почти возвышенное, казалось, теперь жизнь состоит из одних праздничных минут. Дома красивая разумная жена, которая хоть и молода, но прекрасно ведет хозяйство огромного двора, она уже тяжела, значит, будет наследник, сам царь молод и полон сил, его любят и славят на каждом шагу. На душе было покойно и радостно.
Охота не очень задалась, но это мало кого расстроило, ведь не за добычей ехали, так, развлечься. Уже возвращались, когда вдруг на дороге показалась какая-то толпа. Иван слегка побледнел, так хорошо начавшийся день грозил испортиться. Вперед немедленно выехали Данила Захарьин с кем-то из приближенных. Царь горячил коня, одновременно придерживая его. Досада душила Ивана, снова эти челобитчики! Он злился все сильнее. Когда Данила вернулся с сообщением, что псковитяне жалуются на своего наместника Пронского-Турунтая, царь уже буквально кипел! Пошли прахом все наставления Макария и увещевания молодой царицы, у Ивана взыграло ретивое. Ему посмели мешать во время отдыха! Взять их! Раздеть донага, и… и… царь даже не сразу придумал, чтобы такое сделать с негодными!
Псковичи, всей душой верившие, что молодой царь разберется и защитит их от произвола ставленника Глинских, ужаснулись:
– За что, надежа-князь?!
Слово князь вызвало у Ивана бешеный приступ ярости, его, царя, посмели назвать князем?!
– Какой я вам князь?! Раздеть их догола!
Данилу очень хотелось спросить, это-то зачем, семь десятков оголенных мужиков не поднимали настроение, они не были ни молоды, ни хороши собой, измученные работой и дальней дорогой тела убоги, к чему царю такая забава? Но Иван вдруг велел нагреть вина и… поливать бедолаг горячим напитком! Не подчиниться было нельзя, над псковичами принялись издеваться, округу огласили вопли обваренных людей. Но царю этого показалось мало, Данила с ужасом замечал, как буквально звереет Иван. Глаза молодого царя, кажется, впитывали вид крови, боли, ужаса. Захарьин помотал головой, отгоняя наваждение.
Жалобщикам принялись подпаливать усы, бороды и даже волосы. Бедолаги уже готовились к страшной смерти, были такие, что отдали Богу душу только с перепуга. Спас от погибели их не царь, а мчавшийся во весь опор со стороны Москвы всадник. Едва успев спрыгнуть с коня, холоп бухнулся в ноги Ивану:
– Не вели казнить, государь!
– Чего? – У Ивана задергался левый глаз. Что сегодня за день такой?!
– С колокольни во время звонов колокол упал!
Лицо молодого царя побелело, падение колокола плохая примета, быть большой беде! Спросив: «Где?», он слушать ответ не стал, птицей взлетел на лошадь. Только успел крикнуть: «Велите царице ехать в Москву!», и от копыт его коня уже клубилась пыль. Данила поспешил к сестре передать волю мужа. Стрельцы, остановившие мучения псковичей, растерянно спрашивали:
– Что с этими?
Захарьев махнул рукой:
– Гнать в шею!
Ошпаренные, обожженные люди торопливо собирали брошенную в кучу одежку, не разбирая, где чья, не до того, главное – успеть унести ноги. Навек зареклись на кого-нибудь жаловаться, себе дороже. Некоторые стонали, у многих не было волос на голове, только черные огарки, кто хромал, кто прикрывал рукой вытекший глаз, другой пытался натянуть ошпаренными руками поскорей порты от срамоты. Все это делалось молча и оттого выглядело еще страшнее.
Царская свита тоже поспешила с места издевательств, кто метнулся вслед за царем, кто за Захарьиным к своим женам.
– А, это ты? Снова станешь учить, как мне лежать, как сидеть? Или что съесть за ужином?
– К чему тебя учить, царь Иван Васильевич? – бесплотный священник Сильвестр скромно потупил глаза. Но Иван слишком хорошо знал, что эта скромность фарисейская. За ангельским смирением попа железная воля и желание подчинить себе. Но подчинить в большом не мог, силенок не хватало, да и ума тоже, подчинял в мелочах. Это было еще хуже, ежеминутная опека тяжелее даже строгого спроса митрополита Макария. А еще постоянная угроза из-за непослушания навредить близким, ведь, если верить Сильвестру, любой неверный шаг Ивана грозил бедой Анастасии и детям. Ни жить, ни даже вздохнуть свободно не мог, мечтая освободиться…
Вот и сейчас Ивану показалось, что бесплотные руки попа сдавили горло, не давая свободно дышать, потому рванул на себе ворот рубахи, чтобы глотнуть свежего воздуха. Спальные поняли по-своему, принялись махать на него, бросились открывать окна, несмотря на холод на дворе… Но царь никого не замечал, ему во что бы то ни стало нужно было высказать этому бесплотному Сильвестру то, чего не сделал в давние годы при жизни.
Выговорить за мелочную опеку, граничившую с издевательством над ним и, главное, любимой женой Анастасией. За бесконечные придирки к молодой царице, за то, что недодал ей ласки и любви по милости вот этого советчика, за… Много за что… За несвободу, взрастившую в нем желание все сделать по-своему, пусть и во вред. За бесконечные страхи, что если ослушается, то навлечет беду на своих любимых, на жену и детей…
Вот и слушался… Сколько раз выговаривала царица, что безволен, что подчинен попу во всем…
За 37 лет до этого. Сильвестр
Ранняя весна и радостна и страшна для Москвы одновременно. Радуются люди тому, что тепло уже, что зеленая травка из земли полезла, что пережили они зиму-морену с ее стужей и непогодой. Но хорошо, если весна дружная и с дождями в нужное время, а в тот год сушь стояла страшная. Как сошел снег в начале марта, так дождей уже больше не было, сушь стояла недобрая, и ветер лютовал. Бывалые люди вздыхали, мол, не погореть бы… К середине апреля начались первые пожары. 12 апреля выгорели Никольская и Лубянка, едва-едва отстояли торговые ряды.
20 июня москвичи ужаснулись: юродивый Василий в полдень вдруг встал, точно вкопанный, подле церкви Воздвиженья на Арбате и стоял, обливаясь горючими слезами. Пробовали спросить, с чего бы, ответствовал, что по погибели храмовой плачет! Божий человек загодя беду чует, оттого и затосковали люди.
Прав оказался блаженный, в той церкви первой вспыхнуло, точно по злому колдовскому умыслу. Загорелось быстро, сильный ветер понес огонь по городу. Набат поднял Зарядье, Москва горела по всей Яузе! Черный дым застлал небо над городом, на улицах крик стоял немолчный, рушились крыши и стены горевших домов, вопили опаленные, просили помощи растоптанные обезумевшей толпой и взбесившимися от огня и страха лошадьми! Город заволок горький смрад от сгоревших в пожаре людей и скотины, которую попросту некому было спасать, тут самим бы уберечься!
К вечеру страшное зарево над Москвой затихло, но вой по погибшим стоял и утром. Пожары часто жгли Москву, но никогда не докатывались до Кремля. Теперь и там дышать было нечем от смрада и черного дыма, ползущего от города. Молодого царя с царицей и родственниками вывезли на Воробьевы горы в летний царский дворец. Туда огню и смрадному дыму от Москвы не добраться, тянуло в другую сторону.
А где загорелось на следующий день, никто бы сказать не смог. Заполыхало точно со всех сторон. Но самое страшное – налетевший сильный ветер понес огонь по городу в сторону Кремля! Когда начали рваться пороховые погреба, москвичи поняли, что пожара-то еще и не видели! В Москве пылало все – Пушечный двор, Оружейная палата, Постельная палата, церкви, с колоколен которых падали колокола, Казенный двор…
Полыхал город, снова гибли в нем люди от валившихся сверху пылающих бревен, от горящих теса и соломы, сорванной ветром с крыш, задыхались от удушья, были растоптаны мечущимися лошадьми. Даже Успенский собор не смогли отстоять, внутри выгорело все, митрополита Макария пришлось опускать из крепостного тайника на вожжах к Москве-реке, да вожжи оборвались, едва не погиб митрополит, сильно ударившись о землю.
К вечеру жаркий, свирепый ветер наконец стих и огонь стал понемногу униматься. Но смотреть на Москву спокойно не смог бы никто.
Стены Кремля с проломами от взрывов порохового запаса закопчены, многочисленные церкви обезглавлены, стоят только их обгоревшие остовы. Нет больше Кремля! И большей части города тоже нет, вместо изб одни обгорелые печные трубы. Ничего не оставил огонь, ни домов, ни лавок купеческих, ни усадеб…
Но, главное, он не оставил людей, кто не успел прорваться сквозь смрадный дым и пламя к берегам реки или в луга за городскими улицами, почти все погибли, сгорев или попросту задохнувшись. Задохнулись и многие, кто прятался от страшного жара в глубоких погребах и подвальных ямах. Пропало все: родня, дома, скотина, скарб… Как теперь жить, чем кормиться? Как подняться снова на ноги, растить детей? За что, Господи?! Чем так провинилась перед тобой Москва, ее люди, те, кто в поте лица добывал себе хлеб каждодневный?!
Не поверили москвичи, что мог вот так наказать их Господь, поразив пожаром всех без разбора, и богачей, и детей безвинных. А церкви почему погорели, святые иконы погибли? Постепенно росла уверенность, что не обошлось без ворожбы, без нечистой силы. Смутилась Москва, стала умом своим искать виновных. Не верилось, что это могли быть свои, русские. Значит, кто?
Известное дело – чужаки, Глинские, а самая главная среди них она – бабка молодого царя Анна Глинская. Вестимо, ведьма она, ненавистница всякого русского обычая. Кому, как не ей, желать порушения православных церквей? Всегда мечтали Глинские сменить веру русскую на чужую! Нашлись видевшие, как летала эта ведьма хвостатая ночью над городом, кропила кровавой водой, из сердца мертвецов взятой, дома московские, и церкви святые, и монастыри… Потому не устояли они в лютом пожаре.
Смерть всему роду Глинских! Кто бросил клич казнить цареву родню – дознаться не смогли, но новый смерч, не хуже огненного, понесся по Москве. Обезумевшая от горя и крови толпа бросилась громить уцелевшее боярское добро. Сначала разнесли двор Глинских, досталось и безвинным холопам боярским, и всем, кто показался доброхотом ненавистного семейства.
Такой вал остановить невозможно, пока буйство не иссякнет само собой. Но до этого было далеко, слишком велики потери в трех московских пожарах. Кто-то крикнул, что дядя царя Юрий Глинский укрылся в Успенском соборе, в алтаре прячется! Страшна обезумевшая в своей ярости толпа, никто и ничто ей не указ. Не остановили ни святые стены, ни даже крест алтарный, выволокли вопящего князя на Соборную площадь и тут же забили насмерть кольями и камнями, да так, что все его тело и голова превратились в сплошное кровавое месиво!
Найти бабку царскую Анну Глинскую и другого дядю Михаила не удалось, царь увез бабку в Воробьево, а дядя сумел удрать в свое калужское имение. До утра толпа громила Москву, но и на другой день не успокоилась, отправился народ на Воробьевы горы к летнему царскому дворцу. Каждому, кто шел, хотелось мести за погибель родных, за нищету, которая после пожара грозила многим, за порушенную хорошую жизнь. Впереди двигались ярые мужики, потрясая кольями и топорами, пищалями, отнятыми у стражи московской, а то и просто огромными кулаками. За ними горластой толпой бежали мальчишки, никак не могущие пропустить такое зрелище! Сзади спешили даже бабы, много потерявшие этим днем, а потому и сами готовые вырвать сердце у проклятой ведьмы!
Страшная в своей ярости масса приближалась к царскому летнему дворцу, и некому было ее остановить, задержать. На охрану мало надежды, москвичи быстро разнесли тесовые ворота, посбивали замки с амбаров, ревели единым криком:
– Анну, бабку цареву!
– В огонь ее, ведьму!
– Сжечь!
– Сжечь Глинскую!
Еще немного – и ворвались бы обезумевшие люди в палаты, бросились громить все и всех внутри терема. И вдруг на крыльце наткнулись на выставленный вперед большой крест! Ход беснующимся людям заслонил небольшого роста священник. Отбросить крест в сторону не решился никто, передние на мгновение замерли, а сзади на них все напирали. И тут на весь двор, перекрывая разъяренные вопли, раздался зычный голос священника, и откуда только бралась такая сила в небольшом теле:
– На кого руку подняли?! На царя своего?! Царь пред вами виновен?
До сих пор никто не посмел встать против толпы, слуги царские попрятались так, что не сыскать, а этот небольшой толстенький человечек в рясе смело противился тысячеголосой ораве! От неожиданности передние даже затихли, а стоявшие сзади тянули головы, пытаясь понять, что происходит. Раздались растерянные голоса:
– Не-е… нет, царь не виновен… царь-то что?
Благовещенский священник Сильвестр, почувствовавший сомнения мятежников, гаркнул еще громче, так, чтобы слышал весь двор:
– Так чего же вы царские хоромы громите?!
Толпа опомнилась, принялась требовать свое:
– Бабку царскую давай!
– Ведьму Анну Глинскую в огонь!
Хотя крики были уже не такими уверенными, как совсем недавно, но могли вмиг перерасти в новое безумие. Вверх поднялись десятки рук с кольями и топорами. Люди зашевелились.
– Нет здесь Глинских! – Голос священника перекрыл новые выкрики.
– Побожись, – неуверенно потребовал здоровенный мужик, державший отнятый у кого-то из стражников бердыш. Правда, не очень, видно, знал, как им пользоваться, держал неловко.
Священник размашисто перекрестился:
– Вот те крест! Во Ржеве она!
И чего сказал, сам не понимал, да только поверили люди, раздались голоса:
– Нету ведьмы здесь…
– Далече она…
– Нету…
– Так чего же вы наседаете?! – снова гаркнул священник. Толпа неуверенно попятилась. – Чего царские палаты громите?! Разве царь сам в пожаре не пострадал? Его палаты сгорели небось не меньше, чем ваши!
Конечно, когда у человека погорела единственная изба, а в ней женка с детьми, то это не сравнить с пожаром в царских хоромах, у царя небось еще немало осталось. Но люди засомневались, а священник наступал:
– Пошто Ивана Васильевича корите, позорите? Он ли в пожаре виновен?
Отступившие было с крыльца мятежники взъярились снова:
– Бабка его виновата!
– Вот с нее и спрос! А всего более с вас самих! – Сильвестр, наступая, уже вытеснил передних с крыльца и теперь возвышался над всеми.
– Это как? – изумился народ.
– Пожар тот наказание за ваши грехи!
Тот же детина с бердышом возмутился:
– Ты говори, да не заговаривайся, не то не посмотрю, что поп, рубану раз, мне терять нечего. Чем я повинен, если, не щадя живота своего, трудился с утра до ночи? А детки мои малые в чем вину держат, коли и ходить пока не умели?
– Все напасти за грехи наши, – упрямо возразил поп. Неизвестно, сколько бы они спорили и чем все кончилось, но тут опомнилась стража, стала наседать на слегка успокоившуюся толпу, тесня к воротам. На помощь спешили еще стрельцы. И снова гомон во дворе перекрыл трубный глас Сильвестра:
– Не трогать! Никого не трогать! Именем царя велю!
Поп поднял вверх свой большой крест и смело шагнул с крыльца. Перед ним расступились.
– Идите, дети мои, по домам, у кого какой остался. Ни к чему вам царские хоромы громить, на себя гнев царский вызывать… – Сильвестр уговаривал спокойно, но настойчиво. Безумствовавшая два дня толпа, видно, уже устала от собственной ярости, готова была утихнуть. Слава богу, Сильвестра послушались и стрельцы, ни давить людей конями, ни рубить их палашами, ни тем более палить в толпу из пищалей никто не стал. Пришли с шумом, ушли почти тихо. Отходчив народ русский, выплеснул гнев свой, облегчил тем душу, и снова готов жить дальше, какой бы ни была эта жизнь, легкой или тяжелой.
Никто не заметил, что из чуть приоткрытого окошка горницы за всем наблюдает молодой царь. Царица сидела, забившись в угол на лавке, а Иван не смог не глянуть хоть одним глазом. Ярость толпы была страшной, не останови людей вот этот невесть откуда взявшийся священник, и она захлестнула бы дворец. Тогда несдобровать не только спрятавшейся в подземелье дворца бабке Анне, но и им с царицей, хотя никакой вины Иван за собой не знал. Государь не верил своим глазам – один человек смог остановить десятки разъяренных других только словом, когда стража не справилась бы и сотнями сабель и пищалей! Значит, есть на свете сила большая, чем безумная ярость?
Когда молодой царь повернулся к своей жене, глаза его блестели, как самые яркие ночные звезды:
– Настенька, не бойся, там все стихло.
Анастасия помотала головой, точно отказываясь верить в наступившую тишину, в неожиданное спасение от, казалось, неминуемой погибели. Иван рассмеялся, смех его был тихим и немного недоверчивым:
– Кончилось, кончилось. Один поп смог остановить тысячу беснующихся человек!
– Как? – Царица спросила не потому, что желала знать, как именно, а потому, что все не могла поверить.
– А вот так! Поднял крест и уговорил!
Иван вышел из горницы, навстречу ему попался один из стражников, видно, шел докладывать, что бунтующие прогнаны! Так и оказалось, усмехаясь, принялся говорить о том, как выпроводили мятежников со двора, слова были красочны, точно глухарь перед молодкой хвост распустил. Царь чуть помолчал, потом вдруг велел:
– Приведи мне попа, что на крыльце толпу увещевал.
Стражник замялся:
– Не ведаю, где он, государь. И откуда взялся тоже.
– Так узнай! – неожиданно даже для себя заорал Иван и грохнул дверью, скрываясь в горнице. Анастасия испуганно смотрела на рассердившегося мужа. Чего это он? Ведь все кончилось хорошо, и слава Богу!
Тот, чуть походив по горнице, объяснил сам:
– Людей успокоил священник, а они себе в заслугу ставят! А сами сидели, как мыши в норах, тихо, пока все со двора не пошли!
Тут оба вдруг вспомнили о прячущейся в погребе под дворцом бабку Анну. Небось там помирает со страха, надо успокоить. Глянув друг на друга, поняли, что думают одинаково, и вдруг весело рассмеялись. Царский смех был нервным, но иначе сейчас уже не могли ни Иван, ни Анастасия, слишком много пережившие за то недолгое время, пока москвичи бесчинствовали на дворе и их жизнь висела на волоске.
Анна Глинская выходить наверх категорически отказывалась целых три дня. Она проклинала тот час, когда приняла решение ехать в Москву, а не к отцу Стефану Якшичу, сербскому воеводе. Но еще больше проклинала саму Москву и ее народ, безумный, непочтительный и дикий! Глинская уже знала о страшной гибели своего сына Юрия, понимала, что теперь ни ей, ни оставшемуся в живых Михаилу добра в Москве не видеть, очень жалела, что когда-то отдала дочь князю в жены, забывая о том, сколько смогла награбить за недолгое время правления своих детей. Шепча проклятия народу, столько времени ее кормившему и поившему, давшему ей многие и многие драгоценности, наряды, золото, меха, она клялась отомстить, хотя совсем не знала как. Оставалось одно: настроить внука, ставшего царем, так, чтобы завтра же Москва захлебнулась в крови бунтовщиков!
И Анна Глинская принялась уже не проклинать москвичей и всех русских заодно, а размышлять, как осуществить задуманное. Царь Иван должен показать, что малейшая хула на его бабку карается не простой смертью, а гибелью мучительной и кровавой! Ей виделись реки крови непокорных и неблагодарных людей, которым она соизволила дать свою дочь в царицы.
Ее, Анну Глинскую, обвинили в поджогах? Ничего, они еще увидят, как горят их собственные дома по воле царя! И сами бунтовщики станут молить о пощаде в полыхающих кострах на площадях, но пощады не будет! Не будет пощады и прощения людям, посягнувшим на ее сына, на ее добро, на ее имя!
Может, так и было бы, да только слишком долго сидела в подполе бабка царя. Опоздала Анна Глинская. К тому времени, когда она наконец выбралась на свет божий, готовая подробно рассказать своему внуку, как следует покарать мятежников, он успел поговорить и с женой Анастасией, и с благовещенским попом Сильвестром, собой заслонившим путь в царские хоромы.
Глаза Анны метали молнии, она не могла поверить своим ушам:
– Ты?!. Ты не станешь никого наказывать?! За смерть своего дяди не станешь?! За хулу, на меня возведенную?!
Ответ молодого царя был тверд, глаза его смотрели спокойно:
– Не стану. Народ московский слишком много претерпел этим летом. Погибли многие, сгорело слишком многое. Ярость та была не злобной, но невольной, от отчаяния.
Во все глаза смотрела на мужа и Анастасия, эти дни он много думал и говорил с тем самым попом Сильвестром, но она никак не могла поверить, что столь скоро взялся за ум обычно несдержанный Иван. И радовалась – значит, есть в его сердце то, что поможет стать настоящим государем, разумным и добрым правителем, значит, ошибаются те, кто твердит, что Иван самовластен и жесток! Ах, как была рада молодая царица своему открытию!
Благовещенского священника нашли, но разговор получился совсем не таким, как мыслил себе молодой царь. Он уже приготовил большой кошель с золотыми монетами в благодарность за спасение от ярости безумной толпы, но Сильвестр, не давая ничего сказать Ивану, вдруг… обрушился на него с гневным обличением:
– Опомнись, царь Иван! Опомнись! – Невысокого росточка, упитанный попик едва доставал рослому государю лишь до плеча, но, подняв во гневе большой крест, точно стал на голову выше.
– В чем?! – ахнул Иван. – Что ты? Кто ты?
Сильвестр наступал на царя, оттесняя того все ближе к стене, у двери в ужасе замерли рынды, не смея вмешаться.
– Я Богом тебе послан глаза открыть на мерзость твоих поступков. Тебе власть над людом московским дана, а я Богом дан, чтобы наставить на путь истинный, ибо глух ты и слеп! Знамений страшных точно и не видишь, на беды людские глядючи тебе и горя нет?! А ну как придет долготерпению Господню конец, про то не помыслил?
Лицо Ивана стало бледнее полотна его рубахи, глаза в ужасе остановились, даже губы посинели. Едва разлепив уста, он пробормотал:
– Чем я прогневил Господа?.. Что свершил супротив него в невеликие свои годы?..
Сильвестр перестал вращать глазищами, но все же всплеснул руками:
– Ты не ведаешь?! Сколько в твои невеликие годы смертей на твоей совести? Скольких людей ты безвинно погубил, осиротил ради своей забавы, оставил калеками, замучил?
Иван вдруг приосанился:
– Я царь! Как смеешь ты, холоп, мне пенять?!
Священник точно не заметил вопроса, снова возмутился: