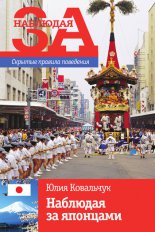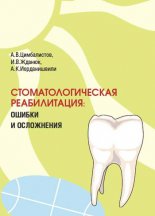Легкая корона Бяльская Алиса

Алиса Бяльская
Легкая корона
Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.
Осип Мандельштам
ПРЕДИСЛОВИЕ
В извечной борьбе отцов и детей, взрослых и подростков не побеждает никто. Дети становятся взрослыми, их юношеский бунт сменяется уверенностью, что именно они могут научить своих детей «правильно» жить. А новые дети снова бунтуют, не желают принимать скучных родительских правил: прошивают железками языки, пупки и прочие под одеждой не видные места, слушают «кошмарную» музыку, разговаривают «нечеловеческим» языком и жаждут честности, последней, предельной честности и личной, не скованной взрослыми глупостями и условностями свободы..
Но именно взрослые пишут книги и снимают фильмы для молодежи, и крайне редко можно расслышать голос живого подростка.
Автор романа «Легкая корона» Алиса Бяльская не подросток, а взрослая женщина, мать четверых детей, которым, судя по всему, здорово повезло.
Талант несомненный — мало кому удается сохранить интонацию подростка, честность и искренность, еще не запятнанные соприкосновением с «требованиями жизни». И еще — удивительное слияние автора и героини: даже немного не хватает на обложке фотографии разноцветноволосой девчонки в склеенных пластырем трофейных очках.
Эта книга — дебют. Дебют многообещающий.
Людмила Улицкая, писатель.
ПРИКИД РЕШАЕТ ВСЕ
Мы договорились встретиться в метро на «Багратионовской», чтобы вместе пойти в Горбушку на панков из Сибири.
Громов объяснил, как его узнать:
— Я в очках, на переносице они обмотаны проволокой. Гм, и у меня борода.
— И я в очках, — радостно сказала я, — в темных. Они у меня тоже разбитые. Ты меня по ним сразу узнаешь.
И это была чистая правда — пропустить меня было невозможно, я выделялась из толпы.
Когда только начался мой рок-н-ролльный период, одной из главных задач стало создание своего собственного имиджа. По-нашему, значит, прикида. Прикид — это было все. Черная кожаная куртка, узкие черные джинсы, армейские высокие ботинки на шнуровке, прическа в стиле «нас бомбили — я спаслася, тормозила головой» и черные солнцезащитные очки в любое время года были непременной спецодеждой любого уважающего себя рокера. Главной моей гордостью были черные мотоциклетные очки времен Второй мировой. История их такова. Когда я перерыла в поисках подходящих шмоток весь наш дом, наступил черед квартир бабушек, тетушек и друзей, далеких от рок-н-ролла, то есть расположенных поделиться со мной старым, никому не нужным тряпьем. У Софы, моей бабушки по отцу, была антресоль, довольно большая. И как-то она оговорилась случайно и потом многократно об этом пожалела, что там хранится много трофейных вещей, привезенных с войны дедом Матвеем.
«А ведь он брал Берлин, — подумала я. — Там должно быть много всего интересного».
Сказано — сделано, я полезла на эту антресоль под аккомпанемент Софиных стенаний.
«Не счесть алмазов в каменных пещерах». Да, много сокровищ я нарыла. И шапки, и кепки, и пальто драповое, и костюм белый чесучовый, шинель и военный китель а-ля Сталин, всего не перечесть. Но главным приобретением были темные очки. Настоящие очки, которые носила немецкая моторизованная пехота, большие, закрывающие глаза полностью, даже и по бокам, с очень темными стеклами. Эти очки были настоящим бесценным сокровищем: таких ни у кого не было, и они были устрашающе круты. Когда я шла в них по улице, вся в черной коже, с торчащими в разные стороны темными волосами, народ предпочитал расходиться в стороны. Но вскоре произошло несчастье. Очки у меня упали, и одно стекло треснуло. В горе пришла я к Марине с Глебом, моим лучшим друзьям и конфидентам, чтобы почтить память моей невъебенной крутизны, которой так и не удалось состояться. Выпили, помянули. Глеб подумал минуту, взял белый лейкопластырь, липкий такой, который вечно оставлял на руках следы клея, и переклеил треснувшее стекло крест-на-крест. Хотя это и ухудшило сильно мое зрение, зато внесло необходимый элемент опасности и приключения в мой имидж. Теперь люди не просто расходились в стороны, но мне в общественном транспорте уступали место. Никто со мной не спорил, на меня не кричали контролеры в метро и уборщицы в магазинах, никто не делал мне замечаний.
Менты, да, иногда останавливали и просили показать документы. Тогда я снимала очки, доставала паспорт и общалась с ними интеллигентным голосом воспитанной девочки из хорошей семьи. И меня всегда отпускали.
Конечно, то был конформизм с моей стороны, и некоторые друзья меня за это ругали.
— Какой же это протест, — говорили они, — если ты ходишь с паспортом и показываешь свою московскую прописку по первому требованию?
Но с другой стороны, что же, получать дубинкой по голове каждый раз, когда тебя просят паспорт показать?!
Но несмотря на крутизну я чувствовала, что мне не хватает какой-то незначительной детали, которая, однако, придаст моему облику нечто совершенно неповторимое. Этакий легкий завершающий штрих.
Я уже довольно долгое время, может быть, год, собирала значки на советскую тематику. В основном я специализировалась на значках с изображением Ленина. Каких только Лукичей у меня не было! Ленин-розочка, Ленин-пуговичка, Ленин-заколка (булавка и на ней малюсенькая головка Ленина), Ленин в виде треугольника, квадрата, ромбика, мяча — всего не перечесть. Кроме Лениных, мне ужасно нравились значки-медальки на коммунистические темы. Эти медальки стали моим коньком. И среди всех этих медалей самыми прикольными были Гагарины. Там было написано на рисочке «Первый космонавт Земли», и на самой медальке болтался улыбающийся Гагарин в космическом шлеме. Супер! Таких Гагариных у меня было штук двадцать, я просто не могла удержаться и купила все, что были в магазине. Я потом награждала ими друзей и вообще отличившихся в борьбе. Эти медали я нацепила себе на грудь в количестве пяти или шести штук, на одну больше, чем медалей Героя у Брежнева. Ну, еще пара булавок-Лениных здесь и там для усиления эффекта и большой портрет БГ, висящий у меня на груди, как распятие.
Вечером 4 мая я оказалась в некотором затруднении. С одной стороны, я шла на сейшен панк-группы, где должна была собраться вся панковская тусовка Москвы, а значит, я просто обязана была выглядеть соответственно. Но я договорилась встретиться там с Громовым — одним из ведущих рок-журналистов страны, редактором подпольного рок-журнала «Гонзо», нашего русского аналога The Rolling Stone. А ведь я мечтала стать рок-журналисткой, бредила этой идеей, так что важно было произвести на него правильное впечатление.
Готовясь к важной встрече, я долго крутилась у зеркала. В общем и целом я была довольна своим видом. Сомнения вызывала только иконка с Гребенщиковым, висящая у меня на груди вместо распятия. Панкам она точно не понравится, но на них мне плевать, я делаю и ношу, что считаю нужным. Но Громов может подумать, что я — какая-то глупая маленькая девочка, еще одна сопливая фанатка БГ, и не отнесется ко мне серьезно. Так что я то снимала образок с себя, то вешала обратно.
В конце концов решила поехать с ним, а там — по настроению, если что — быстренько сниму его перед встречей.
Встретились на перроне. Громов оказался очень большим и длинноволосым. Соломенная копна волос и густая рыжеватая бородища. Волосы развеваются, борода торчит, красный рот плотоядно улыбается. Очки с дымчатыми стеклами, может быть, и перевязаны проволокой, но там, на высоте под метр девяносто, особо не разглядишь. А я еще вообразила себе, что мы с ним братья по разбитым очкам. Одет вполне цивильно, ничего вызывающего. Но вот он обалдел. У него просто пачка отвисла, и он несколько секунд смотрел на меня, не зная, что сказать. Я наслаждалась произведенным эффектом, мне это никогда не надоедало. По моему голосу и манере разговаривать он никак не ожидал увидеть такое чудо-юдо, от которого все шарахаются в стороны.
— Да, я вижу, что очки у тебя действительно, гм, разбиты. А как ты видишь сквозь них? — спросил Громов довольно иронично. — Одно стекло переклеено пластырем, другое закрыто волосами…
— Когда теряешь зрение, обостряются другие органы чувств. И потом, что-то я все равно вижу, — ответила я.
Мы уже поднимались по эскалатору, на нас все пялились. По-моему, он чувствовал себя неловко.
— Уже вечер, темно. Не хочешь снять очки?
— Не-а, я с ними не расстаюсь. Я в них даже сплю.
— Ну, как знаешь. А вот Гребенщикова советую снять. Тусовка тебя не поймет, у них другие кумиры. И вообще, как-то он не подходит ко всему твоему виду Выпадает стилистически.
«Вот черт! — подумала я. — Забыла ведь снять, дура! Теперь и он будет меня идиоткой считать, и панки привяжутся».
Но слабость демонстрировать не хотелось, поэтому БГ так и остался висеть на мне, как вериги.
На подступах к Горбушке собрались панки. Вот кто по-настоящему был крут: разноцветные ирокезы, наколки, серьги в носах. А уж как прикинуты! И все это посреди глубокого Совка. Не представляю, как им удалось добраться сюда, обычно менты любого в рваных джинсах и с ирокезом выдергивали из толпы и сразу вели в отделение, где метелили по-черному, а потом бросали в обезьянник.
Мы пришли заранее, потому что Громов имел отношение к организации этого панковского фестиваля, и сразу пошли за сцену. Ощущение было, что я перенеслась во времени и пространстве и оказалась вдруг в Лондоне году так в 77-м. Патлатые и бритые, джинсовые, кожаные и в железе, все пьяные, с гитарами, барабанными палочками и микрофонами, музыканты активно тусовались, перетекая из гримерки в гримерку. Вокруг них было полно женщин: совсем девочек и постарше, накрашенных, надушенных и разгоряченных. Громов представил меня каким-то людям.
— Вот, познакомьтесь. Это Алиса Лебедь-Белая — начинающая журналистка. — Он наклонился ко мне и с самодовольной улыбкой сказал на ухо: — По-моему, так лучше. Нужен же тебе запоминающийся псевдоним. И потом, тебе подходит.
Я удивленно посмотрела на него: уж на кого, а на белого лебедя я похожа не была. Но Громову было уже не до меня; он отвлекся на высокого, худого как палка, с длинными черными волосами парня лет двадцати пяти.
— О, это наш художник. Он мне очень нужен. Саша, подожди! — и мой провожатый скрылся из вида.
Я еще постояла на месте какое-то время, пока не поняла, что Громов, наверное, пошел по своим организаторским делам и надо крутиться самой.
Сибирские группы старались как могли, но играли они плохо и тексты были невнятные. Зато децибелы и тестостерон зашкаливали, и мат лился со сцены сплошным потоком, вселяя радость в наши окоченевшие от совдеповского холода сердца. Панки в стоячем партере, накачанные пивом, рубились смертно.
После концерта я стояла у выхода в некоторой растерянности, не зная, что мне делать: идти одной к метро, дожидаться, Громова здесь или пойти искать его за кулисы? Но тут он вырос у меня за спиной.
— Ну, как тебе? — спросил он.
— Какие-то они слишком сырые. Играть как следует не могут, и слова по большей части дурацкие, — ответила я, старательно подбирая слова: ведь я рок-журналистка, хоть и начинающая. — И, кроме того, главный хит — «У бабушки»: «Такой прекрасной бабушки на целом свете нет,/ Она спечет оладушки,/ Она возьмет минет». Что за чушь? Так по-русски не говорят. Или она возьмет в рот, или сделает минет.
Господи! Это Совок, 88-й год, кругом царит полнейшее ханжество и пуританство. Мне 18, и я — еще девственница. Я и слов-то таких раньше вслух не произносила, а тут спокойно рассуждаю об этом с незнакомым практически мужчиной, старше меня больше чем на десять лет! Но, кажется, впечатление я на него своей раскованностью и искушенностью произвела: вижу, он искоса поглядывает на меня с любопытством.
— Н-да, с русским языком у них неувязочка вышла. Но ведь они — панки, главное — экспрессия. Тебе нравится панк? Что ты вообще слушаешь? Кроме «Аквариума», конечно…
— Да «Аквариум» вообще не моя любимая группа. Я «Звуки Му» больше всего люблю! Петя — гений!!! Я на всех их сейшенах была за последний год.
— А что ж ты тогда Гребенщикова на себе таскаешь, а не Мамонова?
— Во-первых, у меня нет фотки мамоновской, а во-вторых, его никто не знает, а БГ все знают и поэтому сильно злятся, когда видят. А если Мамонова повесить, то будут спрашивать: «А кто этот мужик?» Понимаешь, так весь эффект пропадет.
Громов начал ржать.
— Эффект… Просто ты девочка в пубертатном возрасте, которая писается и визжит при виде своего кумира. Другие — от Жени Белоусова. А вы — от Гребенщикова или Цоя. Хотя я не отменяю значения их раннего творчества и влияния на наш рок.
— Ты ничего не понимаешь. Цой — он такой…
— Конечно, не понимаю. Мне яйца мешают. У него сексуальная харизма сильная, вот и действует тебе на яичники, или где там у вас гормоны образуются. К музыке, к настоящему высказыванию вся его поза Последнего Героя отношения не имеет.
— На концертах «Битлз» или «Роллинг Стоунз» девочки тоже визжали и плакали, но это не мешает им быть самыми великими рок-группами.
— Да, но и тем и другим этот визг так надоел, что они бросили выступать и засели в студии, писать альбомы. А Цою нравится вся эта истерика…
В это время мы уже шли к его дому. Слушать какие-то суперважные альбомы, без знания которых немыслимо даже думать о том, чтобы писать о роке.
Я насупилась и замолчала. Несмотря на все мои старания казаться серьезной и крутой, на рассуждения о минете и тому подобное, меня все равно назвали маленькой безграмотной девочкой, да еще обвинили в том, что у меня есть яичники.
Громов посмотрел на меня и засмеялся.
— У, губы надула. Как маленькая… Давай очки снимем, а то у меня папа дома. Он, знаешь, профессор, античную эстетику преподает, — может испугаться.
Он наклонился, протянул руку и снял с меня очки, убрал волосы с лица.
— Полями повеяло… Свежестью… — немного наклонился ко мне, потянул носом воздух. — Погоди, чем это от тебя пахнет? Какими-то полевыми цветами. Как там у Бунина? «Веет от них красотою стыдливою/ Сердцу и взору родные они/ И говорят про давно позабытые/ Светлые дни».
Папа-профессор ничуть не удивился тому, что в 12-м часу ночи сын привел незнакомую девушку. Громов оставил меня с ним наедине, пока быстренько наводил порядок у себя в комнате, и мы очень мило поговорили. Он был очарователен в каком-то старорежимном духе. Потом я слушала «Пинк Флойд» и «Ти Рекс» на громовском старом катушечном магнитофоне. Альбомы были магнитные, на бобинах, и чтобы заправить их в аппарат, требовалось немалое умение и ловкость. Это был целый ритуал, священнодействие.
Я потеряла счет времени. Со мной почти на равных разговаривал взрослый мужчина, авторитет, можно даже сказать — легенда в своей области. У него был свой журнал — андеграундный, он организовывал подпольные рок-фестивали, его забирали в милицию, за ним охотился КГБ. Он сказал, что я похожа на лебедя и от меня пахнет фиалками, незабудками, или какие там еще есть полевые цветы. Он знает наизусть Бунина и Сида Барретта. Ему беспрерывно звонили по телефону, но он всем говорил, что занят, говорить не может, и возвращался ко мне. Голова у меня кружилась…
— А как ты доберешься до дома? Уже поздно. Метро не ходит, — вдруг спросил меня Громов.
— Ого, уже два! — я в ужасе подумала, что не позвонила домой и не предупредила маму, что задержусь. Она знала, что я в своем прикиде пошла на рок-концерт, и вот ночь, а меня все нет. Мама наверняка не спит, сходит с ума, думает, что меня забрали в милицию. Но звонить? При нем? Показывать, что я — не свободный самостоятельный человек и должна отчитываться перед родителями? Ни за что!
— Останешься у меня? — как ни в чем не бывало, по-будничному, спросил Громов. — Я постелю тебе на диване.
— Нет-нет, я поеду домой. На такси.
— Ты где живешь?
— «Красные Ворота», Земляной Вал — на Старобасманной.
— В самом центре? Это будет стоить отсюда не меньше червонца.
— Ничего, у меня есть деньги.
— Ну, смотри, как хочешь. Я тебя провожу.
«ЮНОСТЬ»
За пару месяцев до моей встречи с Громовым мне позвонили из «Юности».
— Привет, — говорят, — мы из «20-й комнаты».
— Ой, — говорю я.
— Ты же нам писала? — говорят.
— Да, — отвечаю.
— Ну, вот. Мы тут всей командой читали твое письмо. Оно нам очень понравилось. Приходи к нам. Хочешь?
— Конечно, хочу!
Журнал «Юность» обладал в моих глазах некоторым романтическим ореолом, там Аксенова когда-то печатали; кроме того, «20-я комната» была чуть ли не единственным местом, где писали о роке, и писали хорошо. Я пошла в первый раз, мне понравилось, и я стала ходить туда регулярно.
В один из вечеров, когда мы сидели, трепались, гоняли чаи, вдруг резко, со стуком, распахнулась дверь и вошел редактор. Злой как собака.
— Почему бардак? Почему никто не работает? — заорал он. — Что за шум постоянный отсюда, все жалуются, что вы работать не даете! Почему посторонние в комнате? Здесь серьезный журнал, а не проходной двор! Так, все посторонние, кто не работает в журнале, милости прошу, скатертью дорога!
Народ потянулся на выход. Но я словно прилипла к столу, на котором сидела: во-первых, не люблю, когда на меня орут, а во-вторых, я так прикипела к этому месту, что посторонней себя не считала.
— А это что за чудо в перьях? — это он про меня.
Я в тот день была в дедовом кителе и армейских штанах. На груди скромно болтались пять медалек с Гагариным. Ну и в очках, конечно. Все посмотрели в мою сторону и промолчали. Делать нечего, пришлось говорить самой, хоть и страшно было, что наорет сейчас на меня и выгонит взашей.
— Я Алиса, — сказала я со значением.
— Ну и что, раз ты — Алиса, теперь можно на столе сидеть?
Слезла со стола, демонстративно села на стул, нога на ногу. Подумала, раз все равно пропадать, так с музыкой, в смысле, для меня главное — не потерять лицо. Сняла очки и с вызовом посмотрела ему в глаза.
Но он усмехнулся, взял стул и сел напротив.
— И что ты можешь, Алиса? Писать можешь?
— Она нам письмо написала, что собирается покончить жизнь самоубийством, и я ее позвал. А теперь она сама отвечает на письма. С ней много народу переписывается, — сказал Рома Ширяев, один из авторов «20-й комнаты».
Я выпучила глаза, потому что в первый раз услышала, что хотела покончить с собой. Но промолчала. Наверное, он знает, что делает. Может быть, раз я такая трагическая особа, меня не попрут отсюда? Редактор взял письма, которые пришли на мое имя, и бегло их просмотрел.
— Судя по твоему внешнему виду, ты увлекаешься роком. Могла бы писать на темы, связанные с роком? С тем, кто раньше у нас писал, пришлось расстаться, и нам нужен кто-то, кто разбирается во всем этом. Ничего пока не обещаю, все зависит от твоего материала. Хочешь попробовать?
— Можно взять интервью у Виктора Цоя, — выпалила я, не подумав.
— Н-да, Цой — это интересно. У Цоя есть потенциал, его уже пару раз показали по телевидению. Ну, попробуй.
Надо было каким-то образом раздобыть телефон Цоя. В редакции мне дали номер чувака, который, по их словам, знал все и всех.
— Ты постарайся ему понравиться. А то он тебя пошлет; он, в общем, — парень резкий, — такой совет дал мне Ширяев, переписывая телефон «резкого» чувака в мою записную книжку.
— А кто он такой, как его зовут?
— Зовут Сергей Громов. Он как раз писал в «20-й комнате» о роке до того, как ты появилась. Ушел, хлопнув дверью, — был не согласен с… ну практически, со всем был не согласен. Конфликтный тип. Но в роке разбирается потрясно, уже несколько лет издает журнал о рок-культуре «Гонзо». Самиздат, конечно…
О, этот журнал я читала, и он мне нравился. «Значит, он крут, этот Громов, — подумала я, — может и съесть меня с потрохами…»
ЗНАКОМИМСЯ
Набирая номер Громова в первой же телефонной будке рядом с редакцией, я сильно нервничала. Как представиться, что сказать? Ну, я имею в виду: «Вот я заняла твое место, а ты теперь, пожалуйста, дай мне свои связи, чтобы я могла получить дивиденды»? Не нужно быть особо резким, чтобы сразу послать за такую наглость. «Хочешь быть крутой, поговорить с Цоем — на здоровье, сама старайся, доставай телефон».
Представилась, начала объяснять, в чем дело. Мужчина на том конце провода, интеллигентный, с очень приятным голосом, говорил со мной прекрасным русским языком, матом не ругался и вообще, кажется, отнесся ко мне достаточно серьезно, так что я немного расслабилась. И тут кто-то начал ломиться в будку, нагло барабаня ладонью по стеклянной двери.
— Тут какой-то козел не дает спокойно поговорить. Минутку подожди, сейчас я с ним разберусь, — сказала я Громову и свирепо обернулась к интервенту. — Ну, чего надо? Не видно, что я разговариваю?
Увидев переклеенные пластырем очки на пол-лица и дико всклокоченные волосы, он со страхом и омерзением на лице отступил на несколько шагов.
Присмотревшись, я узнала его — это был мой бывший преподаватель анатомии из медучилища, Жан Борисович Горин — милейший человек, мамин сослуживец. Горина я любила, поэтому решила поздороваться по-человечески, все-таки больше года не виделись. Я повесила трубку и вышла из кабинки. Он попятился.
— Пожалуйста, пожалуйста, можете говорить сколько хотите. Я подожду, — скороговоркой пробормотал он, глядя в сторону, и махнул рукой как будто в направлении телефонной будки, а на самом деле отгоняя меня.
— Жан Борисович, здравствуйте. Вы меня не узнаете? — я сняла очки. — Это я, Алиса Бялая.
Он всмотрелся в меня и, кажется, узнал.
— Алиса?! А мама вас видела?! — у него в голове не укладывалось, что мама могла выпустить меня из дому в таком виде.
Громов, которому я перезвонила, был заинтригован, поскольку ему, на основе собственного опыта, могло показаться, что вся история закончится в отделении. Он продиктовал мне телефон Цоя.
— Вероятнее всего, он с тобой и разговаривать не станет, но почему не попытаться? Если же вы с ним договоритесь, то позвони потом мне. Я дам тебе телефоны людей в Питере, которые тебя встретят и объяснят, как до него добраться. Успеха!
СЛАВА ГАГАРИНУ!
С таким напутствием вечером у себя на кухне, предварительно выгнав семью из квартиры, чтобы не отсвечивали и не сбивали с настроения, я набрала питерский номер Цоя.
— Алле, — я услышала характерный, немного хрипловатый голос, знакомый по десяткам записей и концертам. Мое сердце, только что бешено стучавшее в груди от избытка адреналина в крови, внезапно остановилось. Замерло, совсем.
— Здравствуйте. Меня зовут Алиса Бялая. Я получила задание от «20-й комнаты» журнала «Юность» взять у вас интервью. Я знаю, что вы интервью не любите давать и почти всем отказываете, но надеюсь, что для меня вы сделаете исключение, — на одном дыхании, с дикой скоростью протараторила я. Аж у самой голова затрещала.
— Почему? — иронически поинтересовался Цой.
— Почему — что? — не поняла я.
— Почему я для вас сделаю исключение?
— Ну, я думаю, что для нас надо сделать исключение, потому что мы не какие-то совковые папики, для которых все рокеры — хулиганы на одно лицо. Мы молодые, мы — студенты, мы понимаем и ценим ваше творчество. Нам важно узнать, что вы думаете на темы, которые нас всех волнуют. Вот. А это будет номер, целиком посвященный року.
Однажды Джон Леннон разозлил всю Америку, сказав, что «Битлз» больше чем Иисус. Для меня в то время на свете не было никого больше чем Цой. Кто-то дал мне кассету с альбомом «45». Я сидела на кухне ночью и слушала этот альбом. Было часа три-четыре утра, за окном — тишина, какая обычно бывает в это время; и голос из магнитофона под простую акустическую гитару пел о чем-то таком, о чем мы все трепались вечерами.
Мы болтали, курили, пили — когда чай, когда пиво; ходили гулять, встречались и расставались, нам было весело, а иногда одиноко — мы жили. А Цой из всего этого сделал песни.
- Дождь идет с утра, будет, был и есть.
- И карман мой пуст, на часах — шесть.
- И огня нет, и курить нет.
- И в окне знакомом не горит свет…
- Время есть, а денег нет,
- И в гости некуда пойти.
После того как я повесила трубку, некоторое время сидела у себя на кухне, пытаясь переварить происходящее. Он согласился на интервью. Мы договорились о дне и часе. Он дал мне свой адрес.
Я металась по квартире, танцуя и выкрикивая бессмысленные слова. О, я чувствовала себя завоевательницей мира, для которой нет ничего невозможного! Мой взгляд упал на отрывной календарь, который бабушка всегда вешала над кухонным столом. Было 12 апреля, и надпись на календарном листке гласила — «День космонавтики. 12 апреля 1961 г. — этот день навсегда вошел в историю человечества. Весенним утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический корабль «ВОСТОК» с первым космонавтом Земли — гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на борту».
Такое событие нельзя было пропустить. Я подбежала к окну и, высунувшись чуть не до пояса, заорала:
— Слава Юрию Гагарину — первому человеку в космосе! Ура, товарищи!!! Ура!!!
Я еще орала «Ура» окончательно сорванным голосом, пока домой не вернулась мама и не оттащила меня от окна.
— Не представляю, как никто перевозку не вызвал до сих пор. Твои вопли слышны до Разгуляя.
Я всегда любила кричать из окон. Мы жили на улице, которая по прямой выходила на Красную площадь, поэтому из года в год в дни парадов и организованных народных шествий 7 ноября и 1 мая под нашими окнами проходили колонны демонстрантов. Их шествие начиналось с утра пораньше. На нашей Старой Басманной первые колонны оказывались иногда в шесть утра, а значит, собирали их на предприятиях вообще часов в пять и раньше. Колонну каждого крупного завода сопровождал духовой оркестр, и когда-то давно они даже играли марши для поддержания боевого духа. Но с каждым годом энтузиазма у демонстрантов становилось все меньше, и мне было жалко их, невыспавшихся и злых, когда они понуро проходили под моими окнами, волоча транспаранты и портреты членов Политбюро. И как-то раз, чтобы хоть немного их подбодрить, я высунулась из окна и заорала голосом Левитана-Кириллова:
— Да здравствует 65-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции! Слава КПСС! Ура!!!
Поначалу они довольно настороженно отнеслись к моим крикам — просто задирали головы и пытались понять, откуда идет голос, но я не сдавалась и продолжала выкрикивать приветствия:
— Слава рабочему классу! Ура героям труда! Да здравствует рабочий коллектив Московского завода химического оборудования! — у них у всех были транспаранты с названиями их заводов.
Постепенно они как-то ожили там внизу, кто-то даже прокричал ответное «ура». На кухню вышла разбуженная моими воплями мама.
— Прекрати немедленно. Там же полно милиции, тебя сейчас заберут.
— Почему это? Я ведь кричу «Слава КПСС», а не «Политбюро на мыло». У нас, между прочим, народный праздник, а я — народ, и радуюсь. За что меня забирать?
— Я говорю тебе, не сходи с ума!
— Слава Герою Советского Союза, Герою Социалистического труда, председателю Политбюро Коммунистической партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу! Ура!!! — опять заорала я в окно.
Мама согнулась от смеха, а снизу донеслось громовое «Ура». Теперь те, кто шел сзади, понятия не имели, что происходит, но, услышав крики и приветствия, подумали, что идет репетиция самого прохода по Красной площади, и начали уже самостоятельно выкрикивать лозунги и растягивать транспаранты. Музыканты расчехлили инструменты, и вдарил духовой оркестр.
— Они что, совсем ополоумели в семь утра? — возмутилась вышедшая на кухню бабушка.
С тех пор я орала приветствия на каждый праздник, и демонстранты так ко мне привыкли, что, если меня ломало вставать и вылезать на холод в ночной рубашке, они сами начинали дуть в трубы и бить в тарелки прямо под нашими окнами.
— Твои тебя вызывают! — кричала мне мама из своей спальни.
Делать нечего, приходилось лезть в окно.
— Да здравствует пролетарская революция! Ура, товарищи, ура!!!
МАЛЬЧИК ИЗ ПОДВОРОТНИ
Мне позарез был нужен диктофон. Ни у кого не было, даже у чувака из «Юности», которому я звонила отчитаться, что договорилась об интервью.
Потом я позвонила Громову.
— Приедешь в Питер — позвони вот по этому Номеру. Это наш человек, работает в ленинградском рок-клубе. Она даст тебе вписку. Скажи ей, что ты от меня и что будешь брать интервью у Цоя. Ее зовут Женя Розенталь. И вот тебе еще телефон Андрея Бурляева, он — редактор питерского рок-журнала.
Но диктофона у него не было.
— А ты — по старинке, с блокнотом и ручкой. Лучшего пока не придумали, поверь опыту старого журналиста.
— О'кей, придется, если не смогу ничего найти.
Но я понимала, что во время интервью скорее всего буду в таком трансе, что не смогу ничего толком записать, поэтому решила продолжить поиски. Размышляя, кому бы еще позвонить, я вспомнила про Костю Смирнова.
С Костей мы познакомились на концерте группы «Алиса». Я стояла у самой сцены, народ давил на меня со всех сторон. Они все напирали и напирали, так что скоро мне стало трудно дышать. Концерт задерживали, все ждали «Алису», напряжение в зале росло, кислорода становилось все меньше. Наконец Кинчев вылетел на сцену и как заорет: «Ко мне!»
Ну, народ и ломанулся вперед, к нему. Как меня там не раздавили насмерть, не знаю, но сознание я потеряла. Очнулась на полу, далеко от сцены. Там, впереди, шла рубка, но здесь, рядом с выходом, было пусто и кислородно. Надо мной склонился красивый парень в совершенно разорванной майке.
— Эй, ты как? У тебя ничего не сломано? — неожиданно густым басом спросил он.
Я села, подвигала туда-сюда руками, ногами и головой.
— Кажется, нет. А что случилось-то?
— А пипл так рванул вперед, когда «Алису» увидел, что тебя буквально распяли у сцены.
— Я упала, что ли?
— Нет, места, чтоб упасть, там не было. Я рядом стоял, пытался бороться, — меня тоже прижимали к сцене. Увидел тебя без сознания, я на тебя давно смотрел, а ты меня не замечала.
— Извини.
— Ага, знаешь, это странно. У меня рост метр девяносто два — меня обычно замечают… Ну, так я тебя схватил и вытащил из толпы. Они все в одну сторону, а я с тобой — им навстречу. Смотри, всю майку порвали.
— Спасибо тебе, ты мне жизнь спас.
— Ну, спас жизнь… Так, предотвратил синяки и ушибы. Но вообще конечно. Я горжусь собой. А ты что, одна здесь?
— Да нет, с подругой. Но мы потерялись. Надо бы ее найти.
— Ладно, ты отдышалась? Как чувствуешь себя?
— Нормально.
Мы взялись за руки и бросились в людскую гущу, хотя к сцене больше не пытались пробиться.
— Тебя как зовут? — обняв меня за плечи, спросил он.
— Ты будешь смеяться и не поверишь, но это чистая правда. Меня зовут Алиса. А тебя?
— Ты тоже будешь смеяться. Меня зовут Костя.
А на сцене Костя Кинчев и «Алиса» затянули «Все это рок-н-ролл». Мы оба решили, что это — судьба.
— Ой, ты меня напугал. Не надо так больше делать, — сказала я, когда Костя вдруг вырисовался у меня перед глазами из московского зимнего сумрака. Он был вроде не такой, как обычно, казался старше и больше. Через пару секунд до меня дошло, в чем дело, — Костя был одет в костюм с галстуком и допотопное двубортное пальто а-ля Политбюро, что в сочетании с красными от холода щеками делало его похожим на комсомольского лидера.
— Я сейчас переоденусь. Одежда у меня в рюкзаке, — скороговоркой произнес он.
— Какая одежда в рюкзаке?! Зачем, в смысле почему?
— Давай зайдем к тебе в подъезд, — Костя достал из своего рюкзака свитер, джинсовую куртку и кроссовки. Снял брюки — под ними оказались его обычные драные обтягивающие джинсы. Свернул пальто и костюм и запихал в рюкзак Я наблюдала за ним с раскрытым ртом.
— Не успел сегодня утром переодеться, опаздывал. Пришлось все брать с собой. Понимаешь, когда из дома выхожу, отец всегда проверяет, как я одет. Я должен быть в костюме, в рубашке, в ботинках, в этом дурацком пальто для старых пердунов. А в подворотне у меня есть мусорный бак, я его утащил в другом районе, так что в него мусор не бросают. Это мой тайник. Я в нем прячу нормальную одежду: вот эти джинсы, куртку, кроссовки; и там переодеваюсь.
— В подворотне прямо? Что, как бы каждый день так? — немного отупев от услышанного, спросила я.
— Ага. Там никто почти не ходит. Так я костюм и туфли оставляю в баке, а сам одеваюсь нормально и еду в институт или на сейшен.
— И что, когда возвращаешься домой, опять переодеваешься, что ли, в костюм?
— Да. А то, если отец узнает, что я в таком виде хожу, перестанет из дома выпускать. Он меня уже запирал на два месяца. Лучше так, чем вообще из дома не выходить.
— Ты меня разыгрываешь, да? Скажи честно!
— Жалко только, что джинсы совсем старые уже и скоро порвутся окончательно, — он поковырял пальцем дыры на штанинах, — и в чем я буду тогда ходить? Это мои единственные джинсы, все остальные отец выбросил, когда нашел. Смешно, да? Все себе сами дырки делают в джинсах, для моды, а у меня по-настоящему протерты, от старости.
— Господи, да кто у тебя отец-то?
— Он — старый партиец. Кандидат в члены Политбюро.
— А-а, а-а… — собственно, это было все, что я сумела сказать. Стало понятно, почему, когда я звонила Косте и трубку брал его отец, он всегда говорил: «Смирнов на проводе».
— И что, теперь ты не будешь со мной общаться? — спросил Костя.
— Ну, скажем так, коммунистов я не люблю. Но ведь сын за отца не отвечает.
Постепенно я познакомилась с Костиными друзьями, все они оказались теми самыми мажорами, о которых пел Шевчук Нельзя сказать, что они были зажравшиеся и самодовольные. Наоборот, некоторые из них были образованны, имели прекрасные манеры, знали иностранные языки, короче, имели настоящую светскость, которой совковым молодым людям отчаянно не хватало. Лоск, наверное, я бы им простила. Но вот то, что они все были антисемитами, простить было сложнее. В результате наши с Костей пути стали расходиться, и теперь мы лишь изредка перезванивались.
Но диктофон у него точно должен был быть. Не у самого, так у кого-то из его друзей. Я набрала Костин номер.
— Найдем тебе диктофон. Самый лучший. Только одно условие — ты потом придешь ко мне, и мы все вместе послушаем интервью. Идет?
КАК Я НАЧАЛА ПИСАТЬ
Когда началась моя журналистская деятельность, мне пришлось преодолеть один свой довольно неприятный для выбранной специальности недостаток — я не умела писать. Писать я не умела никогда. Не просто не умела, а ненавидела и ужасно страдала, когда меня заставляли это делать. А заставляли часто: наша учительница русского языка была просто фанаткой сочинений. Мы писали обо всех репродукциях, которые были в учебнике по литературе. Я их до сих пор помню, эти ненавистные картины классиков советского реализма: Яблонская с ее «Утром», Решетников, «Опять двойка», «На новую квартиру» Лактионова.