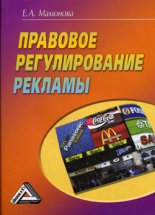Любовь и голуби (сборник) Гуркин Владимир

РИМАС. Не буду.
ИВАН. Ну тогда качайся. Нас же мотает… Туда-сюда, туда-сюда.
РИМАС. Ты уже делай что-нибудь, показывай… Ерундой занимаешься.
ИВАН. Хо, ерундой! К борьбе за жизнь свою готовлюсь.
РИМАС. Долго готовишься.
ИВАН. Это правда.
Входят Александра, Анна, Женя. Иван, подтянув ноги, выбрасывает их вперед.
Ну, на!
Римас с грохотом летит на пол. Иван тут же бросается на него… Схватив зубами за отворот у самого горла, с визгом и ревом рвет рубаху. Шум, крики. Женщины пытаются растащить мужиков.
АЛЕКСАНДРА. Иван! Что ты?! Иван!
ЖЕНЯ. Дядя Римас! Вставай!
АННА. Тащите его! Загрызет! Ваня! Отпусти!
ЖЕНЯ. Дядь Ваня! Миленький!
АЛЕКСАНДРА. Римас! Иван!
Растаскивают мужиков в стороны. Помогают подняться.
АННА. О-о! Всю рубаху порвал!
АЛЕКСАНДРА. Вы что! А ты чего связанный?! Да я ж вас!.. Ах, вы!
Развязывает Ивана.
ЖЕНЯ. Дядь Римас, отойдите! Пожалуйста…
АННА. Чуть не загрыз.
АЛЕКСАНДРА. Ванька! Ну, попили кровушки… Ты почему связа… Ты почему такой?! (Трясет веревкой.) Римас! Зачем ты его?!
ЖЕНЯ. Сидите, дядь Римас. Подождите!
ИВАН. Саня, все. Саня… Римас, скажи!
РИМАС. Дурак ты, Иван.
ИВАН. Я ему велел, Саня. Я попросил… Для наглядности.
РИМАС. Представление устроил… Да не пугайтесь же вы! Женя, все. Саша… Иван, скажи!
ИВАН. Все хорошо! Шутили мы! Вы какие-то…
АЛЕКСАНДРА. Какие мы? Друг на друга не кидаемся!
АННА. Не грызем, но…
ИВАН. Я ж за рубаху, я ж не за горло! Вы че такие… доверчивые? Я показать хотел… Показать!
ЖЕНЯ. Кого показывать-то, дядь Вань?! Зверей, что ли, каких?
РИМАС. Как он из плена бежал!.. Как немца за горло… Как за горло… Немца он убил. Я попросил показать как…
ИВАН. Но! А вы сразу… Черте че…
Небольшая пауза.
ЖЕНЯ. За горло? Дядь Ваня… Господи!
АЛЕКСАНДРА. Ты что, в плену был?
ИВАН. Немножко… Да.
АЛЕКСАНДРА. Гляжу, седой весь…
ИВАН. Эй, Римас? Рубаху порвал? Сань, зашей Римасу рубаху.
Пауза.
Александра берет табурет, ставит его в центре комнаты.
АЛЕКСАНДРА (Ивану). Ну-ка, сядь. Иван Дементич, сядь-сядь. Тут все свои, самы родные люди… Сел?
ИВАН (почуяв неладное). Сел…
АЛЕКСАНДРА. Теперь знаешь что?
ИВАН. Что?
АЛЕКСАНДРА. Расскажи где был, че видел, че делал все это время, все годы…
Пауза.
РИМАС. Саша, Иван партизанил, воевал, до самого Берлина…
АЛЕКСАНДРА (перебивая). Римас Альбертыч, подожди! Ты тоже тут с бандюками да с ворьем не в карты играл. Каждый раз не знали: убитого тебя ждать или живого. Хорошо. Хрен с ней, с войной… Там всяко могло быть, зачеркиваю ее, хрен с ней. Вот после войны, вот как на духу, можешь? Врать, петлять начнешь – сразу почувствую. Или… Будешь врать, ври так, чтоб все поверили: и Анна, и Женя, и я… Чтоб глаза от удивления на лоб повылезли у нас. Можешь так? Если нет, лучше сразу чемодан в руки, перо в задницу и лети… Жили без тебя? Выжили? И дальше будем жить. Че молчишь? Говори. Может, ты у нас герой какой-нибудь несусветный, а я на тебя бочку качу. Может, мне на полу тут перед тобой распластаться, прощения просить, а я… Вот давай, слушаем вас, Иван Дементич.
Пауза.
ИВАН. Ну… Был в плену, сбежал. Партизан нашел. Партизанил… Потом, когда отряд разросся – года через полтора – радистку нам… прислали.
АЛЕКСАНДРА. Слава те, господи. Посылкой, что ли?
ИВАН. Зачем? Самолетом. И я с ней… Всю войну с ней, и в Германии… Гхм… Вот так, Саня… Виноват перед тобой. У ней пацанка, дочка… с бабкой в Угличе. Решили так: война кончится – она к себе в Углич, я – к себе на Урал. А не получилось. Поехал с ней… Бабка умерла, дочка потерялась. Нам сказали, что в детдоме каком-то… по Волге. А в каком – никто не знает. Все ж разгромлено. Ей тринадцать, девчонке-то, в сорок пятом было. Настя звать. Во-от… Два года искали.
АЛЕКСАНДРА. Нашли?
ИВАН. Нашел. В сорок седьмом, когда мать умерла.
АННА. А чего с ней?
ИВАН. Израненная вся. И ног у ней не было. Подорвалась в Берлине. Сразу после победы. На себе ее таскал. (Улыбнувшись.) Почти два года с бабами в бане мылся. Пускали к себе… в женское отделение, чтоб ее помыл, заодно и сам. Че-то мне… такие хорошие люди всю жизнь попадаются! (Едва не заревел, но сдержался, сцепив зубы. Помолчал.) А в сорок седьмом умерла Саня.
ЖЕНЯ. Ой…
ИВАН. Но. Тоже Саня. Схоронил, погоревал какое-то время. Настю подрастил, на ноги поставил… Хотел написать. Все время хотел… А как? В письме разве объяснишь? Все откладывал: вот, завтра напишу… Ладно, вот еще маленько и напишу, поздравлю с чем-нибудь… Потом глянул – мать честная! – три года, как война кончилась, уже четыре… а я все «пишу». Виноват я, Саня. Конечно. Сильно виноват, наверное… Тебе решать. (Пауза.) Ясно. (Встал, прошел к выходу, взял чемодан.) Прости, Шура.
АЛЕКСАНДРА. Тебя кто отпускал? А ну, сядь! Сядь на место.
Иван вернулся.
Пауза.
Александра забрала со стола пустую бутылку и вышла из комнаты. Вернулась с непочатой бутылкой водки.
АЛЕКСАНДРА. Даю вам ночь. Утром приду – кого здесь застану, с тем и буду жить. И че хотите про меня думайте. Вот вам бутылка… (Ставит на стол бутылку.) Разбирайтесь. Будете обижать друг дружку – оба идите к черту. (Женщинам.) Пошли. (Взяла платок.)
Женщины уходят.
Пауза.
Иван подошел к часам и подтянул гирьку у ходиков.
ИВАН. Римас, я тебя не сильно? Не зашиб? Не обижайся.
РИМАС (распечатывает бутылку, наливает водку). Ладно. Ничего.
ИВАН. Гляжу, выпиваешь. Раньше, вроде, не пил.
РИМАС. Редко. Язва была.
ИВАН. Счас нету?
РИМАС. Война вылечила. Не совсем, конечно.
ИВАН. Выпьем?
РИМАС. Конечно. Мне закусывать нельзя.
ИВАН. Не сердись.
Выпили.
РИМАС. Ты там в лесу, с немцами, так же ревел?
ИВАН. Нет. Малость посильней.
РИМАС. Еще сильней? Его Кондратий не хватил?
ИВАН. Был момент. А то счас бы мы с тобой не лялякались.
Римас начинает собирать свои вещи.
ИВАН. Уходишь?
РИМАС. Пойду.
ИВАН. Римас, полюбил Шурку, что ли?
Римас не отвечает.
Она хорошая… Она…
РИМАС. Хватит, Иван.
ИВАН (достал из кармана часы). Петру вез. Возьми. Возьмешь?
РИМАС (взял часы). Спасибо.
ИВАН. Тебе спасибо. За всех. А может… немного посидим?
РИМАС. Немного посидим.
Картина седьмая
Раннее-раннее утро. Косогор. На бревне, среди разбросанной щепы сидит, кутаясь в платок, Александра. Появилась Женя.
ЖЕНЯ. Кока! Всю ночь сидела? Смотрю, постель даже не тронута. (Села рядом.) Так и подумала, что здесь, на нашем месте.
АЛЕКСАНДРА. А отсюда окошки мои хорошо просматриваются.
ЖЕНЯ. Ну че? Еще светятся? Не вижу…
АЛЕКСАНДРА. А не видно – уже солнце забивает.
Короткая пауза.
ЖЕНЯ. Какая все ж таки у нас Чусовая красивая! Сверкает вон.
АЛЕКСАНДРА (всплеснув руками). Как мать сказала! Ну как Соня, в точности! Ой, аж мурашки по затылку. Фу…
ЖЕНЯ. Че ты хочешь: я же дочь.
АЛЕКСАНДРА. Сильно похоже сказала.
ЖЕНЯ. Крестная, а ты бы хотела, чтобы кто остался?
АЛЕКСАНДРА. Не знаю… Кого Бог даст.
ЖЕНЯ. Дядя Римас хороший…
АЛЕКСАНДРА. А Иван плохой? Слышала, как досталось? И плен, и партизанил, и… по стране мотался. Белый весь. Доста-а-алось…
ЖЕНЯ. А дядя Ваня… Вот родной, и все. Родной дядя Ваня, совсем родной.
АЛЕКСАНДРА. Конечно, родной. А Римас чужой? Кого Бог даст…
ЖЕНЯ. Утро уже. Иди, ждет же там кто-то…
АЛЕКСАНДРА. Подождет. Посидим еще, не бросай меня. Поджилки-то трясутся… Как у девки перед свиданкой.
Смеются. Появился Иван. Протиснувшись, сел между Александрой и Женей.
Пауза.
Женя крепко обняла его правую руку и прижалась к плечу. Александра отвернулась, заплакала. Иван повернул ее голову к себе, целует лоб, глаза, щеки.
АЛЕКСАНДРА. Ва… Ва… Ваня мой…
Плачут все трое.
ИВАН. Однако, счас вторую речку организуем, вторую Чусовую наревем. Ох, ек комарок… Ну все. Хорошо. Рыдать дальше запрещается. Все.
Появилась Анна, идет к сидящим.
Петухи, слышьте, поют, а мы че? Саня, давай споем?
АННА. Про казака, Вань! Где доска сломалась.
ИВАН. О! Нюрок! Садись.
АННА (усаживаясь). Про казака.
ЖЕНЯ. (Поет.) Шел казак через речку домой.
Шел домой молодой, холостой.
(Голос у Жени чистый, звонкий, с простором.)
Обломилась доска,
Подвела казака,
Зачерпнул он воды
Са-а-апого-о-ой!
Конец
Москва, 2005
Приложение
Воспоминания о драматурге
Владимир Гуркин: «Я никогда не писал то, что надо»[5]
Беседу ведет Светлана Новикова
Сначала Гуркин был для меня только фамилией в афише театра «Современник» – там двадцать лет шла его замечательная пьеса «Любовь и голуби». Потом я познакомилась с ним на фестивале «Любимовка», и он стал для меня не Владимиром Павловичем, а Володей. Гуркин оказался добрым и деликатным человеком. Он входил в так называемый Ареопаг и вместе с Рощиным, Славкиным, Казанцевым и другими выступал на обсуждениях. Выступал всегда тактично, иногда что-то советовал; если критиковал, то не обидно. И когда Олег Николаевич Ефремов пошел на то, чтобы открыть при МХАТе драматургическую лабораторию, естественно, он доверил это Гуркину.
– Володя, ты – человек Театра. Кем ты только не был: актером, драматургом, руководителем лаборатории, режиссером…
– Ну какой я режиссер?! Поставил несколько спектаклей, и то по необходимости. И лаборатория со смертью Олега Николаевича закрылась. Он умер в 2000-м, а в 2001-м я ушел из театра.
– Почему ушел?
– Стал не нужен.
– Начал ты с актерства. Это твоя первая ступенька. Что дала тебе эта профессия?
– Почти все. Я в театр как нож в масло вошел, именно как актер. Трудно найти в театре дело, которого я не знаю.
– Все-все знаешь?
– Ну, шить не умею. А свет поставить – могу. Знаю, как фонари цеплять, как делается ночь, раннее утро и прочее. Когда был студентом и молодым актером, приходилось заниматься всем: и монтировкой, и светом, и звуком. Правильно, что прошел через актерскую профессию и вошел в театр с этого входа.
– Но главное для тебя все же – драматургия?
– Не знаю, что у меня главное. Как сказать, что у человека главное? Но, наверно, толку оказалось больше именно от драматургии. Я хочу сказать – по воздействию на граждан. Потому что мои пьесы шли в сотнях театров.
– А сейчас?
– Сейчас меньше: в десятках. Но и сегодня ставят, просят пьесы, интересуются. Вот из Уфы сообщили: Татарский национальный театр взял к постановке «Саня, Ваня, с ними Римас», будут переводить. В этом смысле драматургия лидирует. Хотя люблю я все театральные профессии, даже просто болтаться по театру люблю.
– Когда последний раз выходил на сцену как актер?
– В середине девяностых. В главной роли собственной пьесы «Плач в пригоршню». И не где-то, а во МХАТе, на большой сцене, в замечательной постановке Димы Брусникина. Я играл главного героя, уже взрослого, когда он в третьей части возвращается домой. После моего ухода и даже еще при мне, в очередь, эту роль играл Борис Щербаков. Очень хорошо играл!
– А последнее время, я слышала, ты работаешь в Черемховском театре?
– Нет, просто это мой родной городишко, я туда к маме езжу. И когда они меня просят что-то поставить – делаю. Последний спектакль там я поставил по рассказам Шукшина, к юбилею Василия Макаровича. Это было неожиданное предложение театра. А Шукшина я люблю, потому и согласился.
– Что за город Черемхово, расскажи.
– Районный центр Иркутской области. Шахтерский город, сейчас там население – пятьдесят тысяч. А было – сто пятьдесят. Город маленький, но оттуда вышло много больших людей. Там родились Вампилов, Михаил Варфоломеев. В Черемховском районе работал следователем Павел Нилин. Оттуда и пошла его «Жестокость». Вообще, край любопытный.
– Как ты делал инсценировку по Шукшину?
– Я долго искал связку для рассказов и, кажется, нашел – спектакль, судя по всему, получился. Называется он «Добрые и злые». Ход был такой: в сельском клубе самодеятельный народный театр дает спектакль, и вдруг гаснет свет. Что делать? А в таких клубах народ привычный, не расходится, ждет хоть час, хоть два. И вот, пока зрители сидят в темноте, режиссер, помреж, осветитель переговариваются между собой и с актерами, актеры повторяют текст. Так происходит действие моего спектакля. Потом зажигается свет, помреж объявляет: «Сейчас начнется спектакль». На этом мой спектакль кончается.
– Тебе много приходилось делать инсценировок?
– Нет, не очень. И это были не совсем инсценировки. Однажды «Современник» на фестивале показал мою инсценировку «Риск» по роману Олега Куваева «Территория». Это была моя первая работа по чужому материалу, но ее признали самостоятельной пьесой по мотивам романа, даже комиссия по этому поводу заседала. Куваев пытался и сам инсценировать – не получилось. А моя версия была отмечена как оригинальная пьеса. «Современник» разделил премию с «Фабричной девчонкой» Володина в Театре Моссовета. Делал я инсценировку для кино – по булгаковским «Мертвым душам», вышел сценарий двухсерийного фильма.
– Фильм получился?
– Нет. Даже не сняли. По финансовым причинам, как раз начался жуткий период.
– Умение написать инсценировку – очень полезное. Коляда своих студентов этому специально учит. Из своего опыта скажи: как надо работать над инсценировкой?
– Как ни странно, здесь много интима. Да, в нашем деле душеньку приходится раздевать. Для меня драматургия – уютное убежище.
– От жизни?
– От нехорошего в жизни. Потому что от жизни не спрячешься. Затем, это организация собственного Рая. Это налаживание контакта общения, взаимодействия с теми людьми, явлениями, которые тебе нравятся. Для меня важно не разрезать жизнь, как лягушку, чтобы увидеть, что у нее внутри, а если и препарировать, то духовными категориями. Мне найти нечто красивое – в смысле красоты Достоевского, а не красивости. Я ведь хочу быть хорошим человеком? Хочу.
– Хороший человек – это что такое?
– Есть два типа хороших. Один живет по правилу: сделай комфорт окружающим, тогда тебе будет хорошо. Второй тип: сделай себе хорошо, тогда и людям вокруг будет хорошо.
– Обе позиции достойные.
– Нет, вторая не по мне, это не моя позиция. В ней есть искушение: пока сделаешь себе хорошо, потом будет жаль с другими делиться. Есть такой подход: дай голодному не рыбу, а удочку. Я не согласен: сначала накорми человека, а потом дай удочку. А то у него, может, сил не хватит поймать.
– Ты педагог по натуре?
– Нет. У меня нет прямых учеников, но есть люди, которые считают меня учителем. Я себя ничьим учителем не считаю. Для меня Шекспир учитель, но он же себя моим учителем не считает.
– Как же так – вел семинары, лабораторию, а учеников не нажил?
– Я занимался этим, чтобы помогать ребятам войти в профессию, увидеть других. Чтобы у них обзор был шире. Но не только для них, я еще и для себя это делал – чтобы озона драматургического вдохнуть, что-то понять. Я ведь тоже новое узнавал.
– Значит, эта твоя деятельность в прошлом. А сейчас чем занимаешься? В театрах бываешь?
– По правде говоря, мне надоело в театры ходить. Я знаю, что принципиально нового в театре не увижу. Жаль стало времени. Хотя ты вот спросила, что я делаю? А я лентяйничаю, бездельничаю. Но такое блаженство в моей обломовщине! Сижу на диване, смотрю в окно. Жду, когда придет вдохновение и силы, чтобы себе самому сформулировать. Тогда уже выльется на бумагу.
– Я недавно посмотрела в Театре Ермоловой замечательный спектакль по твоей пьесе «Саня, Ваня…». Только у них название другое: «Не для меня».
– А ее многие ставят, и под разными названиями. Я сам поставил в Черемхове, назвал «Веселая вода печали». Это история моих дедов и бабок. Я, когда писал, даже не думал, что она так хорошо пойдет. Пьеса опубликована в «Современной драматургии» в 2005-м, и только спустя два-три года начала раскручиваться. Я видел по ней два спектакля, и оба замечательные: в новосибирском «Глобусе» поставила Марина Брусникина, в Театре Ермоловой – Вадим Данцигер. Знаю, что поставлена в Перми. Сейчас в Коми-Пермяцком театре идет, и так удачно, мне звонили разные люди.
– Я видела только московский спектакль Вадима Данцигера, и он меня по-настоящему тронул. Жаль, что он идет тихо, о нем мало написано, хотя зал был полон и зритель принимал очень хорошо. Такая простая и мощная история семьи, рода, глубоких отношений. Ты, Володя, мастерски пишешь любовные сцены, я это по всем твоим пьесам чувствую. Так написать супружескую постельную сцену, как ты, больше никто не может! Но у тебя в пьесе она начинается за кулисами, зрителю слышны только голоса, а Вадим вынес все действие на сцену. А если учесть малый зал – то прямо перед зрителем.
– Вадик мог бы «шлепнуться», но его спасло чувство юмора. Без юмора была бы пошлость. Чтобы написать любовную сцену, нужно иметь свое представление о любви, а не «в общих чертах».
– Ты как-то умеешь говорить о любви глубинной, годами проверенной. А сейчас в моде короткие отношения, секс, эротика. Для тебя любовь – чувство святое?
– Безусловно! Если метафорически, то подлинная Любовь такова, что можно зачать на расстоянии. Как Дева Мария. Если перевести на язык нашего жития, человек может испытать многое на расстоянии, не дотрагиваясь – только глядя в глаза. Помнишь встречу Штирлица с женой, когда они просто смотрят друг на друга и молчат? Хорошая любовная сцена.
– Володя, ты в Москве с 84-го года. А остался автором провинции. Пишешь только про провинцию. Почему?
– Я долго не мог разобраться в столичных правилах игры, жил с иллюзиями. Первым моим местом в Москве стал театр «Современник», там шла моя пьеса, туда меня взяли работать. Я был влюблен в творческих людей, в этот театр. Мне казалось, что и меня привечают, я принимал это за абсолют, верил. Я же вырос среди простых, искренних людей, которые что думают, то и тебе в лицо скажут. Не понимал, что здесь – это лишь форма поведения. Я видел, как некоторые меняли отношение ко мне, и не понимал, что это связано с положением на социальной лестнице. То от тебя отвернулись, то расточают ласки, заботы. Но это – в природе человеческой, не стоит на это очень сердиться.
– Со временем ты привык к столичным манерам?
– Во всяком случае, закалился. Перестало быть неожиданностью, когда бьют по голове и по душе. Мне достаточно той «кухни», которая у меня существует и помогает переварить, защищает, не позволяет разорваться душе.
– Какое время было у тебя самым тяжелым?
– Первый год в армии. Я в ПВО служил – противовоздушная оборона. Это был 1971 год. Самое тяжелое время и, как ни странно, самое ценное по опыту. По отношению к жизни, к боли. Оно много мне дало, и даже до сих пор иной раз, когда возникают трудности, я говорю себе: разве это трудности? Вон с чем справился тогда! Так что все во благо, и я понимаю: должен Жизни больше, чем она мне. И это не кокетство.
– Да ты счастливый человек!
– Да, можно сказать – счастливый. Хотя, ты же понимаешь, всякое бывает: и внутренние противоречия, и вообще. Я вот часто слышу: если не полюбишь себя, то никого не полюбишь. Категорически не согласен! Сейчас многие себя ох как любят! А я так думаю: ты не зря на земле, и надо требовать с себя. Когда Господь говорил: «Возлюби ближнего, как самого себя», он имел в виду наше несовершенство – что надо любить ближнего не меньше, чем себя, грешного.
– Вот скажи, Володя, тебя когда-нибудь волнует вопрос: нужен ли я человечеству?
– Еще как! Но я тебе так скажу: ты забудь на время о столицах, представь всю страну. Вот мое родное Черемхово – символ районной России. Цены на продукты, как в Москве, а зарплаты – по четыре тысячи рублей. Живут, в основном, своими огородами. Помнишь 98-й год, дефолт? Тогда простой народ что острее всего переживал? Что пропали «гробовые» сбережения. Похоронные. Люди испугались не того, что нечего будет есть, а что не на что себя похоронить! А уж без наших сценариев народ проживет, это не хлеб.
– Но мы знаем: даже во время войны театры играли! В них ходили. Голодные, холодные – но ходили.
– Конечно, не хлебом единым. Люди выживали во имя идеи, идея заставляла жить. Человек этим держится. Мне нравится, как сказал Антоний Сурожский: «Нет идеала? А чем Иисус не идеал? Бог – высший идеал. С ним и живи, зачем другой?».
– Расскажи про Антония Сурожского. Кто он?
– Митрополит Антоний – православный священник, философ. Сын российского дипломата, родился перед началом Первой мировой, всю жизнь прожил за границей, но родиной считал Россию. Да его многие знают, он был очень известный человек, вел программу на Русской службе Би-би-си.
– Сейчас многие драматурги работают на заказ. А ты?
– Нет, я не могу на заказ. Я вообще никогда не писал то, что надо. Когда писал «Плач в пригоршню», мне говорили: «Брось! Никто не поставит роман для театра». Не послушался. А потом его МХАТ поставил, и теперь студенты учат. Я пишу для себя. Мне лично дорого, когда художник обнаруживает то, что ты, живя рядом, не замечаешь. Художник тебе покажет – и ты удивишься: как это я сам тут всю жизнь ходил и не замечал, как синь воды небо моет? Или вот я увидел: упала на улице немолодая женщина, и тут же двое парней кинулись ее поднимать. Чужие, просто мимо проходили, а бросились, как к родной – меня это пронзило.
– Почему у тебя нет героев-интеллигентов?
– Были. Я начал с пьесы «Зажигаю днем свечу» (это строка из песни прекрасного барда Евгения Бачурина). Спектакль назывался «Андрюша. Его история в трех частях». Поставили его в Омской драме. Сыграли 13 раз, потом сняли: обком партии запретил. Первый вариант спектакля сделал Владимир Симоновский. Заставили переделать. Но и переделанный власти сняли. Это была пьеса городская, о журналисте. По форме чего там только не было: и авангард, и сюр.
– После «Саня, Ваня, с ними Римас» новых пьес не было?
– Нет. Я занимался ее переделкой в сценарий. Фильм уже снят, называется «Люди добрые». Он не очень мой, но, я считаю, получился. Фильм камерный. Снял его Алексей Карелин, человек талантливый, но абсолютно городской.
– Но ведь и спектакль по этой пьесе в Театре Ермоловой тоже поставил городской человек Вадим Данцигер. А получилось здорово!