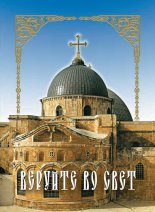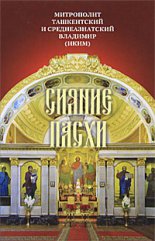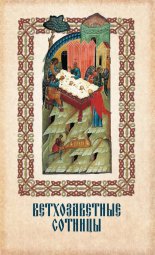Низкие истины. Возвышающий обман (сборник) Кончаловский Андрей

«Красота спасет мир». Кто только и по каким только поводам не цитировал это из Достоевского! Увы, реальность заставляет разувериться в могуществе этого заклинания. Только зажмурив глаза, вычеркнув из памяти Варфоломеевскую ночь, костры инквизиции, дыбы, гильотины, не говоря уж о Хиросиме и Освенциме, можно продолжать повторять эти слова. Красота спасет мир? Полноте… Пока мир спасает страх человека перед самоуничтожением, перед голодом и холодом. Мгновения же красоты, доброты — редкие исключения, которые мы коллекционируем в своей памяти, укрепляя себя в зыбкой надежде на то, что в человека можно все-таки верить.
Черпая вдохновение из собственного бытия, интеллектуально мастурбируя, художник создает отражение реальности — свой «параллельный чувственный мир». Отражение это далеко не зеркально — чем самобытнее художник, тем более выгнуто и искажено зеркало его воображения.
Взаимоотношения художника и зрителя — вечная и больная тема. Как бы художник ни старался убедить себя и других, что творит «как птица небесная», ради самой чистоты самовыражения, где-то глубоко внутри у него всегда теплится надежда, что найдутся люди, которые услышат, проникнутся, поверят. Сколько бы ни клял он толпу, сколько бы ни говорил о том, что творит для себя, для избранных, для будущих поколений, в душе он, конечно же, хочет, чтобы услышали сейчас, немедленно, все. Не припомню случая, чтобы художника поверг в отчаяние сногсшибательный успех. Кроме одного, но о нем позже.
И, что греха таить, художник тоже хочет кушать. От мысли о презренном металле ему никуда не деться. Художник живет в ожидании зрителя, рисует ли он мелками на тротуаре или расписывает своды Сикстинской капеллы. Между Папой римским, оплачивающим труд Микеланджело, и прохожим, кидающим монетку бедолаге, разрисовывающему уличный тротуар, есть нечто общее — это зритель, который платит.
Впрочем, есть особая категория зрителей, которые не только не платят за то, что они зрители, но еще и требуют гонорар за высказывание своей точки зрения, сколь бы относительна ни была ее интеллектуальная ценность. Эта категория живет за счет художника. Это критики.
Разве это не так, уважаемые господа критики? Ведь если бы не было творца, не было бы и вас. Хотите вы или нет, но вы единственные, кто живет за счет художника. В определенном смысле вы паразиты — наберитесь мужества, признайтесь в этом!
Если использовать аналогию художественного творения как результат мастурбации, то критик способен испытать творческую эрекцию только после того, как художник «отстреляется». Он отражает как бы уже отраженный материал, его творческий процесс — это мастурбация по поводу мастурбации. Ему, бедному, надо сидеть и ждать, когда появится объект для его критического осмысления. Ведь критика питается не живой жизнью, а уже отработанным, переработанным ее продуктом. Возможно, логика моих построений шатка и неубедительна, но раз уж начал, попробую довести аналогию до конца.
Художник — любой! — это человек, увидевший нечто в мире, в человеческой душе, постаравшийся осмыслить увиденное, взваливший на себя тяжкий, достойный всяческого уважения воловий труд — понять человека. Вообще, художник мне напоминает не птичку небесную, не ведающую, что поет, а вола, тащащего плуг, распахивающего целину. Вздувшиеся вены, полуприкрытые от усилий веки, взмокшая от пота шкура… А вокруг вьются букашки, жужжат под ухом, норовят подсесть где-нибудь в нежном месте и подпустить жало под кожу. У букашек своя иерархия: тут бойкая мошкара вьется — чтобы отогнать ее, достаточно одного дыхания ноздри. Там — слепни, их можно отогнать хвостом. Но уж если сядет овод — хрен его достанешь!
Где учат критиков в России? Повсюду. У кого-то литературоведческий диплом, у кого-то театроведческий, у кого-то еще какой-то «ведческий», а то и вообще сугубо технический. Бог с ним, в конце концов, не столь уж важно какой. Важнее, чему их учат? Ну, наверное, истории искусств, эстетике, начиная с Аристотеля; надеюсь, и анализ художественной формы они проходили. Но разве о качестве сапога не лучше судить человеку, самому умеющему хорошо его сшить? Кто бы ни судил о моих произведениях, мне интересна его точка зрения, если за ней не стоит желание навязать ее всем на свете.
Но, убежден, никогда и никто не учил наших критиков уважению к личности. В известном смысле это понятно — такова традиция. Кажется, Герцен сказал, что никому в Европе не пришло бы в голову высечь Спинозу или отдать в солдаты Паскаля. В российской истории это заурядные факты. Вспомните трагические судьбы прошедшего через десятилетия солдатчины Шевченко, повесившегося после унижения порки Сороки, объявленного сумасшедшим и посаженного под домашний арест Чаадаева. Только в нашей «пассионарной» стране могли быть написаны слова, принадлежащие перу столпа отечественной критической мысли: «…одного страстно желаю по отношению к нему: чтобы валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога размозжил бы его…физиономию… Пусть заведутся черви в его мозгу и издохнет он в муках — я рад буду» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т.12. С. 109). О ком бы ни были эти слова написаны — о писателе самом бездарном или самом реакционном, не слишком ли непомерен накал эмоций? Не слишком ли велики притязания критика?
Помните «Чайку» Чехова? Я — помню. А помните, что писала о ней критика? Нет? Не странно ли? В определенном смысле художнику везет, ибо, как правило, критические статьи печатаются на газетной бумаге, которую наш предприимчивый народ использует для заворачивания селедки или для иных, гигиенических надобностей, хотя общеизвестна антигигиеничность подобного употребления ввиду вредоносности свинца, из коего льют печатные формы. Но ведь это мы с вами не помним, что писала критика о «Чайке», а Антон Павлович помнил! Поклялся в истерике никогда не писать для театра… Депрессия Рахманинова после критических отзывов о Первой симфонии длилась три года. О живом Врубеле критика вообще писала в прошлом времени. А что писали шведские критики о Бергмане, левые итальянцы о Феллини? Где все эти статьи? Кто их читает?…
В каждом человеке живет творец. В критике тоже живет творец. Он в своем творчестве, так мне кажется, подсознательно хочет создать художника по образу и подобию своему. Но если старания художника создать по образу и подобию своему зрителя тщетны, то старания критиков порой достигают успеха. Сколько художников растеряло крупицы своей самобытности, стараясь быть ими обласканными! Сколько, в отчаянии от разрушительной критики, забыли мерещившуюся им в темноте тайну!
Только алмазная твердость, только прислушивание к своему внутреннему пульсу, только, пусть вынужденное, презрение к навязываемому извне мнению охраняет художника от разрушения. Отсюда надменная улыбка Врубеля: «Ваше отрицание меня дает мне веру в себя». Отсюда признание Бергмана: «У художника иногда возникает желание выйти на сцену, подойти к рампе, выблевать в зрительный зал, а потом убежать за кулисы и повеситься».
Однако всякая Божья тварь имеет свое место в природе, и, стало быть, она нужна. Без мошкары переведется рыба в водоемах, крохотные моллюски оберегают кита, выедая у него из-под кожи личинок… Нужен и критик. Без него художник зарастет штампами, успокоится. К тому же, именно противостоя критике, художник остается самим собой — имеется в виду любая критика, даже хвалебная, может быть, более всего именно хвалебная, ибо очень часто успех толкает художника на подсознательное самоповторение. Словом, ругают — плохо, хвалят — тоже плохо. В Англии, не славящейся хорошей погодой, есть поговорка: «Климат делает характер». На взаимоотношения художника с критиком это вполне можно спроецировать…
В «8 1/2» Феллини вокруг героя-режиссера вьется интеллектуал-критик. Анализирует сценарий, высказывает претензии, пожелания, горячится, советует. Советы умные, послушать их — на пользу… Но у художника одна мечта, как у того самого вола, — взмахнуть хвостом и прихлопнуть. Чтоб не зудел над ухом.
…Три часа ночи. Слышу «голоса». В полусне нащупываю карандаш и записываю: «Надо запретить всяческую художественную критику. За исключением той, которая пишет только про меня и только хвалебно».
РОССИЯ И РЕЛИГИЯ
Эта книга пишется во время, когда в России начинается религиозное возрождение. И само это возрождение, и освобождение религии от гнета идеологии — бесспорно, замечательные факты нашего внутреннего, духовного освобождения. Но одновременно с этим я с тревогой замечаю экзальтацию, русскому характеру вообще очень свойственную, преувеличенно старательное следование внешним сторонам и атрибутам религии. Я говорю сейчас не о том, верить или не верить, ходить или не ходить в церковь, а о том, как поляризовалось сознание людей. Пошло в ход деление на «наш» и «не наш». «Не наш» — тот, кто верит в другого Бога, ходит не в нашу церковь. Мне давно уже грустно наблюдать это, поскольку самому мне стоило больших трудов внутренне для себя хоть в какой-то степени стать терпимым. Двадцать лет назад мне это совсем не было свойственно, не говорю уж про тридцать.
Сегодняшняя экзальтация, деление на православных и инославных становятся настолько ярко выраженными, что, конечно же, я рискую навлечь на себя темное облако подозрений, по меньшей мере — сожалений о моей религиозной неразборчивости. Но тем не менее, мой читатель, не могу не поделиться с тобой сомнениями, мучащими человека, который желает понять, зачем он живет в этом мире. Речь о самом, может быть, интимном — о взаимоотношениях человека и Бога.
С чего начинаются взаимоотношения художника с властью? Прежде всего они определяются культурой страны, где ты вырос, и здесь не последнее место занимает религия. Ведь религия определяет форму взаимоотношений человека и Бога, и если Бог есть власть в последней инстанции, форма твоих взаимоотношений с Богом проецируется на форму взаимоотношений с властью.
Посмотрите на форму отношений между индивидуумом и Богом в разных частях света, в разных религиях — разница очевидна. В буддизме, где Бог разлит везде, отношения с властью во всем о себе напоминают, но при этом не подавляют. В мусульманских и православных странах отношения с Богом исключительно иерархические, как бы по вертикали: Бог наверху, человек внизу. Давайте посмотрим на маленькие детали, казалось бы, малозначительные, вроде бы сами собой разумеющиеся. Обращали ли вы внимание, что в православной церкви общаться с Богом можно только стоя; если вы хотите опуститься, то только на колени — сидеть нельзя. Где еще существует подобное? В мусульманстве. Человек не имеет права позволить себе сесть перед Господом. Хотя в религии о правах не задумываются — ее принимают вместе со всеми ее нормами долженствования.
А в католичестве сидеть перед ликом Бога можно, в нем отношения с Богом либерализованы. Грех можно откупить, получить индульгенцию. В протестантстве, утвердившемся в результате целого периода реформаторства, религиозных войн, революций, либерализация отношений с Богом пошла еще дальше. Человек как бы посадил Бога напротив себя за стол переговоров, отношения с ним стали уже не вертикальными, а горизонтальными. Между человеком и Богом нет никого, человек сам за себя отвечает, сам контролирует собственные поступки.
Только вдумайтесь: какое множество религий и вер существует в мире! Каждый верит в свою истину, в каждой религии есть свои убежденные, свои сомневающие-ся, свои яростные фанаты. И каждому ведомо, что есть истинный Бог. В этом многомиллионном хоре живых и уже ушедших, отдавших жизнь за истину, почитаемую божественной, и мучительно пробивающихся к истине, как понять, кто же из всех ближе к правде? Тщетный и, наверное, вредный вопрос.
В этом сложном, изменчивом мире ты то ощущаешь присутствие Бога, то нет. От чего это зависит? Не знаю. Не решусь ответить. Страшно сказал священник в «Причастии» Бергмана: «Бог молчит. Он мертв». Одно дело — Бога нет, другое — Бог мертв.
Очень хочется иметь идеалы, завидую людям, имеющим ясные идеалы, но главный идеал — это, без сомнения, идеал божественный. А каким может быть божественный идеал, если Бог мертв? Вдобавок идеалы рушатся, теряются.
Набоков сказал о Чехове: «Какой хороший писатель! Но за смехом он потерял идеал». Потеря идеала — вещь прискорбная, но вдумаемся: может быть, и не такая уж трагическая? Ведь потеря идеала может привести к поискам идеала нового.
Очень точно определил один современный писатель Толстого и Достоевского как дон-кихотов русской литературы, а Чехова — как ее Гамлета. У Достоевского и Толстого были в творчестве идеалы, основанные на ясной религиозной основе. Чехов ясной религиозной основы не имел. Недаром он написал, что между утверждением «Бог есть» и утверждением «Бога нет» лежит огромное поле титанической душевной и умственной работы. Легче не мучиться вопросами, просто верить. Даже Толстой не задавал себе вопроса, есть ли Бог. Он ставил вопрос, кто его наместник на земле.
Не скрою, меня часто тревожат сомнения. Целая плеяда великих русских мыслителей, богоискателей — Соловьев, Розанов, Бердяев, Карсавин, Шестов, Франк, Булгаков, Ильин — мучилась над вопросами: есть ли Бог? В чем искать подтверждение его бытия? И нужно ли его искать? Не проще ли просто верить? «Ясность веры чистит душу»?
Может быть, искать подтверждения бытия Бога в каких-то чудесах, в знамениях? Всякое бывает. Бывают удивительные совпадения. Вроде как им не верить? Вот увидел черную кошку, а потом разбил машину. Но сколько раз бывало, что кошку увидел, а ничего затем не случилось…
Религиозное чувство не связано с мыслью. Чувство оно и есть чувство, но страх-то рождается мыслью. А очень многое в религии определяется страхом. Страх Божий. Страх неправильно поступить. Страх понести наказание. Это все ведь проекции нашего сознания.
Так или иначе, но существует своеобразный закон компенсации. Истины, которые ты принял, в которые поверил, определяют твою дальнейшую жизнь. Хочешь не хочешь, но оказывается, что за все в этом мире надо платить. За свободу, за отсутствие свободы, за свободу внешнюю и за свободу внутреннюю. Человек, свободный внешне, должен быть чрезвычайно организован внутренне. Чем более человек организован, то есть внутренне несвободен, тем более свободное общество он создает. Каждый знает пределы отведенной ему свободы, не тяготится ее рамками. Самоограничение каждого — основа свободы всех.
Очень часто приходится слышать о свободе русского человека. Да, русские действительно чрезвычайно свободны внутренне, и не удивительно, что компенсацией этому является отсутствие свободы внешней. Свободное общество они создать не в состоянии (или пока не в состоянии), и именно из-за неумения себя регламентировать. Каждый хочет быть свободен сам — всем стать свободными при этом заведомо нереально.
Святые люди — это, наверное, не те, кто лишен чувственных, плотских страстей, но те, кто способен подавлять их в себе. Потому средние века знали намного больше святых, чем нынешние. Не та ли сила, которая необходима для победы над плотским, животным, и делает человека святым?
Иногда я думаю: можно ли быть святым в сегодняшней Швеции? Чувства людей абсолютно контролируемы, животного в человеке почти не осталось. Может ли свободное общество породить святого? Не верю в это. Истинная религия там, где общество несвободно. Где человек должен давить в себе зверя. Если бы у него этой необходимости не было, если бы он умел контролировать и самоограничивать себя, он давно бы уже это свободное общество создал.
Там, где человек поставлен перед необходимостью задавить в себе зверя, там и дух прорастает в чувстве. Поэтому в Европе истинная религия была до реформации, в средневековье. Сегодня истинная религия в России, в Латинской Америке — где еще не погасли эмоции, где отношения людей чувственны, плоть непокорна, где есть, что подавлять…
Наверное, потому же и искусство в России такое страстное, чувственное, полное возрожденческого накала страстей — в Европе такого эмоционального градуса давно уже нет.
Увы, жизнь — вещь очень несправедливая. По многим поводам возникают знаки вопроса. Да, для меня моя культурная среда, русская среда, осталась основной, единственной: в русской церкви я себя чувствую дома, в отличие от церкви протестантской или католической, от мечети или пагоды. И все же, все же…
Вертикальность отношений человека и Бога, по сути, означает ощущение человеком своей ничтожности, рабского подчинения высшей воле. Чехов видел смысл человеческой жизни в выдавливании по капле из себя раба. Не эта ли абсолютная вертикаль «человек — власть» и есть законченное выражение рабства? Если так, то важнейшим шагом на пути освобождения человека от своего рабства есть преодоление абсолюта вертикали «человек — Бог». Наберемся мужества признать, что русское рабство неотделимо от православия. Так, во всяком случае, я думаю. Так же как и рабство мусульманское — от ислама.
Возьмем наместников Бога. Кто стоит между Богом и человеком? Церковь, правительство. Они есть власть. Недаром в России нынешней государство и церковь сомкнулись в объятиях…
Россия — страна православная, этим определен и характер народа, и история страны. Если бы коммунистическая революция произошла бы, допустим, в Швеции — допустим, заведомо зная, что это невозможно, — там никогда не возникла бы система, сколько-нибудь похожая на советскую. А в мусульманской стране любая социальная революция приведет лишь к диктатуре, к деспотии, к взаимоотношениям вертикальным. В координатах этой религии иное невозможно. Точно так же и в координатах православия. Что же касается атеистов, то и они бывают разные. Как и коммунисты. Сравните, к примеру, коммуниста английского и коммуниста арабского. Много ли у них общего?
С момента своего возникновения христианство претерпевало огромные изменения, стоившие подчас потоков крови. Лютер, Кальвин, гугеноты… Религиозные войны эпохи реформации привели к рождению разновидности христианства, именуемой «протестантизм». С его утверждением в определенных странах и нациях родилось и само понимание этики взаимоотношений индивидуума с Богом. Церковь перестала быть непременным и всеведущим посредником между ними. Индивидуум стал ответственным перед Богом сам. Это значит: читай Библию, соблюдай закон, хорошо работай и Бог тебе воздаст.
Производным этого стало: богатство не порок. Человек, который богат, — работает много. Человек, который небогат, — мало. Ему надо не завидовать богатому, а трудиться. Не правда ли, совершенно иные постулаты христианства, чем те, которые почитались истиной в момент раскола Византии и Рима? Верблюду незачем примеряться к игольному ушку — рай богатому не заказан.
Существует концепция «культурологического детерминизма». Как и все концепции, она, естественно, ограничена, и в былые времена непременно бы сказали, что буржуазна или мелкобуржуазна. Но в любом случае мимо главных ее положений нельзя пройти мимо. А они таковы: культура страны, культура нации и религия как важнейшая часть этой культуры определяют, в конечном счете, уровень ее экономического развития.
Недавно я читал замечательную книгу «Кто процветает?». Автор — Ричард Харрисон, ученый из Латинской Америки — занялся изучением взаимосвязи между культурным и экономическим развитием стран и пришел к любопытным выводам.
Менталитет наций основывается на религии, истории, климате, масштабах страны; у каждой нации своя иерархия приоритетов, сильно не похожая на другую. Скажем, в китайском менталитете, сформированном религией даоизма и буддизма, главные нравственные (они же экономические) приоритеты — дать образование детям и возвратить долги до Нового года. Если ты не отдал долги, ты позоришь своих предков. Почитание загробных душ предков очень развито. Ты не должен оскорблять их ничем, и в частности невозвращенными долгами. Иначе — позор на твою семью! Страшный позор! Как нетрудно припомнить, такая система ценностей, уважение авторитетов далеко не всем нациям свойственны. На одном этом видно, сколь многое определяет религия в экономике. Если бы в России так почитали души умерших!
Религиозные войны, я не открываю тут истин, возникли не случайно. Экономика и политика требовали реформы религии. Отсюда — протестантизм. Он породил то, что психологи называют отчуждением самосознания. Протестантизм дает человеку право самому судить свои поступки — нет надобности бежать в церковь за прощением. Следствие этого — развитая персональная и анонимная ответственность индивидуума перед обществом. Грубо говоря, Бог видит человека всегда, даже когда он в общественном туалете. Потому общественные туалеты чистые. Каждый ощущает свою ответственность, при том что она анонимна — никто не узнает, как он себя там вел. Нам это чувство анонимной ответственности неведомо, поэтому про наши туалеты лучше не вспоминать — у меня даже была мысль сделать об этом документальный фильм.
Отчуждение самосознания повлекло за собой развитие гражданского правосознания. Только анонимная ответственность человека ведет его на демонстрацию, на избирательный участок. Отсюда понятно, почему в одних странах вся нация участвует в контроле за тем, как правительство ведет дела государства, в других — она вполне равнодушна. В одних чуть что — все встают на дыбы, правительство валится: для этого не нужно ни кровопролития, ни братоубийства, достаточно, если обнаружится элементарная нечестность. В других — правительство само по себе, индивид — сам по себе.
Поскольку я не философ, могу позволить себе вольность метафор. Протестантский мир построен исключительно на ясности, отсутствии излишеств. Достаточно посмотреть на характер архитектуры, зайти в церковь, клинику, квартиру — всюду ничего лишнего. В архитектуре — абсолютный минимализм. Сравните протестантскую церковь и католическую. Посмотрите на жилище эстонского крестьянина — у него не просто чисто, у него все лишнее — тряпки, мусор — выбрасывается. Немедленно, сразу, ежедневно. На постоянной основе. Заглянешь к православному крестьянину — у него ничего не выбрасывается. Все лежит, все на всякий случай хранится — коробочки, тряпочки, вилочки, лапти. Запихано куда-нибудь в угол, за печку. Как в России убирают? Если уборка, то непременно генеральная. Раз в полгода. Вот тогда все вышвыривается, выбрасывается. Потом опять копится, копится, копится…
То же самое и в политике: наведение порядка производится не ежедневно, а циклами, с гигантскими интервалами. Сначала, какие бы безобразия ни творились, все сидят на своих местах. Пэтом вдруг, непонятно по какой причине, всех прежних начальников выметают к чертовой бабушке, сажают новых, и все пошло по очередному кругу.
Сегодняшние страны можно поделить на индустриальные и крестьянские. В индустриальных странах, как правило, доминирует или протестантизм, или конфуцианство, как в Японии, хоть эта страна и очень отсталая — с точки зрения демократии. В странах крестьянских сознание не менялось тысячелетиями. Постулаты: моя семья — моя опора, за стеной — все враги, все хотят у меня что-то отнять. Поэтому главное — никому ничего не давать. Партнерства, как такового, быть не может. Дело можно вести только с родственниками.
Харрисон очень интересно пишет о том, что большинство населения современного мира сохраняет крестьянское сознание. Личная ответственность человека перед обществом очень низка. Общество — враг, правительство тем более. ОНИ там, наверху, все решают. Я к этому никакого отношения не имею. Бразилия, Индия, Малайзия, Латинская Америка — всюду крестьянское сознание. Тот же менталитет в России. Если не понимать этого, стараться навязывать людям формы, для них чуждые, они будут гнать граблями и вилами их носителей, так же как гнали крестьяне своих очкастых радетелей-социалистов, пошедших после отмены крепостного права «в народ».
Я люблю Россию. Но что такое любовь к Родине? Я бы сравнил ее с любовью к матери. В разных человеческих возрастах она разная. Спросите у ребенка, за что он любит свою маму. Он не сможет объяснить, В лучшем случае скажет: потому что она лучше всех на свете. Проходит время, наступает пора зрелости, свое понимание жизни, и человек не может не замечать, что какие-то черты и свойства матери его раздражают. Бывает, он взрывается, доходит до скандалов, конфликтов — очень болезненных, поскольку это конфликты между самыми близкими людьми. Но нельзя уже не видеть, нельзя игнорировать недостатков человека, который тебе бесконечно дорог. Мешает ли это тебе любить этого человека? Да нет же. Ты его любишь гораздо более сильной и нежной любовью, чем в детстве.
Очень часто в разговорах о России, особенно сейчас, да и в прежние годы было подобное, у людей, считающих себя истинными патриотами, сквозит детская, незрелая любовь. Они любят Россию, потому что прекраснее ее на свете нет. В ней для них нет ничего плохого — только хорошее. Все недостатки, которые кто-то не может не замечать, объявляются происками вражеской пропаганды или кознями жидомасонов. А если вопрос ставится так, то, значит, уже они в одном лагере, вы — в другом. Думаю, Чаадаев любил Россию гораздо сильнее, чем те, кто безмерно ее восхвалял. Он просто не мог не видеть ее недостатков.
Да, Россия — страна замечательная, прекрасная, у нее великое будущее, до которого мы, к сожалению, не доживем. Не надо тянуть ее в это будущее за волосы.
ЭПОХА САМОЗВАНСТВА
Мы подходим к концу столетия. Нетрудно заметить, сколь важные сдвиги произошли на его протяжении, как отличается начало века от его конца. В начале его человек жил в мире, где были неписаные законы, которые хорошо ли, плохо ли, но соблюдались. Был свод нравственных правил, незыблемые этические нормы, которым, как казалось, человечество и далее будет следовать на пути своего прогресса. И коммунизм, и даже фашизм (два крайних течения, одно ультраправое, другое — ультралевое) преследовали единую цель — создать идеальное общество. Но идеальному на этом свете, увы, места нет. С середины первого тысячелетия и вплоть до начала XX века людям казалось, что существует абсолютная истина. Пусть у каждого, и у каждого политика в частности, свое представление о том, что есть истина и каков идеал, но все жили с высокомерным ощущением, что рецепты в общем-то найдены. Те или эти, но найдены.
Сходились на том, что главное — свобода, демократия, равенство, братство. Кто спорит — вещи замечательные.
Сегодня, под конец века мы приходим к довольно странным выводам. Мы их еще не до конца осознали, мы только еще начинаем понимать относительность того, что еще вчера считали абсолютным. Например, демократия. Святое слово. Особенно для Запада, почитающего ее абсолютным благом. Но кто бы в каком-нибудь застойном брежневском 1982-м поверил, что через десять лет в Грузии абсолютным большинством в 98 процентов голосов будет избран узник ГУЛАГа, диссидент, образованнейший человек, говорящий на пяти языках, сын академика, любимого народом писателя, и первое, что сделает, — начнет при полном восторге избравшей его массы жесточайше преследовать демократию, расправляться со своими идейными противниками, сажать их в тюрьмы, и понадобится военный переворот во главе с бывшим генералом КГБ, чтобы освободить страну от террора бывшего борца за права человека и вернуть ее в русло минимальной человеческой демократии. Если бы тогда я предсказал такое, сочли бы бреднями сумасшедшего. А ведь избрали Гамсахурдия самым демократическим образом.
А сколько еще подобных примеров! Сомали хотя бы, где демократически избранное правительство может привести страну к национальной катастрофе, к геноциду. Могла бы такая перспектива прийти кому-то в голову в начале века или в наши прекраснодушные 60-е?
Хочется поразмыслить над тем, куда приходит наша цивилизация. У меня для тебя, читатель, плохие новости. Но не отчаивайся: плохие новости, в конце концов, хорошие. Потому что лучше иметь плохие новости, соответствующие действительности, чем хорошие, ей не соответствующие.
Куда же мы приходим?
Свойства современной культуры — результат развития современного общества и результат коммерциализации любого процесса. Первым поп-звездам XX века — Чарли Чаплину или Мэри Пикфорд, Шаляпину или Рахманинову не снились ни те гонорары, ни та армия специалистов, которая обслуживает современную звезду шоу-бизнеса. Сегодня популярность не произвол судьбы, а результат большого, кропотливого труда серьезных институтов, многочисленных организаций, специализирующихся на маркетинге. То, что раньше было сугубо профессией актера или спортсмена, теперь в результате колоссальной универсализации и глобализации мира при помощи масс-медиа превратилось в гигантский маркетинговый бизнес. Сегодня футболист, баскетболист, теннисист получает контракт на десятки миллионов долларов в год. Откуда эти деньги? От нас с вами, мы платим их, покупая любой, и самый нужный и самый ненужный, товар. А механизм оплаты идет через маркетинг. То же относится не только к звездам спорта, шоу-бизнеса, но к любой публичной фигуре. Если вы стали товаром, то на этом должны зарабатывать не только вы сами. Ваши деньги должны приносить деньги во много раз большие. Ваш товар (талант, спорт, искусство, политика) важен тому, кто выписывает вам гонорар, не сам по себе, а лишь как реклама другого бизнеса.
Само общественное сознание становится товаром, его можно формировать, а затем продавать. Занимаются этим масс-медиа. Они обрабатывают свою аудиторию, внушают ей те или иные предпочтения, настраивают на выбор того, а не другого товара — коммерческого, политического, нравственно-ценностного. Звучит пессимистично, не правда ли?
Глядя на своем домашнем экране рекламные вставки в дорогой вашему сердцу мыльной опере или, разницы нет, высокохудожественной ленте, просматривая рекламу в газете, которую вам кладут в почтовый ящик, вы думаете, что это вам предлагают товар. Но мы не задумываемся, что рекламодатель не просто так дает деньги телекомпании или газете — он платит ей за ее товар. Какой? За аудиторию, которой она владеет. За нас с вами, наше с вами внимание, наше с вами время, за нашу с вами привычку сидеть у телевизора, читать газету.
Рынок стал глобальным. Чем глобальнее масс-медиа, тем глобальнее рынок, тем глобальнее продажа товара. Недавно прошел аукцион бальных платьев принцессы Дианы. Физически проводился он в Нью-Йорке, но на самом деле — по всему миру, через «Интернет». Из миллиона мультимиллионеров нашелся, как видно, с десяток тысяч супермиллионеров: ну почему бы им для разнообразия не потратить полсотни тысяч долларов на платье? Даже трагическая гибель принцессы Дианы была использована в маркетинге: платье, стоившее 50 тысяч, уже выставлено на продажу за 375 тысяч.
Чем глобальнее рынок, тем больше на нем цена любой публичной фигуры. Тем серьезнее, качественнее она должна упаковываться и продаваться. Тем большее значение обретает ее имидж. Агентства, службы «паблик релейшенз», менеджеры — все это части единой пропагандистской машины, обрабатывающей массу. Сильвестр Сталлоне или Майкл Джексон, Том Круз или Мадонна — у каждого своя стратегия взаимоотношений с массой. Имидж точно выверяется, должно быть учтено все — как звезда одета, причесана, как выглядит на людях, что о ней пишут, что она сама отвечает на вопросы интервьюеров. Реклама, афиши, рецензии, журнальные обложки, скандалы, сенсации — все работает на имидж, внедряет его в ваше сознание. Вы сами не замечаете, как начинаете думать то же, что все.
Когда имидж вами уже усвоен и вам хочется видеть актера «вживую», появляется фильм или шоу. Успех! Вы спешите в кинотеатр или концертный зал, куда уже валом валит зрительская толпа… Но день за днем идет количественное накапливание, и со временем оно переходит в качественное: вы уже устаете от того, что еще вчера вас неудержимо манило. Во избежание «переедания», лишь только интерес публики пошел вниз, артист исчезает из ее поля зрения. Ни афиш, ни фотографий в журналах, ни публичных появлений — его словно бы нет вообще. Любая его фотография защищена авторским правом, ни одно издание не может поместить ее без разрешения артиста или его менеджера. А где-то через полгода после исчезновения артист вновь появляется и вновь к нему всеобщий интерес. Этот товар не должен терять в цене, в него вложены слишком большие деньги, и он должен принести еще большие…
Джордж Сорос в журнале «Атлантик мансли» поделился своими соображениями по поводу глобализации рынка. Человек, которому капитализм позволил заработать огромные миллиарды, рассуждает об… угрозе капитализма. Или, более широко, об опасностях, подстерегающих мир в конце тысячелетия.
Существовали две главные концепции общественного устройства, внутри которых мы жили. Мир был поделен на открытые общества и закрытые. Закрытое общество навязывало человеку свою, идеальную концепцию мироустройства, открытое — давало возможность проявить себя, никак не ограничивая. Противостояние двух концепций, как оказалось, было очень удобно для всех. Внутри страны наши фильмы и награды им на кинофестивалях рассматривались как победы советской идеологии, Запад же видел в них почтового голубя, донесшего весть из тюрьмы. Теперь русское кино исключительность свою потеряло, времена те кончились.
Сорос исходит из того, что ни у кого нет монополии на истину. Мы очень часто ведем себя так, будто имеем ее, точно знаем, как надо и как не надо поступать. Но этой монополии не может быть в принципе, и по очень простой причине. Абсолютная истина закрыта для нас уже в силу того, что мы живем внутри этого мира. Если бы мы жили в другой Галактике, то, может быть, сумели бы познать законы этой, поскольку были бы вне ее. Но мы внутри, и потому наша оценка всегда зависит от того, как мы хотим поступить, от нашей точки зрения, нашей системы приоритетов, сколь бы не отличалась она от других. Христос, Иегова или Будда — каждый в своей культуре почитается как единственный носитель истины, никому не возбранено считать себя доверенным окончательной правоты.
Сужу по себе. Когда мой отец лет шесть назад возмущался происходящим в отечестве, тем, как немыслимо богатеют одни и как стремительно нищают другие, я говорил: «Ну хорошо, папа, пускай богатые воруют. Главное, чтобы они наворовали достаточно, чтобы стать капиталистами». Сегодня мое отношение к этому заметно поменялось. Я тоже грешил верой в абсолютную истину. Рынок казался мне системой саморегулирующейся и самодостаточной. Сорос очень убедительно пишет о том, что нынешний рынок совсем не таков. Думать о саморегуляции, как думалось во времена Адама Смита, когда экономическая теория создавалась, заблуждение. Смит полагал, что тем, кто строит развитое экономическое общество, присущи как само собой разумеющееся этические нормы, иными словами Божий страх. Не убий, не укради. Б общем, будь порядочным. Но чем ближе мы к концу века, тем очевиднее расплывчатость этических норм — попросту тем меньше страха Божьего.
Гершензон еще в начале века очень точно заметил, что человеку достаточно было бы знать лишь одну тысячную божественной истины, чтобы стать святым. Но факт остается фактом: человечество далеко не свято, ибо знать истину и жить по истине — две разные вещи. Сегодняшнее развитие дикого, варварского капитализма в России как раз и связано с тем, что рынок есть, а принципов — нет. Никаких. Нет морали. Никто не живет по истине.
Реклама, маркетинг, упаковка — все это насильственно формирует предпочтения, навязывает их. Потребителю не дают выбирать, ему навязывают.
«Не уверенные в собственных принципах, — пишет Сорос, — люди все в большей степени полагаются на деньги и на успех как критерии ценности. Считается, что лучше то, что дороже. То, что в прошлом было профессиями, становится формами бизнеса. Политиков, отстаивающих идеи, которые препятствуют их избранию, списывают со счетов как любителей-неудачников. Предмет, который когда-то был средством обмена [7], узурпировал место основополагающих ценностей, диаметрально перевернув отношения, постулированные экономической теорией. Культ успеха вытеснил веру в принципы».
Возможность действовать сегодня, исходя из нерыночных ценностей, стала иллюзией. Жить и действовать можно, только полагаясь на ценности рыночные — не этические. «Общество лишилось якоря», — пишет Сорос. И это он говорит об открытом обществе! Парадокс! Социальный дарвинизм, который взяли за норму открытые общества, принцип «выживает сильнейший», может привести планету к драматическому итогу. Разрыв между богатыми и бедными все более увеличивается. И будет увеличиваться, если не принять меры к его сокращению. То есть вмешаться. Все понимают, что это необходимо, но и свободное общество не готово еще включить ограничители человеческого эгоизма. Вмешаться — это граничит с социализмом, а от него бегут, как черт от ладана. Хотя и социализм бывает разным.
Вот и получается, что, уходя от российской формы коммунизма в густые дебри варварского капитализма, надо надеяться на то, что где-то впереди нас ожидают те или иные формы государственного вмешательства, а значит, те или иные производные от социализма. Пишу и сам удивляюсь, что выступаю за это я. Я, мечтавший о том, чтобы советская система рухнула.
Если перенести процесс размывания этических ценностей на кинематограф, то там прослеживается все то же. Что произошло с кино за те 35 лет, что я в профессии?
Мы начинали в эпоху, когда примерами для нас были великие мастера — Куросава, Бергман, Бюнюэль, Феллини, Джон Форд, Орсон Уэллс. Все они великие индивидуальности и индивидуалисты. Пятнадцать лет послевоенного развития кинематографа ознаменовались приходом в искусство кино того, что чуть раньше уже произошло в литературе — чрезвычайного субъективизма в оценке реальности. И, как следствие, героичности поступка. Творение большого режиссера было актом героическим. Мало кого интересовало, есть успех у фильма или нет, собрал или не собрал он кассу. Последними в этой плеяде, думаю, были Годар и Тарковский, хоть как художники они на разных этических полюсах.
Где-то в конце 80-х Феллини и Бондарчук ехали на машине по Риму, Феллини неожиданно остановил у кинотеатра машину, сказал:
— Зайдем на минутку.
Они зашли. В зале было пусто.
— А где же зрители? — спросил Бондарчук.
— Мои зрители все умерли, — сказал Феллини.
Жил он после этого недолго. Ему уже было мучительно трудно набрать хоть какие-то деньги, чтобы снимать.
Медленно, но неумолимо отодвигается в прошлое эпоха героической режиссуры — время, когда сама эта профессия была героической. Режиссер был первооткрывателем. От него ждали откровения. Сегодня в это трудно поверить, но на картины Антониони в Европе стояли очереди. Даже в том же самом Голливуде сегодня невозможно было бы сделать картины, которые делались там в 40-50-е — «Отсюда и в вечность» Циннемана, «Лучшие годы нашей жизни» Уайлера, «Сокровища Сьерра-Мадре» Хьюстона, «Касабланка» Майкла Кертица. Несчастный конец, два главных героя убиты, женщина уезжает. Такая картина в сегодняшнем Голливуде немыслима. Герой непременно должен победить в прямой физической схватке с противником. Невозможно сделать картину без розового оптимистического финала. Почему так случилось? Причин много, но главная — губительная роль масс-медиа.
Телевидение не претендует на то, чтобы быть большим искусством, его зритель не ждет от него этого. Телевидение изменило зрителя, и сам зритель изменился. После войны сразу же повысилась рождаемость. Пережив войну, самое страшное, что, казалось, больше никогда не должно повториться, люди хотели родить ребенка. В 60-е годы в зрительные залы пришло целое поколение новых детей. Тем, кто родился в 46-м, в 66-м было двадцать. Это поколение не знало войны, голода, борьбы, героизма, предательства, не знало сложностей философии. 14-15-летние подростки определили, какое кино надо делать. То, которое они будут смотреть. Сегодня эти подростки уже родители, и новое поколение подростков диктует кино новые законы. Оно уже совсем не такое, как в 60-е годы.
Идет ускорение процесса жизни, а одновременно — иначе не могло бы быть — и ускорение процесса восприятия. Значит, от режиссера требуется ускорение изложения материала. Абстракционизм, Фрэнсис Бейкон, быстрый монтаж, М-ТВ, смазанное изображение в окне летящего самолета или мчащегося поезда — это то, как сегодняшний человек видит мир. Он уже не сидит на берегу озера, долго-долго созерцая пейзаж. Для этого надо иметь время, а чтобы иметь время, надо быть элитой, если не финансовой, то интеллектуальной.
Новый зритель обращает внимание не на фильм как произведение искусства, а на рекламу фильма. На упаковку. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже — наверное, только в этих трех городах можно вычитывать в газете, где сегодня показывают Ренуара, Бергмана или малобюджетную художественную продукцию. 90 процентов картин, идущих на экране, огромны по постановочному масштабу, но не рассказывают ничего нового о человеке — грохочущая реклама этих картин всепроникающа. Именно их и смотрит зритель.
Невольно приходишь к грустным размышлениям. Где теперь те идеалы, которые освещали путь художника еще каких-то 15—20 лет назад? Не получается «привлечь к себе любовь пространства», живя «без самозванства». Пространство глухо. Это понял уже в 30-е годы в Голливуде Эйзенштейн, а потому призывал Штрауха биться, чтобы построить плацдарм для своей гениальности. Мы приходим в век, взыскующий самозванства.
Вспомните звезд 50-60-х. Синатра. Он вообще кажется клерком. А «Битлз»? Они тоже были похожи на клерков — пиджачки, галстучки. Это совсем не мешало им стать звездами. А как выглядят поп-звезды сегодняшние? Один наголо обрит, у другого — пол-лица замазано синей краской. Где только не проколоты дырки и не понавешаны серьги! Нас окружает мир постмодернизма, где самонадеянность и агрессивность — желанные качества, позволяющие что-то сделать. Прежде качество было важней обертки. Сегодня обертка важней качества. Чтобы тебя хоть как-то заметили. Как тут обойтись без самозванства! Как слышать будущего зов! Невольно приходишь к выводу: героическое время кончилось.
Самобытность сама по себе перестала быть необходимостью. Оригинальное сегодня — это то, что продается. То, что не продается, не оригинально. Постмодернизм в своей основе весь заимствован из прошлых лет. Произведения даже больших художников, таких, как Шнитке, состоят из эклектических собраний сделанного до них. Что такое кино Тарантино, при всем несомненном таланте автора? Ничто. Просто замечательный коктейль из всего на свете. Раньше бы это называлось плагиатом, сегодня — заимствованием. Раньше за это могли привлечь к суду, теперь — это норма. Начал это Энди Уорхолл. Искусство все в принципе пришло к самоповторению, к умножению в дробленых зеркалах. Любой художник сегодня кажется состоящим из цитат. Плохо это или хорошо, не знаю. Но это так.
Кувалда рекламы неизмеримо сильнее хрупкого стекла достоинств фильма. Две мои последние картины — «Ближний круг» и «Курочка Ряба» — полностью провалились. Никто их не увидел, хотя, смею надеяться, это не худшее, что было сделано в кино. Товар был, продавца не было. Продавец важней товара.
Когда вы открываете газету и видите на всю полосу рекламу, а на соседней полосе рекламу другого фильма, на третьей — третьего и где-то в самом конце в крошечном маленьком квадратике — «картина Кончаловского», состязание заведомо проиграно, какой бы шедевр вы ни сняли. О ком бы ни шла речь — о Тарковском, Бергмане, Феллини. Какое-то количество зрителей они, конечно, соберут, еще не перевелись киноманы-фанатики, но сделать картине успех они не в состоянии.
Перед художником всегда стоит дилемма. С одной стороны, хочется работать, не останавливаться, но если не останавливаться, особенно в кино, то приходится делать то, что нужно. Ты становишься коммерческим режиссером. Ты выражаешь уже не себя, а желания продюсера. Если же ты хочешь делать свои картины, работать без остановки уже нельзя. Очень немногие режиссеры смогли, оставаясь авторами, избежать перерывов. Феллини мог бы снять гораздо больше: случалось, он не снимал по три, по четыре года. Он так и не сумел найти деньги на свою последнюю картину. Не останавливаться, создавая свое кино, можно только тогда, когда снимаешь на свои деньги. Как это делает, предположим, Вуди Аллен. Но он и делает всегда очень малобюджетные картины. Звезды снимаются у него без всякого гонорара — с Вуди Алленом можно работать бесплатно…
Как незаметно бежит время! Спохватываясь, замечаешь, что уже пришло новое кинематографическое поколение. Что удивляться? Это естественно. Так и должно быть. А я, как ни странно, все еще считаю себя начинающим. Ну, может, уже не совсем начинающим, но все еще подающим надежды. Может, это оттого, что не снял своей лучшей картины? Но все еще подаю надежды — себе, не другим. Очень много сил невостребовано в жизни.
Много сейчас режиссеров, которые не снимают — хорошие, плохие, талантливые, не очень талантливые — все невостребованы. Стать нужным сложнее, чем снять кино. Особенно в той среде, в которой мы оказались, — в как бы капиталистической. Раньше все шло вроде бы само. Нашел сценарий — будешь снимать, нет проблем. Сейчас надо доказать, что ты нужен. Попробуй докажи! Надо уметь делать из себя товар.
В России, хотим мы того или нет, вряд ли можно быть свободным художником. Хочешь быть в порядке — дружи с властями. Не важно какими: монархическими, коммунистическими, демократическими. Дружишь с царем — ты на коне, не дружишь — пеняй на себя. Впрочем, это не только в России — в других странах все то же самое, хоть, может быть, и не так явно. У нас же наметанный глаз мгновенно и без ошибки выделяет прирученных художников. Они, как зубры в Беловежской пуще, протоптали дорожки к специально для них заготовленным кормушкам. Их приглашают в Кремль на праздничные обеды. Посмотришь хронику в телевизоре, фотографии в газетах: кто-то что-то шепчет на ухо Лужкову, кто-то маячит вблизи Ельцина. Даже фамилии называть не надо — они у всех на слуху. Но ничего тут не поделаешь: это Россия. Надо иметь свою руку при начальнике. Да и начальнику лестно иметь при себе художника.
Я перечитал эти написанные всего несколько месяцев назад строки и подивился тому, как быстро устаревают наши прежние представления. Мы все еще не можем вытравить в себе остатки былого интеллигентского подхода: мол, только те хорошие художники, которые с начальством не дружат, а которые дружат — те нехорошие. Это точка зрения очень партийная, хотя тех, кто ее высказывает (и меня, когда я ее придерживался), слово «партий ность» всегда приводило в ужас. Бывают великие художники, которые в чести у начальства (достаточно вспомнить Веласкеса и Тициана или хотя бы Галину Уланову), и бывают жуткие художники, при том что у начальства они не в чести. Партийный признак оппозиции к власть имущим никогда не является мерилом истинности искусства.
А что истинно? Кто может ответить в мире, где ни у кого нет монополии на истину? Итак, готовьтесь: наступает эпоха самозванства. Уже наступила.
СТРАХ БОЖИЙ ИЛИ СТРАХ КЕСАРЕВ?
Одно из капитальных заблуждений, от которого не без труда избавляются сегодня социологи, — это то, что достаточно разрушить плохую систему (не важно, плохую систему капитализма или плохую систему социализма), чтобы жить на земле стало лучше. Разрушили капиталистическую систему, лучше стало или хуже? Разрушили социалистическую — опять же, стало ли лучше? Уж точно, не менее страшно, чем было.
Мы живем в постоянно становящемся мире. Мы следуем выработанным формулировкам, которые проверены нашим прежним опытом. Но формулы все время отстают от меняющегося мира. Подобно глобальной погоде, мир находится в постоянном движении, изменении — формулы не в состоянии с адекватной скоростью адаптироваться к переменам. Поэтому мир в своем развитии всегда впереди наших представлений о нем. Наконец-то до нас это доходит, мы с удивлением открываем для себя эту новость, а она тоже уже не новость. И того мира, который пришел на смену прежнему, знакомому нам, тоже уже нет. Мир по-прежнему в движении, в процессе обретения своей формы, которая тут же меняется, не успев обрести законченность.
Шопенгауэр говорил, что истина приходит к человеку в три стадии. Первая — она высмеивается, вторая — встречает яростное сопротивление, третья — воспринимается как банальность.
Кто-то замечательно сказал про Россию: триумф мечты над практикой. Это очень точное определение российской ментальности. Все время изобретаются объяснения, не имеющие ничего общего с реальностью. Недавно двое моих русских знакомых пытались доказать мне, что во всем виноваты евреи, потому что они все скупили и русские теперь работают на них как рабы. Хорошо, говорю, я. А у кого они скупили? Продавали-то русские, а они скупили.
Опять евреи виноваты! Как легко человек поддается на обезболивающие средства.
Когда умирает эпоха или когда она переворачивается, с какой легкостью творится изничтожение тех, кто был наверху в предыдущей системе, в советской, предположим, как по ним ходят, пинают, клеймят за беспринципность, конформизм, продажность — в нашей стране это делают с особой страстью. Что далеко ходить за примерами! Чего я только не наслышался про своего отца! Что он заслуженный гимнюк Советского Союза и далее в том же стиле. С какой легкостью мы задним числом обвиняем людей!
А если задуматься всерьез: заглядывали ли те, кто выступает сейчас в роли моралистов, в свои собственные души? Ставили ли они себя на место тех, кому выносят нравственный приговор? Как бы вели себя сами в подобной ситуации? Иногда я думаю, что чем жарче и яростнее человек разоблачает пороки другого, чем пламеннее он в своих обвинениях, тем более он сам несет в себе то, что обличает в других. Безжалостность как принцип — свойство людей слабых. Силе всегда свойственно сдерживать себя и прощать. Сознание собственной погрешимости — свойство силы.
Проверь себя, поставь себя на место другого: а как бы ты сам проявил себя в тех самых обстоятельствах? Смог бы быть бескомпромиссным и принципиальным? Да я не очень поверю тем, кто скажет: смог бы. Это легко сказать.
Да, одни имели отчаянность говорить правду в глаза и расплачивались за это. Другие этой отчаянности не имели, хоть от себя самих правды не скрывали. Что, они предатели? Что такое предательство? Можно или нельзя простить предательство? Оппортунизм — свойство человека или животного? Или возможны оба варианта?
Мне доводилось сталкиваться в жизни с людьми, которые меня или близких мне людей предавали. Не могу сказать, что я после этого мог с ними сохранять какие-либо отношения, но почему-то что-то во мне всегда заставляло стараться понять мотивы, почему они так поступили. Самый страшный ужас, который я могу себе представить, самое тяжкое испытание — это необходимость выбора между своей жизнью и жизнью кого-то из близких мне людей.
Я покрываюсь липким потом, когда думаю о подобной необходимости. Пожертвовать собой можно инстинктивно. Смог бы я это сделать сознательно? Где-то у той последней черты, где возникает человек как существо, способное на самопожертвование, там прекращается великий инстинкт самосохранения и начинается чудо. Если не сумасшествие. Часто ли мы заглядываем в те самые бездны своей души и совести? В те темноты, где живет та самая тварь дрожащая. Страшно туда заглянуть! Многие ли из нас окажутся способными на величие духа, когда пистолет приставлен к виску? Повезло, что мне не выпадало проверить это на деле. Узнать, каков я на самом деле. Повезло тому, кто может тешить себя иллюзией о своей моральной цельности.
Легко быть неплохим человеком в нормальных обстоятельствах. А когда все вдруг сдвигается со своих опор? Достаточно посмотреть, что сегодня происходит в России, хотя бы по части отношения к религии. Те, кто вчера клялся в своем атеизме, сейчас в церквах. Отстаивают службы, бьют поклоны. Смотришь на эти лица, думаешь: что они сейчас чувствуют, что испытывают? Я уважаю Горбачева — ни разу не видел его в церкви.
Конечно, не исключено, что кто-то в прежние времена скрывал свои религиозные убеждения и вот теперь-то дожил до возможности следовать им открыто. Но та страсть и старание, с которыми иные из нынешних официальных фигур исполняют религиозные обряды (не зная, не умея толком их исполнять), наводит меня на грустную мысль, что от язычества мы не избавились. Раньше в социалистические праздники заворачивали все дома в красные тряпки, теперь крестом и кадилом святим все подряд — биржи, банки, казино, автомашины. А между прочим, вплотную уже конец тысячелетия. Смеяться над этим не стоит, задуматься — самое время.
XXI век, к которому мы приближаемся, будет отнюдь не лучезарным, как казалось некогда. На самом деле — мы уже живем в XXI веке. Мы не даем себе в этом отчета. А он уже наступил со всеми его замечательными и ужасными семенами, которые были заложены в веке XX. Только теперь они проросли уже совсем другими ростками. Начало нового века видно уже в тех войнах и конфликтах, которые сейчас на планете, — расовых, племенных, религиозных, конфликтах между бедными и богатыми. Югославия, Гаити, Албания, Чечня, Нагорный Карабах, Сомали — тут и там начинающаяся резня требует вмешательства извне. Чаще всего это «голубые каски», реже — дипломатические посредники, но прослеживается некая закономерность. Угроза ядерной войны отпала — мир уже не делится на две противостоящие системы, да и ясно уже, что при накопленном арсенале боеголовок такая война приведет лишь к «ядерной зиме», то есть гибели всей планеты. Не исключено, конечно, что какой-то взбесившийся тиран заимеет ядерную бомбу и взорвет ее, может, даже и над нами с вами, но атомная аннигиляция человечества уже не реальна. Однако отсечение угрозы ядерной привело лишь к расширению войн обычными средствами. Страх ядерного апокалипсиса ушел, и во все тяжкие понеслось производство стрелкового вооружения. Войны обычные развязываются теперь с гораздо большей легкостью. По всему миру там и сям возникают очаги войны, правота доказывается исключительно силой оружия. Тутси режут хуту, мусульмане — христиан, христиане — мусульман, иракцы — курдов… Погасить эти очаги можно тоже только силой оружия: другие методы воздействия безрезультатны, действенно только принуждение.
Взять хотя бы недавно происходившее в Югославии. Пятнадцать лет назад даже нельзя было представить себе, что люди этой страны начнут истреблять друг друга на религиозной основе. Пока был жив Тито, сама возможность подобного пресекалась в корне. Как только он умер и люди обрели чуть больше свободы, немедленно началась резня. Оба менталитета, как христианский, так и мусульманский, отличились исключительной жестокостью в геноциде друг друга. Все попытки решить проблему путем уговоров и переговоров провалились. Пришлось посылать солдат. Аргумент «будете драться — будем стрелять» действие возымел. Десять лет назад послать войска ООН или НАТО в другую страну как международного полицейского было невозможно. Принцип невмешательства почитался незыблемым. Теперь уже мир понимает, что военное вмешательство подчас единственный способ заставить людей поступать по-человечески — остановить войны.
Единственная надежда остановить потоки крови — происходящая сейчас колоссальная технологическая революция. Достижения в области компьютерной техники, точного наведения приводят сегодня к концепции так называемого хирургического военного вмешательства. То есть достаточно наведения ракеты на одно-единственное окно или один-единственный узел, но окно Генерального штаба или узел связи всей армии, и войну можно бескровно пресечь.
Казалось бы, век просвещения все эти конфликты должен был ликвидировать. Информатика распространяется по всему миру. Всем уже ведомо, что «свобода, равенство, братство» золотыми буквами написано на портике всемирного государственного устройства. Так почему бы этим великим принципам немедля не восторжествовать? Не тут-то было.
Я задумываюсь: а что же мы подразумеваем под этими замечательными словами, существует ли истинная свобода, истинное равенство, истинное братство? Если это абсолютная истина, то как она выражается? В чем выражается братство? Равенство? Свобода? Если они существуют в абсолюте, должно быть этому какое-то подтверждение. Где оно? Социологический дарвинизм с культом победы сильнейшего «милости к падшим» никогда не призывает. Те опасности, о которых предупреждает Сорос, опасности развития угрожающего неравенства между богатыми и бедными в глобальной экономической системе, приводят к мысли о том, что в целях сохранения стабильности в той или иной стране, том или ином регионе мира государство или группы государств должны будут брать на себя роль пугала. Будь то армия ООН, будь то полицейские силы, призванные покончить с криминальной обстановкой. От этого государство не станет полицейским государством. Напротив, без полиции, без армии, как выясняется, невозможно хоть какое-то осуществление свободы, равенства, братства, пусть хоть в самом приблизительном их виде.
Но, оказалось, есть проблемы не менее страшные, чем войны.
Мы еще слишком мало знаем о самих себе. Кто мы? Чем руководствуемся в своих поступках? Какие цели ставим перед собой? Ну а если попытаться взглянуть чуть со стороны? Если бы инопланетянин попытался произвести какую-то классификацию человечества, он бы прежде всего, конечно, отделил бы человека от прочих тварей. Это человек, а не крокодил.
Затем инопланетянин разделил бы всех людей по тому, что у них промежду ног. Второй главный признак человека — пол, кто ты: мужчина или женщина? Ученые все больше приходят к тому, что мужской и женский мозг работают по-разному. У мужчины речевая часть находится только в левом полушарии, у женщины — и в левом и в правом. Поэтому в случае инсульта у мужчины речь парализуется чаще, чем у женщины. Поэтому женщины болтают больше. У мужчины где-то в мозгу сохранилась та же железа, которая есть у ящера, реакции мужчины на опасность — это реакции рептилий. У женщины этого нет. Поэтому когда мужчина мстит — он бьет, когда женщина мстит — она сплетничает. Мальчики вступают в драку, девочки садятся в кружок и начинают перемывать косточки. Напоминаю, это выводы не житейские, а научные. С ними полезно было бы ознакомиться феминисткам, пытающимся во всем уравнять мужчин и женщин. А это два совершенно разных вида и видения. Сейчас об этом вышла любопытная книга — «Мужчины — с Марса, женщины — с Венеры».
Третий признак — цвет кожи, деление на расы. Что же дальше?
Некоторые говорят — язык. Вовсе нет. Следующее — система ценностей. Чем отличаются люди одной расы друг от друга? Возьмем, скажем, всех черных. Среди них есть язычники, мусульмане, христиане. Все они будут отличаться друг от друга поведением, потому что поведение определяется системой координат, этикой. То есть, по сути, религией. Есть арабы-христиане, есть негры-иудеи, цвет кожи и язык у них такой же, как у соплеменников, — поведение другое.
Когда мы говорим о дальнейших путях сегодняшней цивилизации, развития человечества, жизни на земле, весь эволюционный процесс входит в третью стадию — на эту тему только что выступил Хокинг, знаменитый физик, автор «Краткой истории времени», человек, который, несмотря на недуг тяжелого паралича, имеет мужество думать не только о себе. Он написал, что ныне человечество входит в третью стадию эволюции жизни на земле. Первая — когда из белкового вещества и аминокислот он превратился в самовоспроизводящее, кормящее себя существо — «гомо сапиенс». Когда он стал мыслить и проецировать прошлое в будущее. Вторая стадия эволюции: когда он стал способен записывать свои познания, воспоминания и предвидения будущего — на камне, на бумаге, в компьютере, то есть стал аккумулировать знания при помощи средств их фиксации и трансляции. Но на двух этих стадиях процесс эволюции биологических видов происходил согласно законам природы, человек был не в состоянии влиять на развитие видов. Сейчас наступает третья стадия живой жизни — самоконструируемая эволюция. Человечество пришло к возможности вмешиваться в генетический код, влиять на развитие и самовоспроизводство видов жизни. Генетика подошла вплотную к тому, чтобы начать производить людей по заданным характеристикам. Скажем, людей, которые будут быстрее бегать или иметь абсолютный слух (уже эти гены найдены — ген абсолютного слуха, ген специальных фибр в мышцах). Сегодня достаточно царапнуть новорожденного младенца, взять крошечку его мышечной ткани, чтобы сказать, что он имеет шансы стать олимпийским чемпионом. Оказывается, у спортсменов-чемпионов другая мышечная клетчатка. Призвание человека заложено на генном уровне.
Иначе говоря, джинн выпущен из бутылки. И, можно не сомневаться, найдутся люди, которые захотят потратить свои деньги, чтобы улучшить самих себя. А будет спрос — появится и предложение. Человек вступает в эру эволюции себя, как такового, по заданному дизайну.
Последствия этого могут оказаться самыми страшными. Можно ли ввести этот процесс в границы этики? Какая должна быть здесь этика? Это абсолютно неизведанные сферы человеческого общества.
Сегодня мы едим уже бананы, помидоры, которые все созданы генетически. Клонированные росточки бананов отсылаются в Африку и Южную Америку, им уже задан набор генных качеств, определяющий вкус, размер, способность противостоять всему, чему только может возникнуть необходимость противостоять. Различие бананов в размерах только оттого, что один росток оказался на горе под солнышком, а другой — под горой в тени, иначе бы они были одинаковы, как из-под штампа.
Оказывается, генетический код человека и дрожжевых бактерий общий на 50 процентов, человека и свиньи — общий на 90 процентов, человека и обезьяны — на 99 с долями процента. Немыслимое количество общего. Печально, но хочется повторить известный вопрос любознательного мальчика: «Мама, а если люди произошли от обезьяны, то почему не все обезьяны согласились стать людьми?»
Вопросы, вопросы… У человека неизбежен соблазн проверить религию наукой и объявить ее постулаты научной истиной. Подобные попытки не раз случались. Рассказывают, что на Украине в недавнее время готовился учебник для школ и институтов — «Основы научного национализма». Слава Богу, у кого-то хватило ума повременить с этим изданием.
Очень много возникает вопросов, на которые так или иначе необходимо искать ответ.
Наверное, одним из важных постулатов новой этики должно стать понимание собственной погрешимости — во всем, избавление от убежденности в исключительности собственной нравственности и собственного знания. Мы должны понять и принять, наконец, что монополия на абсолютную истину никому не дана. Каждый может быть неправ.
Человечество неизбежно будет встречаться с кризисами, грозящими смертельной опасностью, и выходить из них. Оптимизм мой оправдывается тем, что человек — существо мыслящее, способное к адаптации и к выживанию. И если человечество поймет, что оно на грани катастрофы, оно выживет. Как говорил в своей Нобелевской речи Фолкнер: «Человек становится лучше, когда единственной альтернативой морального прогресса является гибель».
Но чтобы выжить, человеку придется решать проблемы. Это значит, что ООН, которая только начинает применять свои вооруженные силы как миротворческие, будет все больше и больше прибегать к помощи этого контингента с дубинками, чтобы не допустить геноцида. Это значит, что богатые нации во избежание геополитического конфликта должны будут наступить на горло собственному эгоизму и включиться в серьезные программы по развитию стран бедных. В противном случае перекос может привести или к повальной эмиграции в богатые страны (как из Алжира во Францию), или к локальным войнам, которые придется усмирять, посылая туда войска. Не проще ли потратить те же деньги на то, чтобы этих людей учить. А учить, как известно, можно разными путями. Можно ставить в угол голыми коленками на горох, можно учить полезным навыкам, умению пользоваться собственными ресурсами, которые у каждой, даже у самой бедной, нации есть. Эфиопия, к примеру, после того как рухнула власть марксистов, медленно-медленно начинает приходить в порядок, использовать современные формы агрокультуры и т. д.
Не теряю надежды и на осознание бездны экологической катастрофы. Уже сейчас мигают красные лампочки — карельский и сибирский леса тают. Их уничтожают со скоростью, не уступающей уничтожению бразильского леса. А это прямиком поведет к глобальной катастрофе. Ибо у планеты осталось только два легких — Амазонка и Сибирь. Не исключено, что, когда истребление лесов достигнет критической точки, потребуется международное решение, каким образом это варварство прекратить. Может быть, мировому сообществу придется пойти на давление, на угрозу изоляции России, если не будет прекращено вырубание леса. В данном вопросе надежда у меня исключительно на воздействие извне, ибо наш русский предприниматель сегодня вполне соответствует описанному мною средневековому типу мышления.
Вопрос стоит о выживании, и не только человека, но всех млекопитающих. Достаточно снизить содержание кислорода в атмосфере менее чем на один процент, как млекопитающие, как таковые, перестанут существовать. Белые кровяные тельца возможны только благодаря избытку кислорода в атмосфере. Упадет содержание кислорода — упадет и содержание белых кровяных телец, перестанет работать иммунитет. У всех млекопитающих — от китов до человека…
Очень важно услышать будущего зов. Не ростки его, а само это будущее, которое уже наступило. Поэтому я говорю о СПИДе, об экологии, о наркотиках — трех страшных бичах, которые угрожают гибелью России. И погубят, если каждый в России не почувствует себя персонально ответственным. Как это сделать — не знаю. Мобуту в Заире собирал на стадионе десять тысяч человек и наугад расстреливал каждого десятого. Те, что уходили живыми, уже знали, что они персонально ответственны. Ощущение своей персональной ответственности — это что, тот же страх Божий? Или страх кесарев?
Страх Божий нужен. Что имел в виду Достоевский, когда говорил: «Широк русский человек! Широк! Надо бы сузить»? Как? Каким способом? Чем менее человек придерживается нравственных категорий, помогающих ограничить самого себя, тем больше нужно внешнее, насильственное его ограничение.
Приходится выбирать между страхом Божьим и страхом кесаревым. Страх кесарев оставляет свободы меньше, страх Божий — свободы больше, потому что человек ограничивает себя сам, руководствуясь нормами этики.
И возможен ли выбор между страхом кесаревым и страхом Божьим? Ибо когда мы говорим о нравственных нормах, нормах, основанных на религии, то есть на страхе Божьем, то, как ни крути, чтобы хоть как-то осуществить их в реальности, нужен страх кесарев.
Боюсь, что человечеству в одиночестве придется искать новый кодекс нравственных истин, и да поможет ему в этом деле Господь!
ПЕЧАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В недавно прочитанной статье о французском художнике-импрессионисте я нашел интересную мысль: он никогда не стал звездой импрессионистской школы, потому что в его жизни было слишком мало борьбы. Большим художником можно стать, только выстрадав на это право, — отрезав себе ухо, сев в тюрьму, сойдя с ума. Не отстрадав положенное, не много шансов стать признанным.
Сейчас я перебираю свои старые записные книжки. Почти в каждой повторяются бергмановские слова о головокружительной свободе, необходимой, чтобы снимать свое кино. И еще постоянно повторяющиеся записи: «Начать говорить правду. Что это? Что ты чувствуешь? Как говорить правду? Пора перешагнуть. Что перешагнуть? Границу».
У каждого художника есть граница, дальше которой идти как бы нельзя.
Желание перешагнуть ее, проверить себя, свои возможности, на их максимуме, на последнем пределе у меня возникло очень давно, но и по сей день ощущаю, что никогда по-настоящему не сделал этого, не снял своей лучшей картины. Б чем вообще заключается творчество? Ну конечно же, это поиск самого себя; я его вел в каждой своей картине, может быть, за исключением «Танго и Кэш» — там поиск, впрочем, тоже был, но, скорее, не художественного, а технического свойства.
Когда приходит какой-то образ, какая-то фраза, какой-то сценарный ход, человеческое движение, приоткрывающее завесу над тайной (потому что, конечно же, тайна — то, что художник делает), и возникает нечто, заставляющее зрителя плакать или смеяться, постигать ранее неведомое в характере и существе человека.
Каждое такое открытие вызывает в художнике непередаваемое ощущение восторга, дрожи, озноба. Я очень четко чувствую физиологически эту дрожь, эти мурашки по коже, встающие дыбом волосы — в этот момент ты творец, с тобой восторг открытия. Ради этих моментов и существует художник.
Такие моменты не раз сопутствуют процессу рождения фильма — когда пишешь сценарий, когда снимаешь и, самое ответственное, когда монтируешь. Соединяешь кусок и кусок, накладываешь шумы, музыку, и только в этот момент становится ясно: вот оно, получилось, что-то такое возникло. Восторг открытия. Ощущение, что переступил в неведомое.
Но этот восторг испытываешь совсем не часто, а с возрастом — все реже и реже. И самое смешное, что люди, которые придут смотреть картину, будут видеть в ней совсем другое. Они придут смотреть не картину, как таковую. Они будут смотреть картину, снятую вот этим человеком, живущим вот в этих обстоятельствах, у которого вот эти родители и вот эти друзья, который в жизни сделал то-то и поступил так-то. Это привносит в восприятие совершенно иное измерение, что особенно ощутимо в кругах профессиональных, в кругах критических. Этим людям кажется, что они тебя знают и потому имеют право сомневаться в твоей искренности. Сомнение зрителей в искренности художника, думаю, самое для него разрушительное.
Во всяком случае, лично для меня было так. Ничто так не подрубает крылья, как неверие в искренность того, что делалось тобой со всей самоотдачей, с желанием высказать самое главное, самое в этот момент тебя волнующее. На это неверие мне много раз в жизни случалось наталкиваться. Но все равно, пока снимаешь, остается желание найти себя, себя выразить, себя постичь — особенно если снимаешь по своему сценарию.
Мы живем в эпоху масс-медиа. Сегодня Шекспир читал бы «Московский комсомолец». Может, даже попользовался какими-то почерпнутыми оттуда сюжетами. И все же, думаю, само это слово «масс-медиа» обрело свой полный смысл не в эпоху газет, даже телевидения, а именно сейчас, в 90-е, в компьютерный век. Владимир Ильич вовремя понял, почему из всех искусств для нас важнейшим является кино. Потому что изображение сильнее слова. Кино было важнейшим до тех пор, пока не появилось телевидение. Оно — тот же самый образ, но еще и доставленный на дом. Не надо никуда ходить. Процесс восприятия образа можно совместить с отправлением естественных потребностей. Напрягаться совершенно не нужно — все входит в тебя через подкорку.
С момента своего появления в человеческом сообществе образ имел сакральный характер. Бизон, нарисованный на стене пещеры великим и безвестным художником первобытных времен, имел четкое функциональное назначение — поймать животное, дать победу над ним охотнику. Скульптура, эллинские изваяния, поганьские идолы — все имели мистический характер, все изображали божества. Сегодня образ донельзя девальвирован, хотя по-прежнему служит той же сакральной цели — сотворению кумира. Только уже по прихоти тех, в чьих руках масс-медиа, кто организует рекламные кампании, кумиром может стать любой.
Какова будет роль масс-медиа в XXI веке, если уже сейчас они начинают занимать трагически большое место?
Мир движется в сторону таблоида, дешевой газеты с обилием фотографий. Они становятся важнее текста. Раньше газеты читали — теперь их разглядывают. Все больше и больше цветных фотографий на полосах. Самые читаемые сегодня газеты — бульварные: много картинок и масса сплетен. Основные новости — на первой и третьей страницах. Остальное реклама, сплетни, местные новости. И фотографии, фотографии, фотографии… Что это означает? Означает, что современный человек схватывает не текстовой материал, а изобразительный. То, что в компьютере называется «икона», образ. Текст становится функциональным. Судить, насколько серьезную роль образ играет в обработке массового сознания, можно по такому примеру. Когда первый раз выбирали в президенты Миттерана, была проведена большая кампания по внедрению его имиджа в массовое сознание. На фотографиях он представал исключительно в фас, снятый чуть снизу, с протянутыми руками. Как отец — к детям. Программа, с которой он шел на выборы, была социалистическая, гуманная, для чего как раз и подходил образ человека в фас, который кажется всеобъемлющим и менее символичным, чем образ человека в профиль. С этой программой и с этим имиджем он победил.
В преддверии следующих выборов Миттеран понял, что социалистическая партия проигрывает, теряет популярность, он стал медленно отходить от социалистических идей и столь же не спеша переходить к надпартийной политике. К началу новой избирательной кампании он давно уже ничего не говорил о социализме, а на фотографиях представал в профиль. Почему? Семантически профиль — это империя. Профиль чеканят на монетах. Это монарх, надпартийный лидер. Все выборы прошли под знаком Миттерана в профиль.
Великие люди истории лишь с достаточно недавнего времени обрели возможность увидеть свой прижизненный образ. Образ создавался на основе слухов, преданий, легенд. Человек сначала должен был обрести ореол славы, стать легендой, а потом уже эту легенду закреплял образ. Сегодня образ покупается. Достаточно заплатить некую сумму и взамен получить желаемый образ. Мы живем в эпоху лжепророков, лжеидолов, лжекумиров. Сегодня великим становится один, завтра — другой, послезавтра — третий. Прикиньте, что нужно было Христу и что — Мадонне (я имею в виду рок-певицу), чтобы стать образами. Христос не был и не мог быть при жизни товаром, Мадонна — товар при жизни. Образ — это товар.
От частого использования образ девальвируется. Сегодняшний кинематографист живет в принципиально иной ситуации, чем кинематографист времен Эйзенштейна. Он добавляет лишь малую толику образов к нашей и без того непомерной перегруженности дешевыми изображениями. Думаю, что последними из кинематографистов, кто имел могущество влияния на мир своими образами, было поколение Тарковского. Мое поколение. Вряд ли возможно возвращение времени, когда кинематографические образы обрели бы столь же высокую цену.
Образ очень приближает человека, из которого он творится, к окружающим. Все идолы всегда настолько знакомы, что к ним тянет обращаться по имени, хотя, быть может, в самой жизни никогда их и не встречал. Они уже родные тебе, ты их столько раз видел! Феномен масс-медиа в нашем веке заключается в том, что они рождают иллюзию близости между тобой и созданным ими кумиром. Отсюда общение с носителем образа приобретает характер панибратства.
На протяжении многих месяцев работы над этими страницами я не раз приходил к выводу, что книга может вызвать у читателя тягостное чувство. Ну и что, успокаивал я себя, почему эти горькие мысли я должен обдумывать в одиночестве? Почему, уж если кто-то заинтересовался моими размышлениями, не разделил бы со мной хотя бы толику моих разочарований и сомнений? Я, конечно, понимаю, что найдутся люди, которые, прочитав эти страницы, скажут: «Ну и дурак! Разоткровенничался! Я бы такого никогда не стал писать». Готов понять и такую реакцию, у каждого человека есть нечто, скрываемое от других. Но все же во мне сохраняется надежда, которая и подвигает меня писать все это. Надежда на то, что кто-то скажет: «А я? Как я чувствую, думаю, отношусь к этим нравственным проблемам?» Что он заглянет в закоулки и бездны своей души. Хотя бы самому себе признается в собственной погрешимости. В принципе нельзя рассчитывать на то, что любые откровения сейчас могут изменить что-нибудь в мире или в человеческой природе. Придется любить человека таким, каков он есть, со всеми его экскрементами.
Хотя, готов признаться, трудно это — любить человека такого, каков он есть. И мне как автору совсем не просто убедить себя полюбить читателя, вполне равнодушного к тому, что я хочу поделиться с ним чем-то важным, сокровенным, дорогим для себя. Гоголь был очень расстроен успехом «Ревизора», просто впал в депрессию от оваций и восторгов. Ему-то хотелось, чтобы зритель уходил потрясенный, раздавленный, увидевший себя в героях пьесы, размышляющий, ужаснувшийся: «Неужели это я?» Ничего похожего! Все кричали: «Ура!» Радовались: «Эк, придумал! Эк, загнул!» Он был убит тем, что его не поняли.
Трудно приходить к осознанию того, что большинству людей не нужна истина. Они уже заведомо убеждены в том, что знают ее. Огорчительно, что теперь надо думать и о своем имидже. Сегодня упаковка важнее содержания. А может, всегда так было?
В том-то все и дело, что низкие истины политически некорректны. Политически корректен возвышающий обман. Чтобы люди выбрали вас в президенты, чтобы пошли на вашу коммерческую картину, чтобы предпочли вас как врача, юриста или модного дизайнера, им нужно преподносить возвышающий обман. К отношениям между людьми это тоже вполне относится. Лично я (боюсь, что и другие) предпочитаю слышать о своих фильмах «гениально!», а не «дерьмо!».
Сегодня добиться, чтобы тебя услышали, намного труднее, чем даже двадцать лет назад.
В предисловии к первому изданию «Тропика Рака» Генри Миллер написал: «Эта книга — пинок под зад человечеству».
Дать пинка — может быть, это и есть один из способов заставить понять важные истины. Даже если это всего лишь низкие истины.