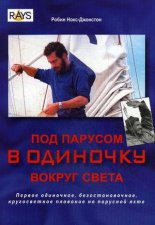Без грима. Воспоминания Райкин Аркадий

— Вы слышите?— вмешался Аркадий. Василий Иванович не привык ездить кверху колесами. По правде сказать, я тоже. Это все-таки аргумент.
— Но там для всего театра ужин приготовлен. Начальник приказал прибыть вовремя. Ужин же остынет,— горевал провожающий.
— Главное, чтобы было кому есть ужин. Переждем до утра погоду. Можно и утром поужинать.
Рассвело сразу, как всегда на юге. Яркое солнце быстро растопило снег, и автобус осторожно, как бы нюхая крутую влажную дорогу, стал спускаться на ту сторону Михайловского перевала.
Оказалось, что, пока мы стояли на горе, ночью был налет на Геленджик и дом, приготовленный для нашего ночлега, начисто снесло вражеской бомбой.
Из-за этого опоздания все наше расписание передвинулось, и мы также «опоздали» к выступлению на передовой — в Кабардинке, где днем снаряд попал в эстраду, на которой мы должны были в это время играть спектакль.
В тот день, о котором я хочу рассказать, мы выступали на Черноморской базе подплава.
Спектакль шел вяло. Райкин, как всегда, играл в полную силу, но подводники сидели тихо, мало смеялись, были молчаливы и подавлены. Мы искали причину такой непривычной реакции, считали, что, очевидно, играем хуже, стали «нажимать», на ходу перестраивать программу. Ничего не помогало. К концу спектакля в зале возник какой-то шумок, движение, кто-то вышел из задних рядов, потом, пригнувшись, начали выходить и из передних.
Огорченные, мы закончили спектакль, не понимая, в чем дело.
Внезапно за кулисы вбежал молодой матрос. Лицо его сияло.
— Ребята! — закричал он нам с порога.— Лодка вернулась! А мы их уже было похоронили, можно сказать, оплакали. Четверо суток ни слуху ни духу. А они вернулись! Живые! Целые! Невредимые!
Мы, не разгримировавшись, как были, выбежали к морю. Там моряки молча обнимали, передавая из рук в руки своих вернувшихся товарищей. Одного быстро пронесли на носилках. Потрясенные этим зрелищем, мы стояли кучкой, с трудом сдерживая слезы.
Начальник базы подплава, крупный, полный человек, фамилия его была, по-моему, Гуе, подошел к нам.
— Товарищи,— сказал он,— вот у нас какая радость! Под водой чинили лодку, на последнем дыхании. Ну, это ж молодцы! Потопили два вражеских транспорта, а потом и их зацепило глубинной бомбой. К вам, товарищ Райкин, и ко всем вам просьба, товарищи: сыграйте им снова. Для них. Сейчас они побреются, чаю выпьют, а? Хотят смотреть. Да и мы все еще раз посмотрим. Ведь, по правде сказать, нам глаза застило. Не до того было.
Мы побежали за кулисы, чтобы снова начать спектакль.
Зал быстро заполнился, и все стали терпеливо ждать прихода товарищей. Они вошли один за другим, смущенные и улыбающиеся.
— Ура-а-а-а!— стоя кричала наша публика. И мы кричали тоже.
Что это был за спектакль! Что за радость была играть его!
В первом ряду сидела команда вернувшейся подлодки. Изжелта-бледные матросы хохотали, и с ними хохотал, качаясь, весь зал.
А Райкин вспоминал все новые и новые свои сценки, монологи, песенки, стараясь развеселить людей, которые победили смерть».
В моей почте и по сегодняшний день встречаются письма от людей, помнящих выступления нашего театра в годы войны. К этим письмам я отношусь с особым трепетом и волнением. Нередко перечитываю их снова и снова.
Я горжусь тем, что нас помнят ветераны батареи №394, которой командовал капитан А. Э. Зубков. Эта батарея сражалась на подступах к Новороссийску. Ветераны приглашают меня на свои встречи, а приезжая в Москву, посещают наш театр, считают его своим. Правда, в последние годы все реже и реже приходят от них весточки — время неумолимо. Но оно не властно над человеческой памятью.
Спасибо Вам за добрую память о 394-й батарее Новороссийской военно-морской базы, за Ваше вдохновенное искусство, приносившее нам столько радости и сил, за то, что Вы были вместе с нами в самые тяжкие дни.
Позвольте мне — бывшему командиру этой батареи — в день Великой Победы поклониться Вам и поздравить с праздником, как достойного и почетного бойца славной Новороссийской батареи, и пожелать вам доброго здоровья, счастья и процветания!
С искренним и глубоким уважением
Зубков А. Э.
9.05.78.
Стоит ли говорить, как дороги мне эти строки. Ведь для артиста моего поколения самое почетное звание — звание бойца.
В конце 1944 года наш театр вернулся в Ленинград. Мы жили в гостинице «Астория». Это была единственная действующая гостиница. Ежедневно мы там встречали старых друзей и знакомых, со многими из которых не виделись всю войну. Многие за эти годы неузнаваемо изменились.
Так, однажды открылась дверь и к нам буквально ворвался худущий человек в бурке. В первое мгновение я даже не узнал его и хотел было сказать, что он ошибся дверью. Между тем это был Владимир Поляков, главный довоенный автор нашего театра, разумеется, мы не могли наговориться. Сколько всего было пережито!
Но говорили не только о прошлом. Главным образом строили совместные планы на будущее. Мирное будущее было не за горами. Это чувствовали все вокруг, и этим определялось общее настроение.
Весной 1945-го нас направили в Латвию. В городе Тукумс нас встретил старый знакомый, ленинградский режиссер Ян Фрид. Теперь он известен как постановщик многих фильмов, таких, как «Зеленая карета», «Прощание с Петербургом», «Собака на сене» и других, а до войны преподавал на Моховой. Тогда, в 1945-м, он был офицером, начальником клуба, в котором нам предстояло выступать. Фрид оказался великолепным организатором и был чрезвычайно внимателен к нам. Но в особенности он был внимателен к нашей актрисе Виктории Горшениной, которая вскоре стала его женой. Так что та поездка, счастливая для всех нас, для них оказалась вдвойне счастливой.
День великой Победы я встретил в Риге, в моем родном городе, где не был столько лет. Мы играли там в помещении Дома офицеров.
Утром 9 мая у нас спектакля не было, и я пришел в цирк. Просто как зритель. В разгар программы на арену вышел шпрехшталмейстер и объявил, что война закончена. Сначала люди даже как будто не поняли. Я хорошо помню мгновение тишины, полнейшей, абсолютной тишины, наступившей после этого известия. А потом... не передать, что творилось! Незнакомые люди обнимались, многие плакали. Так было повсюду в тот незабываемый день. И у всех людей было тогда такое чувство, что теперь, когда мы победили в такой войне, для нас буквально ничего невозможного нет: все одолеем!..
Оттенки и пробелы
Вот закончилась война, началась мирная жизнь... давай рассказывай, как она для тебя началась.
Нет, не так все легко.
Должен сказать, что пристрастное чтение современных, особенно актерских, мемуаров (интересно ведь, как другие это делают) привело меня к мысли, что у самых разных мемуаристов есть одна общая черта: им удается сохранять последовательность, некое подобие фабулы, преимущественно пока они излагают события первой половины своей жизни; той половины, которая относится к отдаленному времени. А по мере приближения к современности — у кого-то это возникает раньше, у кого-то позже — в реальной цепи событий все более явственно ощущаются пробелы. Так что порой трудно бывает определить, какова не только внешняя, но и внутренняя связь между одним событием и другим, между одной главой и другой.
Очевидно, чем ближе к нам время действия, тем больше требуется от автора осторожности и деликатности. Начинает сковывать сознание, что о многом просто рано еще вспоминать. Ведь что принадлежит недавнему прошлому (памятному людям не только старшего, но и среднего поколения), так или иначе продолжает существовать в настоящем и потому не выстраивается в законченный рассказ. Или наоборот, выстраивается с определенностью слишком жесткой.
Вот и передо мной возникает эта проблема.
В сущности, книга мемуаров — не столько репортаж о самом себе, сколько определенным образом сгруппированные портреты (в моем случае лучше сказать «зарисовки»). По ним внимательный читатель составляет впечатление и об авторе. А если его невозможно составить, то это происходит потому, что в повествовании преобладают общие места. Искусственно их не избежишь, как ни пытайся.
Мне везло на встречи с такими людьми, которые и при жизни, и после смерти вызывают всеобщее любопытство. А также везло на встречи с теми, кто был хотя и малоизвестной, зато колоритной фигурой. Но не о каждом из них я считаю себя вправе рассказывать.
Пожалуй, я не мог бы сформулировать, почему такому-то человеку решаюсь посвятить отдельный рассказ, а такому-то — не решаюсь. Могу сказать только, что вопрос не в степени близости знакомства, не в степени духовной общности. Так, со многими из тех, кто уже был или будет представлен на этих страницах, мои отношения были не очень глубокими. Хотя невольно отвожу им места не меньше, чем Утесову, Кассилю или Хикмету, с которыми крепко дружил. С другой стороны, о многих друзьях, равно как о многих событиях моей жизни (в особенности о событиях драматических), не получается сказать достаточно подробно, как они того заслуживают.
Очевидно, есть некая закономерность в том, что не все впечатления, рожденные той или иной памятной встречей, превращаются в рассказ о человеке. Не все впечатления ты способен организовать как сюжет. Не говоря уже о том, что не всякий устный сюжет поддается литературной записи.
Обо всем этом можно лишь сожалеть, но экспериментировать тут было бы рискованно, опрометчиво. Прежде всего по отношению к людям, которых ты не в состоянии изобразить так живо, как сам их видишь, когда остаешься один на один со своей памятью и со своей совестью.
V
Константин Симонов
«Все написанное мною в прозе связано с Великой Отечественной войной и предшествовавшими ей военными событиями на Дальнем Востоке.
Это же, впрочем, относится и к большинству моих стихов и пьес.
Хорошо это или плохо, но очевидно, что я до сих пор был и продолжаю оставаться военным писателем, и мой долг — заранее предупредить читателя, что, открывая любой из этих шести томов, он будет снова и снова встречаться с войной».
Так писал Константин Симонов в 1966 году, в предисловии к своему собранию сочинений. Так он мог бы сказать и двенадцать лет спустя, в свой последний час.
Военное время сформировало его как художника, и я бы еще добавил, что своими лучшими человеческими поступками Симонов тоже был обязан военному времени. Тому неписаному кодексу фронтового братства, которому он — подчас неожиданно, непредсказуемо — следовал позднее, когда стал занимать высокие посты в Союзе писателей, и когда, к сожалению, с ним произошли необратимые перемены.
Есть люди, которые почти не меняются с годами. О Симонове этого не скажешь. Он был очень разным, многоликим.
Мы познакомились перед самой войной, и я берегу его в своей памяти таким, каким знал в ту далекую пору, — открытым, скромным, робеющим на первой в своей жизни премьере (у Ивана Берсенева, в Московском театре имени Ленинского комсомола).
Он был тогда влюблен и любим. Это была романтическая, пылкая и красивая любовь, которой все вокруг восхищались, а многие завидовали. И было чему завидовать...
Потом все кончилось грустно, непримиримым разрывом с женщиной, которую он боготворил. Я очень переживал не столько сам их разрыв, сколько то, что этот факт стал предметом досужих обсуждений, а порой и весьма небезобидных домыслов. Теперь, когда нет в живых ни Симонова, ни Валентины Серовой, я считаю возможным сказать во всеуслышание, что их взаимное чувство не стоит замалчивать. Конечно, и теперь никто не вправе внедряться слишком глубоко в столь деликатную тему, но, уверяю, в их отношениях было много прекрасного. Они принадлежат истории хотя бы потому, что любовь к Серовой водила пером Симонова, когда он писал свои знаменитые лирические стихотворения военных лет, в том числе — «Жди меня».
Валю Серову я знал еще тогда, когда она была артисткой, что называется, второго положения в берсеневской труппе. Это был 1938 год. Берсенев только-только возглавил Театр Ленкома, и вместе с ним в этот театр пришло много одаренных актеров, значительная часть которых прежде играла в закрытом к тому времени МХАТ-2. Лицо обновленного Ленкома определяли Бирман, Гиацинтова, Оленин, Плятт, И. Соловьев... Серова не отличалась столь ярким дарованием, в мастерстве уступала им. Но она была очень красива, и отнюдь не кукольной красотой. В ней ощущалось обаяние независимости, способность к головокружительным решениям, глубокая эмоциональная жизнь.
Я снимался вместе с ней в фильме режиссера Навроцкого «Огненные годы». Съемки шли под Минском, в открытом поле. Вдруг в небе появляется самолет, кружит над нами и идет на снижение. Что случилось?! Все встревожены. Бегут навстречу самолету, который уже приземлился и, подскакивая на кочках, подруливает прямо к нам. И только Валя все понимает сразу.
— Не волнуйтесь,— невозмутимо говорит она.— Это ко мне.
Она была тогда замужем за Анатолием Серовым, летчиком-испытателем, Героем Советского Союза. Серов вышел из самолета с букетом цветов и вручил его Вале.
Вскоре он погиб при испытаниях. Она осталась одна с совсем еще маленьким сыном.
Костю с Валей познакомил я. Он увидел ее на сцене и попросил меня провести его за кулисы после спектакля и представить Серовой. Уже после этого она стала играть в его «Парне из нашего города», знаменитой ленкомовской постановке 1940 года. А популярной — на всю страну — стала после фильма «Девушка с характером».
Как хороша, весела была их свадьба — в квартире у Кости, куда он для шика пригласил официантов из «Метрополя».
— Атмосфера должна быть домашняя,— говорил Симонов,— но перемены блюд должны производиться профессионально!
В тот вечер он пил шампанское из ее туфли и вообще— гусарил. Ей это нравилось. Ей нравилась лихость. А Костя умел быть лихим.
Но жизнь не только из гусарства состоит: при иных обстоятельствах оно не спасает, и только оборачивается самообманом. Впрочем, здесь я поставлю многоточие...
Мы с Симоновым дружили недолго — примерно до 1950 года. Потом и виделись редко, и общались сдержаннее. Но как забыть, например, первое послевоенное лето, когда мы с Ромой гостили у него на даче в Гульрипше!
Он очень любил готовить шашлыки и делал это превосходно. Еще до завтрака мы отправлялись на базар, и там он, я бы сказал, вдохновенно отбирал баранину, причем не терпел никаких советов в этом столь важном вопросе, и даже присутствие такого знатока, как местный поэт Иван Тарба, не смущало его. Мы втроем—Рома, Тарба и я — покорно плелись за ним.
Однажды я попробовал усомниться в необходимости нашего присутствия, поскольку он лишил нас даже совещательного голоса. В ответ он только пожал плечами. Точно я его всерьез обидел. Некоторое время спустя разъяснил:
— Понимаешь, вы мне нужны как зрители. Тогда я чувствую себя увереннее. Как человек, который заботится о благе ближних и знает, что ближние, в случае чего, могут подтвердить, что он действительно заботился.
Каждое утро после кофе совершался следующий ритуал: на доске раскладывалось купленное на базаре мясо, и Симонов, склонившись над ним, как полководец над картой, отдавал приказы:
— Это — в суп. Это — на котлеты. А это — в уксус. Отмачивать будем. Для шашлыка!!!!
Я знал еще двух мужчин, одержимых страстью готовить. Первым был генерал Игнатьев, автор знаменитых мемуаров «Пятьдесят лет в строю». А второй — литератор, критик Василий Сухаревич. Сам я никогда не понимал такую страсть. Но это — страсть.
Симонов был азартен. Как-то раз Иван Тарба привел нас на серебряную свадьбу к абхазцам. Костю там знали и в знак уважения к нему как писателю выбрали тамадой. А до этого, надо сказать, мы выражали сомнения в том, что вряд ли сможем соответствовать хозяевам в смысле способности к возлияниям. Костя подтрунивал над нами: мол, у него — фронтовой опыт. А я, вспоминая свой опыт по этой части (особенно ту историю с генералом-летчиком, который заставил меня выпить враз столько водки, сколько я за всю жизнь не пил), чувствовал себя нехорошо. Ну, приходим мы на свадьбу, и Костя, подмигивая мне, говорит хозяевам:
— Мы, конечно, знаем, что у вас есть такой обычай — пить до дна, не пропуская. Но вы поймите, ради бога, мы — люди болезненные, мы к такому не привыкли. Так что уж давайте условимся заранее: лично я выпью столько, сколько сам поставлю на стол. И ни капли больше.
После чего он ставит на стол... восемнадцать бутылок вина. Самое удивительное даже не то, что он сдержал слово. (Зная его азартную натуру, можно было предположить, что он не просто бахвалится.) Самое удивительное, что он почти не опьянел.
Я вспомнил этот забавный случай вовсе не потому, что меня восхищает способность человека пить, не пьянея. Я равнодушен к алкоголю. В нашем доме початая бутылка коньяка может стоять месяцами — и никому из домашних в голову не придет притронуться к ней. Но дело в том, что если бы Симонову потребовалось доказать что-нибудь уж совсем невозможное, то он бы — я уверен,— как-нибудь исхитрившись, доказал бы и это.
Когда ему было нужно, он умел убедить кого угодно в чем угодно. Когда надо было проявлять дипломатичность, равных ему тоже не было. Впрочем, эти черты я обнаружил в нем позже.
А тогда, чудесным летом в Гульрипше, главным, сильнейшим моим впечатлением были его военные дневники. Я читал их запоем. Там была правда о войне. Он в ту пору приводил их в порядок, систематизировал. И мы с Ромой стали свидетелями того, как он, заглядывая в свои торопливые записи военных лет, диктовал стенографистке, что называется, с ходу какое-то новое прозаическое сочинение. Как звали стенографистку? я запомнил — Муза Ивановна. А что это было за сочинение — запамятовал. Но факт, что и в других случаях ему было свойственно ничего не менять в надиктованном художественном тексте.
К слову как единице текста он относился небрежно. Ему были важны периоды. Он мыслил периодами. Как бы вступая в тайное соревнование с эпическим размахом толстовского стиля. Толстой был для него высшим авторитетом в литературе.
Известно, что Симонов в течение всей жизни продолжал обращаться к своим фронтовым дневникам и корреспонденциям. Там он черпал сюжеты для романов и повестей. Его проза оценена и не нуждается в защите. Но должен заметить, что Симонов-журналист, Симонов как автор дневников лично мне ближе, нежели Симонов в других своих литературных ипостасях.
Две встречи с Ахматовой
В начале 50-х годов Анна Андреевна, как известно, останавливалась у Ардовых, когда приезжала в Москву. Однажды, когда мы с Ромой тоже были в Москве, Виктор Ефимович Ардов позвонил нам в гостиницу и, приглашая в гости, сказал (повторяю дословно):
— Анна Андреевна выразила желание послушать тебя.
Признаюсь, я опешил. Дело было даже не в том, что обычно я отказываюсь от подобных предложений и крайне редко, если только у самого возникает соответствующее настроение, исполняю что-нибудь в гостях, в кругу друзей. Главное, что смутило меня, — я не мог представить себе Ахматову в роли зрительницы эстрадного номера. К тому же и знакомы-то мы не были; хотя много лет жили в одном городе, почти по соседству,— у меня было такое ощущение, что она живет в другом мире. Но отказаться от приглашения я не мог.
И если бы меня спросили, испытывал ли я когда-нибудь особенно сильное волнение от встречи с незнакомой аудиторией, я ответил бы, не задумываясь, что это было в тот вечер, когда мою аудиторию составлял всего один человек (если не считать Ромы и домочадцев моего друга Виктора Ардова).
Не хочется произносить банальности о ее царственной осанке. Хотя и впрямь она была царственна, и это поражало с первого взгляда. Скажу только, что за столом она говорила очень мало, но поскольку при ней мы с Ромой тоже не говорили много, не отваживались, постольку часто возникали долгие паузы, в которых я чувствовал себя неловко. А Анна Андреевна, кажется, вовсе не тяготилась ими.
Паузы заполнял хозяин дома. Очевидно, в подобных ситуациях он уже бывал и ему это было привычно. Хотя я отметил, что и он, наш великий острослов, не слишком словоохотлив и совсем не саркастичен в присутствии Анны Андреевны. В основном он суетился у маленького столика в углу, на котором стояла электрическая плитка, и объяснял, как следует заваривать чай должным образом — по старым, времен Гиляровского, московским заветам, а вовсе не так, как это делают теперь, когда и не догадываются, что заваривание чая — особая культура.
Неожиданно Анна Андреевна сказала, что много наслышана обо мне, о моих, как она выразилась, артистических успехах, но жизнь ее складывается таким образом, что она почти не бывает в концертах и вообще мало где бывает. Она была бы весьма признательна, если мне, как уверяет Виктор Ефимович, удастся ее развеселить. Если, конечно, я буду настолько любезен, что не сочту просьбу слишком обременительной.
В ответ я попытался произнести нечто замысловатое о том, что странна не просьба, а мое положение, ибо, с одной стороны, я считаю для себя лестным... а с другой стороны, не уверен... понимая, так сказать, тщетность... поскольку работаю обычно для другой публики. Тут и Ардов философически добавил, что Ахматова — на века, а наше дело — сиюминутность.
Все это, как мне показалось, не произвело на Анну Андреевну ни малейшего впечатления. Как если бы она твердо знала, что за такой преамбулой непременно последует то, о чем она попросила. Словом, стал я читать монолог. Один, другой, третий... Читал, между прочим, самое смешное... постепенно заводился, входил в актерский азарт.
А она не смеялась. Только иногда улыбалась чуть-чуть. Царственно (волей-неволей скажу я снова).
Каково же было мое изумление, когда потом она сказала, что было очень смешно. Что ей давно не было так весело. Что она благодарна мне. Возможно, она говорила искренне. А смеялась, так сказать, про себя, внутренним смехом.
Иногда я встречал такую реакцию. В основном в профессиональной среде. Козинцев, как я уже рассказывал, тоже так смеялся. Да и сам я, бывает, не смеюсь (то есть по виду моему не понять, смешно мне или нет), когда сижу в зале. Все вокруг хохочут, а я сосредоточиваюсь на том, как артист работает, и говорю себе: вот это смешно, вот это он молодец, а вот это — нет, не годится. Впрочем, я далеко не уверен, что она смотрела с таким прицелом. Когда мы стали прощаться, Ардов — не помню, в какой связи — бросил фразу о том, что у Ромы есть альбом, наподобие «Чукоккалы», куда все что-нибудь записывают. Анна Андреевна оживилась. Сказала, что такой альбом — редкость по нынешним временам. Мы уже одевались в прихожей, когда она попросила немного подождать ее и удалилась в отведенную ей комнату. Вскоре она вернулась и протянула Роме листок, вырванный из школьной тетради. На листке было аккуратно записано ее четверостишие:
- Могла ли Биче словно Дант творить
- Или Лаура жар любви восславить?
- Я научила женщин говорить.
- О, боже, как их замолчать заставить?
— Это для вашего альбома,— сказала Анна Андреевна..
Прошло лет двенадцать, если не больше, прежде чем мы встретились еще раз. Не в Ленинграде, не в Моcкве, а вовсе даже в Оксфорде. Если бы тогда у Ардовых кто-нибудь высказал предположение, что такое будет возможно, я бы ни за что не поверил. Да и кто бы мог поверить!
Наш театр был в Лондоне, когда мы узнали от Мэлора Стуруа, собственного корреспондента «Известий» в Великобритании, что на днях в Оксфордском университете состоится церемония награждения Анны Андреевны Ахматовой. Для нас с Ромой это явилось столь же радостной, сколь поразительной вестью, и мы попросили Стуруа непременно взять нас с собой, когда он поедет в Оксфорд. Но, к нашему удивлению, он не собирался присутствовать на торжестве, да и нам не советовал. Отношение к Ахматовой со стороны наших официальных кругов продолжало оставаться, мягко говоря, настороженным.
Так получилось, что из советских людей лишь Рома да я оказались свидетелями, да и то случайными, этого триумфа Ахматовой, триумфа русской поэзии.
Мы приехали в Оксфорд поездом несколько раньше назначенного часа, заняли очередь у входа, довольно внушительную. Тут к нам подошел незнакомый человек и произнес следующее:
— Извините, я слышу, вы говорите по-русски. Вы живете в России?
— Да, в Советском Союзе.
— Я тоже из России. Но я там не был с семнадцатого года.
Мы насторожились. Стуруа предупреждал нас о возможных провокациях. Но человек продолжал вполне миролюбиво:
— Разрешите представиться. Моя фамилия Молоховец. Вам это ни о чем не говорит?
Я хотел было ответить отрицательно, но Рома вспомнила:
— Позвольте, уж не родственник ли вы Елене Молоховец?
— Это моя бабушка,— с гордостью ответил он.
Тут и я вспомнил знаменитую до революции книгу кулинарных советов, написанную его бабушкой. Вспомнил, как в студенческие годы кто-то притащил эту книгу к нам в общежитие, и мы читали ее для развлечения вслух: то удивляясь диковинным блюдам, о существовании которых мы понятия не имели, то потешаясь над иными советами, с головой выдававшими «старорежимные» представления этого автора об ассортименте дежурных блюд, имеющихся на всякий случай в распоряжении каждой домохозяйки.
Между тем Молоховец-внук стал жадно расспрашивать о нашей жизни. Просил передать привет Леониду Соболеву, известному советскому писателю, вместе с которым когда-то учился в морском училище. Стал рассказывать о себе, но неожиданно осекся и, вновь извинившись, сказал:
— Собственно, мне от вас ничего не нужно. Просто я хотел постоять рядом с теми, кто имеет возможность дышать воздухом родины...
Но вот мы вошли в зал, и началось поистине великолепное зрелище. Зал был многоярусный. (Мы, в числе других гостей, смотрели со второго яруса.) Ряды партера окружали возвышение в конце зала, где в золоченом кресле — так и хочется сказать «на троне» — восседал ректор университета с молитвенником в руках.
В партере сидели студенты. Зазвучал орган, и в зал вошел церемониймейстер, ритмично взмахивавший жезлом, тоже золоченым. По его знаку началась церемония, посвященная переходу студентов на следующий курс. Каждый студент, облаченный в мантию своего курса, должен был, поднявшись по нескольким ступеням и затем преклонив колено, выслушать напутственные слова ректора, получить его благословение. После чего во главе с церемониймейстером покинуть зал, чтобы вскоре вернуться уже в новой мантии.
Потом настал черед ученых, общественных деятелей, художников, получивших почетную степень доктора «Гонорис кауза». Один из них был так стар и немощен, что его вели под руки. Но и он опустился на колено. Вся церемония длилась около трех часов, и в конце ее в зал вошла Ахматова. Ощущение было такое, будто мы стали свидетелями выхода королевы.
Она была в пурпурной мантии (точно в такой же мантии по поселку Переделкино разгуливал Чуковский), но без шапочки, которую полагается надевать непременно. Как потом рассказала Анна Андреевна, она сочла, что этот головной убор ей не к лицу, и в виде исключения ей позволили не надевать шапочку. Однако этим нарушение деталей ритуала не исчерпывалось. Ахматовой не пришлось ни подниматься по ступенькам, ни становиться на колено: ректор сам сошел к ней и вручил диплом.
Когда церемония закончилась, мы с Ромой купили большой букет роз и направились в гостиницу, где Анна Андреевна остановилась. Узнав от портье, что она отдыхает и просила не беспокоить ее, мы передали ей наш букет, вложив в него записку.
Но не успели мы отойти от гостиницы на несколько шагов, как нас догнал посыльный и сказал, что Анна Андреевна просит вернуться.
Мы застали у нее художника Юрия Анненкова, специально приехавшего из Парижа. Работы Анненкова я, конечно, знал. В основном книжную графику. Но для меня он был... как бы это сказать... чуть ли не доисторической фигурой. Никогда не думал, что доведется беседовать с ним. И уж вовсе неожиданным оказалось, что благодаря английскому телевидению он меня знает.
Кроме Анненкова из Парижа на двух автобусах приехало множество поклонников и друзей молодости Ахматовой. Через несколько минут после нашего прихода они тоже явились в гостиницу. Я никогда не видел в таком количестве старых русских аристократов. Все они были крайне воодушевлены в тот момент, но смотреть на них было грустно. Некоторые плакали.
Узнав, что мы — советские артисты, они обрушили на нас град вопросов, в основном личного характера — о своих родственниках, друзьях, с которыми потеряли связь. Одна пожилая дама спросила Рому, не знает ли она что-нибудь о судьбе некой второстепенной актрисы, когда-то игравшей в Александринском театре. Мы о такой актрисе не слыхали. Тогда Рома пообещала, что попробует по приезде домой что-нибудь разузнать и напишет письмо. Пожилая дама расчувствовалась, долго благодарила и сказала:
— Адрес вы запомните легко. Мадам Мок. Париж. Франция.
Рома удивилась:
— А улица, дом?
— Ничего этого не надо. Мой муж — глава парижской полиции.
Когда же Анна Андреевна по привычке обратилась к присутствующим:
— До свидания, товарищи! — возникла напряженная пауза.
Прощаясь с нами, Анна Андреевна сказала:
— Они забыли, что товарищ значит друг. Но мы-то это помним, не так ли?
Я запомнил Анну Андреевну, окруженную морем цветов.
Корней Чуковский
Мы познакомились во время войны в Ташкенте. Чуковский был одним из организаторов концерта, сбор от него должен был пойти в помощь детям, оставшимся без родителей. После концерта, в котором я тоже принимал участие, нас представили друг другу.
— А я ведь с вами знаком давно,— сказал Чуковский.— Еще перед войной слушал вас по радио.
— В таком случае, Корней Иванович, я с вами вообще сто лет знаком. Вашего «Крокодила» помню и люблю с детства. Я читал его еще в первой, дореволюционной редакции, когда там действовал городовой, которого впоследствии вы убрали. Классическое произведение!
Он в ответ ухмыльнулся и шутливо погрозил мне пальцем:
— Знаете ли вы, что длинная память причиняет своим обладателям куда больше неудобства, нежели короткая? Во всяком случае, длинную память не всегда имеет смысл афишировать, ибо часто находятся желающие ее укоротить. Что же касается классичности упомянутого вами «Крокодила», то я, уж простите, спорить не стану. Хотя, между прочим, в двадцатые годы мно-о-гие не хотели меня признавать как детского поэта. И, представьте себе, неохотно печатали. Странно, не правда ли?
— Странно, Корней Иванович.
— Бросьте. Что в этом странного?
— Да, действительно. Если подумать, то конечно.
— Что «конечно»? Нет, голубчик, нет. Все-таки это странно.
Такая у него была манера: подводить вас к какому-нибудь умозаключению, выуживать его из вас, чтобы тут же опровергнуть. Да еще и выразить недоумение: мол, что это вы такое несете. Это была своего рода игра. Эпатаж в духе Бернарда Шоу. В какой-то степени, наверное, объяснимый особым пристрастием Чуковского к литературе «туманного Альбиона», но не всегда уместный и естественный на нашей почве.
Во всяком случае, чтобы не попасть впросак, с ним всегда надо было быть начеку. А то ведь он с самым невинным видом мог сделать из собеседника... отбивную котлету.
Переделкино — писательский дачный поселок под Москвой. Впрочем, это, наверное, все знают. Едва ли не у каждого писателя, который там жил, живет или время от времени приезжает в Дом творчества, можно найти описание, по крайней мере, упоминание этого достославного места. Казалось бы, обычный подмосковный поселок. Но какое вместилище явных и тайных страстей! За каждым забором кто-то сидит и пишет. Что они там пишут? О чем думают?
За свою жизнь я исходил по Переделкину сотни километров. На моих глазах его обитатели превращались в названия улиц. А если не в названия, то в легенды, как, например, Пастернак. Многие, конечно, исчезли бесследно: ни доброй памяти, ни хороших книг по себе не оставив. А ведь как суетились и важничали!..
Чуковский был как бы частью переделкинского пейзажа. Когда он гулял по переделкинским улицам (а гулял он в любую погоду, даже в трескучий мороз), то походил на лешего, осматривающего свои владения.
Во всем, что касается детей, он был человеком душевно щедрым и неутомимо деятельным. По сей день в Переделкино работает детская библиотека, построенная на средства Чуковского и укомплектованная сотнями томов из его собрания, которые он передал в дар детям. Не знаю, как сейчас, а при его жизни дети не только читали там книги, но и делали уроки. И вообще это был как бы детский клуб, причем обязанности его председателя Корней Иванович добровольно взял на себя. Он верховодил окрестной детворой, я бы сказал, ритуально. С таким сознанием важности своей миссии, с каким иные его коллеги по Союзу писателей просиживают добрую половину жизни в президиумах различных заседаний.
Незабываемы детские праздники у костра, которые Чуковский многие годы подряд устраивал в Переделкине. Дети всей округи собирались на них, ждали их, готовились загодя. Да и взрослым было интересно. Пропуском на костер служила пригоршня сосновых шишек, которые каждый обязан был самолично набрать в лесу. Надо было видеть, с какой серьезностью и с каким азартом проверял Корней Иванович наличие этого пропуска у каждого пришедшего независимо от возраста и, если иметь в виду взрослых, то и от занимаемого положения в обществе. Так что, будь ты даже солидным дядей, а все равно, если хочешь участвовать в общем веселье, изволь собирать шишки.
Я много раз участвовал в «Чуковских кострах». Выступал на них, вспоминая свой довоенный детский репертуар. Приходил, как правило, с сыном.
Костя — ему было тогда лет шесть — изображал, как падает дерево. Р-раз — и действительно падал как подкошенный. Чуковский хохотал до слез, просил бисировать. Вообще он любил Костю. Был первым зрителем его танцев. Когда узнал, что он рисует, устроил в Переделкине выставку его рисунков. Хвалил его, когда вышла книжка «Ранний восход», где В. Глоцером были собраны стихи и рассказы, написанные многими детьми, в том числе и Костины.
Впрочем, в последнем случае ему наверняка приходилось делать некоторое усилие над собой. Вступительную статью к этому сборнику писал Самуил Яковлевич Маршак. А ко всему, что делал Маршак, Чуковский относился в высшей степени ревниво и не мог, да и не хотел этого скрывать.
В дни юбилея Корнея Ивановича Маршак прислал стихотворное послание:
- Могли погибнуть ты и я,
- Но, к счастью, есть на свете
- У нас могучие друзья,
- Которым имя — дети.
Помещая эти стихи в «Чукоккале», Корней Иванович снабдил их следующим комментарием: «Большинство его стихов отличалось язвительной колкостью. Но его голос всегда становился дружелюбным и мягким, когда речь заходила о детях». То же самое он мог бы сказать и о себе. Но когда речь заходила о чем-нибудь другом...
Особенно Чуковский раздражался, говоря о шекспировских сонетах в переводах Маршака.
Однажды я имел неосторожность заметить, что мне они нравятся, да ведь и многим нравятся.
— Что такое «многим»?! — сердито вскричал Чуковский.— Кто они такие, «многие»?!
В этот момент он совершенно не был похож на того «дедушку Корнея», который вместе с ребятишками носился как угорелый по своему саду, напялив индейский головной убор из разноцветной кожи и перьев и выкрикивая при этом какие-то бармалейские заклинания.
Конечно, он не был тем добреньким, не от мира сего старичком, каким его пытаются представить любители сглаживать острые углы, создатели никому не нужных литературных идиллий о знаменитых людях. Добродушие не являлось определяющим свойством его натуры.
Не знаю, чувствовали ли это дети (думаю, что не чувствовали, потому что с детьми он вел себя совсем не так, как со взрослыми). Но уверен, что взрослые — и те, которые любили его и прощали ему многие экстравагантные выходки в повседневном общении, и те, которые его недолюбливали,— не могли бы с уверенностью сказать, где заканчиваются его симпатии и начинаются антипатии, где милые дурачества переходят в отнюдь не безобидные проделки.
Евгений Львович Шварц, который одно время был литературным секретарем Чуковского, говорил о нем так:
— Это секретер со множеством замочков и потайных ящиков.
Я не знал его так близко, как Евгений Львович, и не решаюсь претендовать на исчерпывающие определения его порой утомительной, порой обескураживающей, но при этом притягивающей как магнит, незаурядной натуры. Факт, однако, остается фактом: в литературе и в жизни от него многим досталось («Серапионовым братьям», например), хотя, с другой стороны, он часто называл вещи своими именами, не боялся этого, особенно под конец жизни.
У Чуковского было очень тяжелое детство. И думаю, это обстоятельство многое определило в его характере. Он был сыном одесской прачки. Отца, который ушел из семьи, он почти не знал. А когда, заканчивая гимназию, обратился к отцу за помощью, тот не стал и слушать его, выгнал.
В автобиографической повести «Серебряный герб» Чуковский отчасти описал эту драматическую ситуацию. А точнее сказать, глухо намекнул на нее. Степень его обиды была такова, что он не изжил ее окончательно даже и в зрелости. Я сужу об этом по некоторым его фразам, мелькавшим в наших разговорах. А главное — по самой книге «Серебряный герб». По тому, как осторожен, скрытен Чуковский, изображая внутреннюю жизнь героя.
С собственными детьми у него были достаточно сложные отношения. В его переделкинском доме часто пустовал кабинет Николая Корнеевича, хорошего писателя, скромного, деликатного человека. Николай Корнеевич не очень-то любил бывать в Переделкине. При отце предпочитал отмалчиваться. Автора знаменитого романа «Балтийское небо» Чуковский-старший подавлял своим авторитетом, своими художественными да и просто бытовыми вкусами.
Однажды иду по переделкинской улице Серафимовича, или, как называли ее аборигены, по улице Железного потока. Навстречу — Чуковский. Спрашивает:
— Что поделываете?
— Да так, знаете ли...
— Нет, ну все-таки. Интересно. Я же вижу, что вы не просто гуляете. У вас для этого слишком отсутствующий вид.
— Я учу текст нового монолога.
— На ход-у-у?! Нет, это не годится. Заходите ко мне. Колин кабинет в вашем распоряжении.
— Спасибо, Корней Иванович. Как-нибудь в другой раз.
В другой раз, увидя меня на той же улице с текстом роли в руках, он, без всяких приветствий, напустился на меня, как если бы поймал на месте преступления:
— Пренебрегаете!
— Бог с вами, Корней Иванович. Просто я так привык. Мне так удобно — гулять и учить.
— Ну, как знаете,— сказал он сухо и, не прощаясь, пошел своей дорогой.
В третий раз дело приняло совсем уж крутой оборот. Он, как выяснилось, поджидал меня, караулил у ворот своей дачи. И когда я поравнялся с ним, он распахнул калитку и выкрикнул с угрозой, как-то по-петушиному:
— Прошу!
Я понял, что сопротивление бесполезно. Рассмеялся. Вошел в сад. Поднялся на крыльцо и остановился у двери, чтобы пропустить его вперед.
— Вы гость. Идите первым,— сказал Чуковский.
— Только после вас.
— Идите первым.
— Не смею.
— Идите первым.
— Ни за что!
— Ну, это, знаете ли, просто банально. Нечто подобное уже описано в литературе. Кстати, вы не помните кем?
— А вы что же, меня проверяете?
— Помилуйте. Зачем мне вас проверять? Просто я сам не помню.
— Ну, Гоголем описано. В «Мертвых душах».
— Гоголем, стало быть? Неужто? Это вы, стало быть, эрудицию свою хотите показать? Нашли перед кем похваляться. Идите первым.
— Ни за какие коврижки!
— Пожалуйста, перестаньте спорить. Я не люблю, когда со мной спорят. Это в конце концов невежливо — спорить со старшими. Я, между прочим, вдвое старше вас.
— Вот потому-то, Корней Иванович, только после вас и войду.
— Почему это «потому»? Вы что, хотите сказать, что вы моложе меня? Какая неделикатность!
— Я младше, Корней Иванович. Младше.
— Что значит «младше»? По званию младше? И откуда в вас такое чинопочитание?! У нас все равны. Это я вам как старший говорю. А со старших надо брать пример.
— Так подайте же пример, Корней Иванович. Входите. А я уж за вами следом.
— Вот так вы, молодые, всегда поступаете. Следом да следом. А чтобы первым наследить — кишка тонка?!
После чего он с неожиданной ловкостью встал на одно колено и произнес театральным голосом:
— Сэр! Я вас уважаю.
Я встал на два колена:
— Сир! Преклоняюсь перед вами.
Он пал ниц.