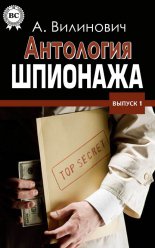За чертой Лариков Андрей

— Да так… Она просто шла по дороге. Это ж надо догадаться — пытаться отрезать мулу голову мачете.
— Да уж. Только пьяный идиот может такое отчебучить. Сперва рубил, а когда увидел, что не выходит, начал пилить. Когда Рохельо стал его оттаскивать, он чуть не зарубил Рохельо. Рохельо был в ужасе. Отвратительно. Они оба упали на дорогу. Возились в крови и в грязи. Катались под ногами у животных. Чуть было не перевернули фургон и всех с ним вместе. Кошмар. Что, если бы по дороге кто-то шел? Что, если бы на дороге появились люди и увидели бы этакий спектакль?
— А что в результате с мулом?
— С мулом? Мул умер. Естественно.
— И что, не нашлось никого, кто хотя бы пристрелил его или еще как?
— Да. Тут целая история. Нашлась как раз я сама. Вышла вперед, чтобы пристрелить мула, а вы как думали? Но Рохельо запретил это. Потому что это напугает остальных мулов — так он мне сказал. Вы можете такое себе представить? И это в наше время! Потом он сказал, что уволит Гаспарито. Сказал, что Гаспарито безумец, но какой он безумец, просто borrachon.[328] Из Веракруса, конечно же.{63} К тому же цыган. Нет, вы видали, а?
— А я думал, вы тут все цыгане.
Она села в гамаке очень прямо.
— Cmo? — сказала она. — Cmo? Quin lo dice?[329]
— Todo el mundo.[330]
— Es mentira. Mentira. Me entiendes?[331] — Она возмущенно перегнулась с гамака и плюнула на землю.
В этот момент дверь кибитки отворилась, и из темноты вышел маленький смуглый мужчина в рубашке и без пиджака. Сощурился. Примадонна в гамаке повернулась, воззрилась на него. Как будто своим появлением в двери он отбросил тень, которую она заметила. Он оглядел гостей и их коней, вынул из кармана рубашки пачку сигарет «Эль-Торо», сунул сигарету в рот и начал рыться по карманам в поисках спичек.
— Buenas tardes,[332] — сказал Билли.
Мужчина кивнул.
— Вы что думали, цыганка споет вам оперу? — сказала женщина. — Цыганка! Ну конечно. Цыгане только и могут, что играть на гитарах и марафетить лошадей. Да еще плясать свои примитивные пляски.
Сидя в гамаке прямо, она подняла плечи и развела перед собой руками. После чего издала долгий пронзительный звук — не то чтобы крик боли, но что-то в этом роде. Кони шарахнулись и стали выгибать шеи, так что всадникам пришлось их развернуть, но и после этого они продолжали ежиться, переступать копытами и вращать глазами. На всех ближних полях крестьяне опять прекратили свою возню в бороздах.
— Вы поняли, что это было? — сказала она.
— Нет, мэм. Но это было здорово громко.
— Это был do agudo.[333] Вы думаете, какая-нибудь цыганка может взять такую ноту? Ага, хрипатая какая-нибудь цыганка!
— Н-ну, я не очень-то над этим задумывалс.
— Покажите мне такую цыганку! — разошлась примадонна. — Хотела бы я взглянуть на такую цыганку.
— А кто марафетит лошадей?
— Цыгане, разумеется. Кто же еще-то? Марафетчики. Коновалы. Дантисты лошадиные.
Сняв шляпу, Билли вытер лоб рукавом; снова надел шляпу. Мужчина из кибитки уже спустился по крашеным деревянным ступенькам и сел на нижнюю, продолжая курить. Наклонился, щелкнул пальцами у морды пса. Пес попятился.
— А где все это произошло? Ну, в смысле, с мулом-то, — сказал Билли.
Она приподнялась и указала сложенным веером.
— На дороге, — сказала она. — Отсюда максимум метров сто. И как теперь двигаться дальше? Такой был мул! Обученный. С театральным опытом. Убит прямо в постромках пьяным идиотом.
Мужчина на ступеньках сделал последнюю глубокую затяжку и щелчком пустил окурком в пса.
— Передать им что-нибудь от вас, если мы их встретим? — спросил Билли.
— Скажите Хайме, что у нас все в порядке и чтобы он не торопился.
— А кто такой Хайме?
— Пунчинельо. Он у нас Пунчинельо.{64}
— Кто-кто, мэм?
— Payaso. Как это? Паяццо. Шут.
— А, клоун.
— Да, да, клоун.
— В вашей постановке.
— Разумеется.
— Но я же его не узнаю без боевой раскраски.
— Mnde?[334]
— Как мне узнать его?
— Узнаете.
— Он что — всегда людей смешит?
— Он всегда заставляет людей делать то, что ему нужно. Иногда заставляет молоденьких девушек плакать, но это уже другая история.
— А почему он вас убивает?
Примадонна, расслабившись, прилегла. Но продолжала изучающе смотреть на него. Потом перевела взгляд на работающих в поле крестьян. Помедлив, обратилась к мужчине на ступеньках:
— Dganos, Gaspar. Por qu me mata el Punchinello?[335]
Он посмотрел на нее снизу вверх. Окинул взглядом всадников.
— Te mata, — сказал он, — porque l sabe su secreto.[336]
— Paff, — сказала примадонна. — No es porque le s el suyo?[337]
— No.
— A pesar de lo que piensa la gente?[338]
— A pesar de cualquier.[339]
— Y qu es este secreto?[340]
Мужчина поднял ногу в сапоге, положил на колено и принялся изучать сапог. Сапог был черной кожи со шнуровкой сбоку, довольно редкого для этой страны фасона.
— El secreto, — сказал он, — es que en este mundo la mascara es la que es verdadera.[341]
— Le entendi?[342] — сказала примадонна.
Билли сказал, что понимает. Спросил ее, разделяет ли она это мнение, но она лишь расслабленно помахала рукой.
— Так говорит arriero,[343] — сказала она. — Quin sabe?[344]
— Он говорит, это был ваш секрет.
— Фи! У меня нет секрета. Во всяком случае, больше я такими вещами не интересуюсь. Очень надо. Чтобы тебя каждый божий день убивали. Это выматывает силы. Лишает способности соображать. Уж лучше сосредоточиться на вещах помельче.
— А я, вообще-то, подумал, что это он просто из ревности.
— Ну да. Конечно. Но даже и на ревность нужны силы. Ревновать в Дуранго, потом опять в Монклове, в Монтерее. Ревновать на жаре, под дождем и на холоде. Такая ревность исчерпает злобу тысячи сердец, не правда ли? По силам ли такое человеку? На мой взгляд, лучше бы заняться изучением какой-нибудь малости. А потом и покрупнее вещи последуют. На мелочах можно набить руку. Затраченные на них усилия вознаграждаются. Сначала поза, положение головы. Движение руки. В таких вещах арриеро всего лишь зритель. Он не может знать, что для человека в маске ничего не меняется. Актер изображает не то, что ему хочется, а только то, что велит ему этот мир. В маске или без маски — безразлично.
Она взяла театральный бинокль за ручку и стала обозревать окружающий мир. Дорогу. Длинные тени на ней.
— И куда же вы все втроем направляетесь? — спросила она.
— Мы сюда приехали искать лошадей, которых у нас украли.
— А кому они были вверены?
На это никто не ответил.
Она поглядела на Бойда. Раскрыла веер. На гармошке из рисовой бумаги был нарисован дракон с большими круглыми глазами. Сложила веер.
— И долго вы собираетесь искать ваших лошадей?
— Ну, столько, сколько потребуется.
— Podra ser un viaje largo.[345]
— Quizs.[346]
— В длинных путешествиях часто теряют себя.
— Что, мэм?
— Вы сами увидите. Даже родным братьям трудно в таких блужданиях оставаться вместе. А у дороги так и вообще свои законы, и не бывает, чтобы у двоих путников было одинаковое их понимание. Если им вообще удастся прийти к какому-то пониманию. Послушайте corridos[347] этой страны. Они многое вам скажут. Тогда вы и в собственной жизни кое-чему поймете цену. Ведь это, наверное, правда, что ничего не скроешь. Однако многие не желают видеть того, что лежит перед их глазами в ярком свете. Вы сами увидите. Форма колдобин — это и есть дорога. Другой дороги с теми же колдобинами нет, она только одна такая. И всякое странствие, на ней начатое, будет закончено. Найдутся лошади или не найдутся.
— Мы, пожалуй, лучше поедем, — сказал Билли.
— Andale pues,[348] — сказала примадонна. — Да пребудет с вами Господь.
— Если по дороге встречу вашего Пунчинельо, скажу ему, что вы его заждались.
— Фи, — сказала примадонна. — Не берите в голову.
— Adis.[349]
— Adis.
Билли окинул взглядом мужчину на ступеньках:
— Hasta luego.[350]
Мужчина кивнул.
— Adis, — сказал он.
Еще раз Билли развернул коня. Оглянувшись, коснулся пальцем поля своей шляпы. Грациозным роняющим жестом примадонна раскрыла веер. Арриеро, который сидел упершись ладонями в колени, нагнулся и в последний раз попытался доплюнуть до пса, после чего вся тропа направилась через луг к дороге. Когда Билли в последний раз оглянулся на примадонну, та наблюдала за ними, подсматривая в свой бинокль. Как будто так ей легче их оценить — именно теперь, когда они по исполосованной тенями дороге уходят в сумерки. Существуя лишь в этом окулярном кружке пространства, куда окружающие вещи являются из ничего и вновь в ничто исчезают — что дерево, что камень, что темнеющие вдали горы, — все замкнуто, заключено в себе и содержит лишь необходимое, и ничего больше.
Лагерем встали в дубняке у реки, разложили костер и коло него уселись, и девушка занялась приготовлением ужина из сокровищ, которыми одарили их жители эхидо. Когда поели, остатками она покормила пса, помыла тарелки и кастрюлю и пошла к лошадям. Вновь выехали на следующий день поздним утром, а в полдень, повернув коней и сойдя с грунтовой дороги, направились по тропе, которая вилась сперва вдоль нижнего края перечного поля, потом среди деревьев у реки, безмятежно поблескивающей на жаре. Тут кони ускорили шаг. Тропа свернула и пошла вдоль оросительной канавы, спустилась в рощу, опять поднялась, а потом пошла вдоль зарослей приречных ветел и камышей. От реки веял прохладный ветерок, светлые кисточки камышей гнулись и тихо шуршали. Послышался шум падающей воды, а откуда — мешали разглядеть заросли.
Из гущи тростников вышли к наезженному броду у водосброса оросительного канала. Выше был пруд, куда вода подавалась из старой широченной гофрированной трубы. Вода тяжело изливалась в пруд, а в нем плескались с полдюжины совершенно голых мальчишек. Они увидели всадников у брода, увидели с ними девушку, но не обратили на них никакого внимания.
— Черт! — сказал Бойд.
Вжав каблуки в ребра коня, он пустил его вперед по песчаным отмелям. На девушку не оглядывался. Та с добродушным любопытством наблюдала за мальчишками. Оглянулась на Билли, потом обняла другой рукой талию Бойда, и они поехали дальше.
Когда доехали до стремнины, она сползла с конского крупа, взяла поводья и повела обоих коней на глубину. Потом расслабила на Бёрде латиго и осталась с конями ждать, пока они не напьются. Бойд сел на берегу, держа один сапог в руке.
— Что там у тебя? — сказал Билли.
— Да ничего.
Хромая, с сапогом в руке, он доковылял до галечного наноса, взял круглый камень, сел и, сунув руку в сапог, принялся колотить там камнем.
— У тебя гвоздь, что ли, вылез?
— Ага.
— Скажи ей, чтобы принесла ружье.
— Сам скажи.
Девушка тем временем стояла в реке с конями.
— Trigame la escopeta,[351] — крикнул ей Билли.
Она оглянулась. Обошла его коня с другого бока, вынула дробовик из кобуры и принесла. Он отстегнул защелку цевья, переломил ружье, вынул патрон и, отсоединив ствол, сел перед Бойдом на корточки.
— Вот, — сказал он. — Дай-ка попробую.
Бойд вручил ему сапог, он сел на землю, залез в голенище рукой и нащупал гвоздь. Потом сунул ствол в сапог казенной частью и подолбил, стараясь попасть по гвоздю подствольным крюком. Снова сунул руку, ощупал, а затем отдал сапог Бойду.
— Такие вещи иногда приводят к поганым последствиям, — сказал он.
Бойд натянул сапог, встал, прошелся туда-сюда.
Билли опять собрал ружье, большим пальцем впихнул патрон в патронник, защелкнул ствол и, поставив ружье на гальку вертикально, сел, держа его между колен. Девушка ушла обратно в реку к коням.
— Как думаешь, она их видела? — спросил Бойд.
— Кого это «их»?
— Тех голых мальчишек.
Взглянув на Бойда, Билли сощурился, тот стоял против солнца.
— Ну, — сказал он, — видела, наверное. Насколько мне известно, она со вчерашнего дня еще не ослепла напрочь, или как?
Бойд бросил взгляд туда, где посреди реки стояла девушка.
— Думаю, она не увидела ничего такого, чего бы не видала прежде, — сказал Билли.
— Что это должно значить?
— Да ничего не должно.
— Прямо так и не должно!
— Ничего это не значит. Бывает, люди видят других людей голыми, вот и все. И нечего ко мне опять цепляться. Ч-черт. Я сам видел в реке ту оперную диву. Она была голая, как чушка. Без ничего.
— Не ври.
— Вот не хватало еще врать! Она там купалась. И мыла голову.
— Когда ты успел-то?
— Она мыла волосы и отжимала их, выкручивала как тряпку.
— Что — совсем-совсем голая?
— Да совершенно, вообще. Голая, как чушка.
— А почему ты ни разу про это ничего не сказал?
— А тебе обязательно знать все?
Бойд постоял, кусая губы.
— И ты подошел и заговорил с ней, — сказал он.
— Чего-чего?
— Ну, ты так подошел, заговорил с ней. Как будто ничего такого и не видел.
— А что, по-твоему, надо было сделать? Сперва сказать, что я видел, как она стояла там голая, как чушка, а потом уже начинать разговор?
Бойд, перед этим только что присевший на корточки, снял шляпу и сел на гальку окончательно, держа шляпу перед собой в обеих руках. Окинул взглядом несущуюся реку.
— Так ты считаешь, нам, может, надо было там еще остаться?
— В том эхидо?
— Ага.
— И ждать, когда лошади нас сами найдут. Так, что ли?
Бойд не ответил. Билли встал и пошел прочь по галечной косе. Девушка вывела коней на берег, он вложил ружье в кобуру и оглянулся на Бойда.
— Ты как — ехать готов? — обратился он к брату.
— Ага.
Он подтянул на своем коне подпруги и принял у девушки поводья. Когда опять оглянулся на Бойда, тот продолжал сидеть на месте.
— Ну что у тебя опять?
Бойд медленно поднялся.
— Да нет, ничего, — сказал он. — Ничего нового, во всяком случае. Все то же самое. — Он бросил взгляд на Билли. — Ты меня понимаешь?
— Да, — сказал Билли. — Я тебя понимаю.
Через три дня пути они выехали к перекрестку со старой тележной дорогой — той, что начинается от Ла-Нортеньи в западных горах и пересекает плоскогорья Бабикоры, а дальше по ущелью Санта-Мария выводит к Намикипе. Погода стояла жаркая и сухая, так что всадники и их лошади к концу каждого дня становились под цвет дорожного полотна.
Сойдя с дороги, они через поля спустились к реке, Билли сбросил с коня седло и вьюки и, пока девушка занималась устройством лагеря, увел коней на реку, скинул сапоги и одежду и без седла въехал в реку, ведя коня Бойда за поводья, и сидел там голый, в одной шляпе, верхом, глядел, как дорожная пыль бледной полосой уплывает вниз по течению прозрачной холодной воды.
А кони пили. Иногда поднимали голову, оглядывали реку. Через некоторое время из леса на другой стороне реки выехал старик с парой волов, которых он погонял чем-то вроде жокейского стека. Волы были запряжены в единое самодельное ярмо — видимо, из тополя, потому что дерево так побелело на солнце, что казалось древней, выбеленной временем костью, в которую вставлены их шеи. Медленно, вперевалку они забрели в реку, посмотрели вверх по течению, потом вниз, потом на лошадей напротив и только после этого начали пить. Старик стоял около уреза воды и смотрел на голого мальчика на коне.
— Cmo le va?[352] — сказал Билли.
— Bien, gracias a Dios, — сказал старик. — Yusted?[353]
— Bien.[354]
Поговорили о погоде. О видах на урожай, насчет которого старик был большой дока, а мальчик полный профан. Старик спросил мальчика, кто он — небось бакеро? — и тот сказал, дескать, да, на что старик кивнул. Похвалил коней, сказал — хорошие, мол, кони. Это с первого взгляда видно. И перевел взгляд вдоль реки повыше, туда, где над их стоянкой в безветрии поднимался тонкий синий столбик дыма.
— Mi hermano,[355] — сказал Билли.
Старик кивнул. Одет он был в замызганную белую manta,[356] как и положено в этой стране, где крестьяне в полях выглядят грязными сумасшедшими, сбежавшими из какого-то всеобщего бедлама, чтобы воплотить свою бессмысленную ярость в медлительном битье мотыгами тела земли. Волы поднимали капающую морду из реки по очереди сперва один, потом другой. Старик вознес над ними свой стек, как будто в благословении.
— Le gustan,[357] — сказал он.
— Claro,[358] — сказал Билли.
Он продолжал смотреть, как они пьют. Спросил старика, с охотой ли работают волы. Подумав и взвесив его вопрос, старик сказал, что не знает. Сказал, что у волов ведь нет выбора. Окинул взглядом коней.
— А ваши лошади? — спросил он.
Мальчик сказал, что, по его мнению, лошади работают довольно охотно. А некоторым лошадям работа даже нравится. Им нравится работать с коровами. Сказал, что лошади этим отличаются от волов.
Вверх по реке пролетел зимородок, повернул, пощебетал, а потом опять куда-то над водой ринулся и улетел вдоль реки. Никто на него не взглянул. Старик сказал, что вол — это животное, близкое к Богу, это все знают, а молчаливость и задумчивость вола — это что-то вроде тени более великого молчания и глубокой мысли.
Билли поднял взгляд. Улыбнулся. И сказал, что мыслью вол постиг, по крайней мере, то, что надо работать, а то убьют и съедят, так что его задумчивость ему небесполезна.
Он тронул коня и вывел животных из реки. Карабкаясь на крутой галечный откос, они фыркали и выгибали шеи. Старик обернулся, стоит, держа свой стек на плече.
— Est lejos de su casa?[359] — спросил он.
На это мальчик ответил, что у него нет дома.
Лицо старика стало встревоженным. Он сказал, что какой-то же должен у него быть дом, но мальчик сказал, что нет. Старик сказал, что в этом мире у каждого должно быть какое-то место и он будет за мальчика молиться. Потом он вывел своих волов сквозь вётлы и платановую рощу в намечающиеся сумерки и вскоре скрылся из глаз.
Когда Билли вернулся к костру, уже почти стемнело. Встречать его поднялся пес, и девушка тоже вышла вперед принять лоснящихся, мокрых коней. Обойдя вокруг костра, он перевернул седло, поставленное туда сушиться.
— Она хочет в Намикипу, навестить мать, — сказал Бойд.
Билли стоял, смотрел на брата.
— Насколько я понимаю, она может идти, куда ей вздумается, — сказал он.
— Она хочет, чтобы и я с ней туда поехал.
— Хочет, чтобы с ней поехал ты?
— Ну да.
— Зачем?
— Не знаю. Иначе боится.
Билли уставился в угли.
— И ты этого тоже хочешь? — наконец сказал он.
— Нет.
— Тогда о чем мы тут лясы точим?
— Я сказал ей, что она может взять коня.
Билли медленно присел на корточки, уперся локтями в колени. Покачал головой.
— Не-ет, — сказал он.
— Иначе ей никак не добраться.
— А представляешь, какая хрень начнется, если ее кто-нибудь увидит верхом на краденом коне? Ч-черт. Да на любом коне!
— Он не краденый.
— Это поди разбери еще. А как ты собираешься получить его назад?
— Она приведет его обратно.
— Его и шерифа. Да и зачем ей куда-то делать ноги, если она собирается вернуться.
— Не знаю.
— И я не знаю. Мы такой путь проделали, чтобы добраться до этого коня.
— Я знаю.
Билли сплюнул в костер:
— Оно конечно, быть женщиной в этой стране врагу не пожелаешь. А что она собирается делать после того, как вернется?
Бойд не ответил.
— А она знает, в каком положении мы сами?
— Ага.
— Почему бы ей не поговорить со мной?
— Она боится, что ты ее бросишь.
— И поэтому хочет забрать коня.
— Ну да. Наверное.
— А если я не разрешу ей взять его?
— Мне кажется, она тогда все равно уйдет.