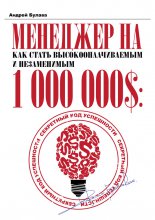7 историй для девочек Чарская Лидия

– Повытчик, запишите, – сказал председатель. – Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку у месье де Ла Моля.
– Нет, нет, – возразил Коконнас, – давайте не путать! Видел у Рене.
– Пусть будет – у Рене. Когда?
– Единственный раз, когда я и месье де Ла Моль были у Рене.
– Вы, значит, признаете, что вместе с месье де Ла Молем были у Рене?
– Я этого никогда и не скрывал.
– Повытчик, запишите: обвиняемый признался, что был у Рене в целях колдовства.
– Эй, эй! Потише, потише, господин председатель! Умерьте ваш пыл, будьте любезны, об этом я не говорил ни звука.
– Вы отрицаете, что были у Рене в целях колдовства?
– Отрицаю. Колдовство имело место случайно, без предварительного умысла.
– Но оно имело место?
– Я не могу отрицать того, что происходило нечто похожее на ворожбу.
– Повытчик, пишите: обвиняемый признался, что у Рене имела место ворожба против жизни короля.
– Как против жизни короля? Это мерзкая ложь! Никогда никакой ворожбы против жизни короля не было!
– Вот видите, господа, – сказал Ла Моль.
– Молчать! – приказал председатель; затем, обернувшись к повытчику, продолжал: – Против жизни короля. Записали?
– Да нет же, нет, – возразил Коконнас. – Да и статуэтка изображает вовсе не мужчину, а женщину.
– Что я вам говорил, господа? – вмешался Ла Моль.
– Месье де Ла Моль, вы будете отвечать, когда вас спросят, – заметил ему председатель, – но не перебивайте допрос других. Итак, вы утверждаете, что это женщина?
– Конечно, утверждаю.
– Почему же на ней корона и королевская мантия?
– Да очень просто, – отвечал Коконнас, – потому что она…
Ла Моль встал с места и приложил палец к губам. «Верно, – подумал Коконнас. – Но что бы такое рассказать, что удовлетворило бы господ судей?»
– Вы продолжаете настаивать, что эта статуэтка изображает женщину?
– Да, разумеется, настаиваю.
– Но отказываетесь говорить, кто эта женщина.
– Это моя соотечественница, – вмешался Ла Моль, – которую я любил и хотел, чтобы и она меня полюбила.
– Допрашивают не вас, месье де Ла Моль! – воскликнул председатель. – Молчите, или вам заткнут рот.
– Заткнут рот?! – воскликнул Коконнас. – Как вы сказали, господин в черном? Заткнут рот моему другу?.. Дворянину? Ну-ка!
– Введите Рене, – распорядился главный прокурор Лягель.
– Да, да, введите Рене, – сказал Коконнас, – посмотрим, кто будет прав: вы ли трое или мы двое…
Рене вошел, бледный, постаревший, почти неузнаваемый, согбенный под гнетом преступления, которое он собирался совершить, – еще более тяжкого, чем совершенные им раньше.
– Мэтр Рене, – спросил председатель, – узнаете ли вы вот этих двух обвиняемых?
– Да, месье, – ответил Рене голосом, выдававшим сильное волнение.
– Где вы их видели?
– В разных местах, в том числе и у меня.
– Сколько раз они у вас были?
– Один раз.
По мере того как говорил Рене, лицо Коконнаса все больше прояснялось; лицо Ла Моля, наоборот, оставалось строгим, как будто он предчувствовал дальнейшее.
– По какому поводу они были у вас?
Рене, казалось, поколебался на одно мгновение.
– Чтобы заказать восковую фигурку, – ответил он.
– Простите, простите, мэтр Рене, – вмешался Коконнас, – вы ошибаетесь.
– Молчать! – сказал председатель, затем, обращаясь к Рене, спросил: – Эта фигурка изображает мужчину или женщину?
– Мужчину, – ответил Рене.
Коконнас подскочил, как от электрического разряда.
– Мужчину?! – спросил он.
– Мужчину, – повторил Рене, но таким слабым голосом, что даже председатель едва расслышал его ответ.
– А почему у статуэтки на плечах мантия, а на голове корона?
– Потому, что статуэтка изображает короля.
– Подлый лжец! – воскликнул Коконнас в бешенстве.
– Молчи, молчи, Коконнас, – прервал его Ла Моль, – пусть говорит: каждый волен губить свою душу.
– Но не тело других, дьявольщина! – возразил Коконнас.
– А что обозначает стальная иголка в сердце статуэтки и буква М на бумажном флажке? – спросил председатель.
– Иголка уподобляется шпаге или кинжалу, буква М обозначает – смерть.
Коконнас хотел броситься на Рене и задушить его, но четыре конвойных удержали пьемонтца.
– Хорошо, – сказал прокурор Лягель, – для суда достаточно этих сведений. Отведите узников в камеры ожидания.
– Нельзя же, – воскликнул Коконнас, – слушать такие обвинения и не протестовать!
– Протестуйте, месье, никто вам не мешает. Конвойные, вы слышали?
Конвойные завладели двумя обвиняемыми и вывели их: Ла Моля – в одну дверь, Коконнаса – в другую.
Затем прокурор поманил рукой человека, которого Коконнас заметил в темной глубине залы, и сказал ему:
– Не уходите, мэтр, у вас будет работа в эту ночь.
– С кого начать, месье? – спросил человек, почтительно снимая колпак.
– С этого, – сказал председатель, показывая на Ла Моля, удалявшегося в сопровождении двух конвойных. Затем председатель подошел к Рене, который с трепетом ожидал, что его опять отведут в Шатле, где он был заключен.
– Прекрасно, месье, – сказал ему председатель, – будьте спокойны: королева и король будут поставлены в известность о том, что раскрытием истины в этом деле они обязаны только вам.
VIII. Испанские сапоги
Когда Коконнаса отвели в другую камеру, замкнули за ним дверь и он оказался наедине с самим собой, то весь подъем духа, который поддерживался в нем борьбой с судьями и злостью на Рене, сразу исчез, и грустные мысли стали тесниться одна вслед за другой.
«Мне думается, – говорил он сам с собой, – все оборачивается самым скверным образом, сейчас бы как раз время побывать в часовне. Того гляди, приговорят нас к смерти; а то, что они сейчас выносят нам смертный приговор, не подлежит сомнению. Побаиваюсь я этих смертных приговоров при закрытых дверях в крепости, да еще со стороны таких противных рож, как те, что сидели перед нами. Они серьезно намерены отрубить нам головы… Гм-гм!.. Я возвращаюсь к своей прежней мысли – пора идти в часовню».
За тихим разговором с самим собой наступила гробовая тишина, как вдруг ее прорезал жалобный, глухой, тягучий крик, совершенно непохожий на голос человека; казалось, он пробился сквозь толщу каменной стены и прозвенел в железных прутьях ее решеток. Коконнас невольно вздрогнул, несмотря на то что мужество у подобных храбрецов – чувство врожденное, как инстинкт хищных животных; он замер в том положении, в каком его застал этот страшный вопль, сомневаясь, возможен ли у человека такой крик. Коконнас приписывал его и вою ветра, пронесшегося по деревьям, и одному из многих ночных звуков, гуляющих в пространстве между неведомыми мирами, среди которых вертится наш мир. Но вот донесся новый вопль – сильнее, жалостнее первого; и на этот раз Коконнас не только ясно различил в нем человеческий крик боли, но, как ему показалось, узнал голос самого Ла Моля.
При звуке его голоса Коконнас забыл о том, что сидит за двумя дверьми, за тремя решетками и за стеной в двенадцать футов толщиной; он ринулся всем телом на стену, как будто собираясь повалить ее и броситься на помощь с криком: «Кого здесь режут?», но, ударившись об эту им забытую преграду, Коконнас отлетел к каменной скамье и рухнул на нее.
– О-о! Его убили! Это чудовищно! А здесь и нечем защищаться… никакого оружия!
Он стал шарить вокруг себя руками.
– Ага! Вот железное кольцо! – воскликнул он. – Вырву его – и горе тому, кто подойдет ко мне!
Коконнас встал, ухватился за кольцо и первым же рывком настолько расшатал его, что казалось, еще два таких усилия – и кольцо выскочит из стены.
Вдруг дверь отворилась, свет двух факелов ворвался в камеру, и тот же картавый голос, который еще наверху так не понравился Коконнасу, да и спустившись ниже на три этажа, не стал, по мнению пьемонтца, приятнее, – этот голос произнес:
– Идемте, месье, вас ожидает суд.
– Хорошо, – ответил Коконнас, выпустив из рук кольцо. – Я сейчас выслушаю приговор, не так ли?
– Да, месье.
– Уф, стало легче! Идем.
Коконнас последовал за приставом, который пошел вперед ковыляющей походкой, держа в руках черный жезл.
Хотя Коконнас в первую минуту и выразил удовольствие, он все же с беспокойством поглядывал вперед, назад и по сторонам.
«Эх! Что-то не видать моего почтенного тюремщика! – говорил себе Коконнас. – Признаться, очень неприятно, что его нет».
Все шествие проследовало в зал, откуда только что вышли судьи, кроме одного – оставшегося у стола. Коконнас сразу узнал в нем главного прокурора, который во время допроса неоднократно выступал, и всякий раз с явной неприязнью к подсудимым. Именно ему Екатерина поручила ведение процесса.
Отдернутая завеса давала возможность разглядеть всю комнату, дальняя часть которой терялась в сумраке, а освещенный передний план наводил такой страх, что у Коконнаса стали подгибаться ноги.
– О господи! – воскликнул он.
Этот крик ужаса вырвался у него недаром: картина была действительно зловещая. Зал, в большей своей части скрытый завесой на время заседания суда, теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отсветами на окружающие предметы и придавая еще более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между Коконнасом и жаровней. Около одного из каменных столбов, поддерживавших своды, стоял недвижно, точно статуя, какой-то человек, держа в руке веревку и прислонясь к столбу; казалось, он был высечен вместе со столбом из одного камня. По стенам, над каменными скамейками, промеж железных колец висели цепи и сверкала сталь орудий пытки.
– Ого! Зал пыток в полной готовности и как будто только ждет своей жертвы! – шептал Коконнас. – Что это значит?
– Марк-Аннибал Коконнас, на колени! – произнес чей-то голос, заставивший Коконнаса поднять голову. – Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор.
Инстинктивно все существо Коконнаса всегда противилось такого рода предложениям. Он и теперь готов был воспротивиться, но два человека налегли на его плечи так неожиданно, а главное, так крепко, что он сразу упал обоими коленями на каменный настил.
Голос продолжал:
– «Приговор суда, вынесенный в Венсенской крепости по делу Марка-Аннибала де Коконнас, обвиненного и уличенного в преступлении против его величества, а именно: в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особы короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу…»
На все эти обвинения Коконнас отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник.
Судья продолжал:
– «Принимая все вышеизложенное во внимание, суд постановил: препроводить означенного Марка-Аннибала де Коконнас из тюрьмы на площадь Сен-Жан-ан-Грев и там обезглавить, имущество его конфисковать, его строевые леса срубить до высоты в шесть футов, замки его разрушить и поставить на чистом поле столб с медной доской, на коей будут указаны его вина и наказание…»
– Что касается моей головы, – сказал Коконнас, – то, думается, ее действительно отрубят, потому что она – во Франции и даже слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и моих замков, то ручаюсь, что ни пилам, ни киркам христианнейшего королевства там делать будет нечего!
– Молчать! – приказал судья и стал продолжать чтение: – «Сверх того, означенный Коконнас…»
– Как? – прервал его Коконнас. – И, срубив мне голову, будут со мной еще что-то делать? О, это уж чересчур сурово.
– Нет, месье, – ответил председатель, – не после, а до… – И продолжал: – «Сверх того, означенный Коконнас до исполнения приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в десять клиньев».
Коконнас вскочил на ноги, сверкая глазами.
– Зачем?! – воскликнул он, не найдя, кроме этого наивного вопроса, других слов, чтобы выразить целый сонм мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу.
Действительно, пытка являлась для Коконнаса полным крушением его надежд: его отправят в часовню только после пытки, а от нее часто умирали, и умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание как на малодушие; а раз человек не делал признаний, то пытку не только продолжали, но и пытали более жестоко.
Председатель суда не удостоил Коконнаса ответом, так как конец приговора давал ответ вместо него, и продолжал читать:
– «Дабы заставить его раскрыть весь заговор, всех сообщников и все их козни во всех подробностях…»
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Ведь это же бессовестно! Даже не бессовестно, а подло!
Привыкший ко всяким выражениям ярости несчастных жертв – ярости, которую затем мучения превращают в слезы, – председатель безучастно сделал только знак рукой.
Коконнаса схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему веревками – и все это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, что совершал над ним насилие.
– Негодяи! – рычал Коконнас, так сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами палачи. – Негодяи! Пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но, клянусь, ничего вам не узнать! Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Валяйте, валяйте, я презираю вас!
– Повытчик, приготовьтесь записывать, – сказал председатель.
– Да, да, приготовляйся! – рычал Коконнас. – Будет тебе работа, если станешь записывать все, что скажу вам, мерзавцы, палачи! Пиши, пиши!
– Вам угодно сделать признания? – спросил так же спокойно председатель.
– Ни одного слова, ничего. К черту!
– Вы лучше поразмыслите, месье, покамест будут делаться приготовления. Мэтр, приладьте господину сапожки.
При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с веревкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Коконнасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу.
Это был мэтр Кабош, палач парижского судебного округа. Горькое изумление выразилось на лице Коконнаса, и, вместо того чтобы кричать и биться, он замер, будучи не в силах отвести глаз от лица этого забытого им друга, появившегося в такую страшную минуту.
Ни один мускул не дрогнул на лице Кабоша; ничем не показав, что он когда-либо встречал пьемонтца, и как будто увидев его впервые на станке, Кабош задвинул ему две доски меж голеней, а две такие же доски приложил к их внешней части, затем обвязал все, голени и доски, веревкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось «испанские сапоги».
При простой пытке забивалось шесть деревянных клиньев между внутренними досками, и доски, раздвигаясь, сплющивали мускулы. При пытке чрезвычайной забивали десять клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кости.
Закончив подготовку, мэтр Кабош просунул кончик клина между досками, стал на одно колено, поднял молот и выжидательно посмотрел на председателя суда.
– Будете вы говорить? – спросил председатель.
– Нет, – ответил Коконнас решительно, хотя пот выступил у него на лбу и волосы на голове зашевелились.
– Начинайте, – сказал председатель, – первый простой клин.
Кабош поднял над головой тяжелый молот и обрушил на клин страшный удар, издавший глухой звук.
Коконнас даже не вскрикнул от первого удара, обычно вызывавшего стоны у самых решительных людей. Больше того – на лице пьемонтца выразилось неописуемое изумление. Он с недоумением посмотрел на Кабоша, который стоял на одном колене вполоборота, спиной к председателю и, замахнувшись молотом, готов был повторить удар.
– Для чего скрывались вы в лесу? – спросил председатель.
– Чтобы посидеть в тени, – ответил Коконнас.
– Продолжайте, – сказал председатель Кабошу.
Кабош дал второй удар, издавший тот же звук. Но, так же как и при первом ударе, Коконнас даже не повел бровью и с тем же хмурым выражением взглянул на палача.
Председатель нахмурился.
– Ну и крепкий мужик! – пробурчал он. – Мэтр, до конца ли вошел клин?
Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, и, склоняясь над Коконнасом, шепнул ему:
– Кричите же, несчастный!
Затем, поднявшись, доложил:
– Да, до конца, месье.
– Второй простой, – хладнокровно распорядился председатель.
Слова Кабоша разъяснили все: благородный палач оказывал «своему другу» величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач, – вместо цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему меж голеней клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенные деревом. Этим он избавлял Коконнаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний, сверх того, он сохранял Коконнасу силы достойно взойти на эшафот.
– Добрый, хороший мой Кабош, – шептал Коконнас, – не бойся: раз это нужно, я заору так, что если будешь мною недоволен, то на тебя трудно угодить.
В это время Кабош просунул между краями досок второй клин, толще первого.
– Продолжайте, – сказал председатель. Кабош ударил так, точно собрался разрушить весь Венсенский замок.
– Ой-ой-ой! У-у-у! – заорал Коконнас на все лады. – Тысяча громов! Осторожней, вы ломаете мне кости!
– Ага! Второй сделал свое дело, – ухмыляясь, сказал председатель, – а то я уж начал удивляться.
Коконнас дышал шумно, как кузнечный мех.
– Так что же вы делали в лесу? – повторил вопрос председатель.
– А! Дьявольщина! Я уж сказал вам: дышал свежим воздухом!
– Продолжайте, – распорядился председатель.
– Признавайтесь, – шепнул Кабош.
– В чем?
– В чем хотите, хоть что-нибудь.
И Кабош дал второй удар, не слабее первого. Коконнас чуть не задохся от крика.
– Ох! Ой! Что вы хотите знать, месье? По чьему приказанию я был в лесу?
– Да, месье.
– Я был там по приказанию герцога Алансонского.
– Запишите, – распорядился председатель.
– Если я подстраивал ловушку королю Наваррскому и совершил этим преступление, – продолжал Коконнас, – так я был простым орудием, месье, я выполнял только приказание моего господина.
Повытчик принялся записывать.
«Ага, ты донес на меня, бледная рожа! – говорил про себя Коконнас. – Погоди же у меня, погоди!»
Он рассказал, как герцог Алансонский ходил к королю Наваррскому, как герцог виделся с де Муи, историю с вишневым плащом, – рассказал все, не забывая орать и время от времени давая повод возобновлять удары молотом.
Словом, он сообщил кучу всяких сведений, очень ценных, верных, неопровержимых и опасных для герцога Алансонского, делая вид, что дает эти сведения только из-за страшной боли. Коконнас так хорошо играл роль, так естественно гримасничал, выл, стонал на все лады, дал столько показаний, что наконец сам председатель испугался того количества позорных, особенно для принца крови, подробностей, которые по его же приказанию заносились в протокол пытки.
«Вот это ладно! – думал Кабош. – Моему дворянину не надо повторять одно и то же; уж и задал он повытчику работу. Господи Иисусе! А что бы было, кабы клинья были не кожаные, а деревянные?»
За эти признания Коконнасу простили последний клин чрезвычайной пытки; но и без него те девять клиньев, которые ему забили, должны были превратить его ноги в месиво.
Председатель подчеркнул, что смягчение приговора дано за признания Коконнаса, и вышел.
Коконнас остался наедине с Кабошем.
– Ну, как себя чувствуете, месье? – спросил Кабош.
– Ах, друг мой, мой хороший друг, милый мой Кабош! – сказал Коконнас. – Будь уверен, что я останусь признателен тебе… всю жизнь.
– Да-а! И будете правы, месье: кабы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я; но уж меня не пощадили бы, как пощадил вас я.
– Но как тебе пришло в голову устроить эти…
– А вот как, – говорил Кабош, обертывая Коконнасу ноги в окровавленные тряпки. – Я узнал, что вас арестовали, узнал, что над вами нарядили суд, узнал, что королева Екатерина добивается вашей смерти, догадался, что вас будут пытать, и принял нужные меры.
– Несмотря на то, что тебе грозило?
– Месье, вы единственный дворянин, который пожал мне руку, – ответил Кабош, – ведь у палача тоже есть память и душа, какой он там ни будь палач, а может быть, как раз оттого, что он палач. Вот завтра увидите, какая будет чистая работа.
– Завтра? – спросил Коконнас.
– Конечно, завтра.
– Какая работа?
– Как – какая? Вы, что же, забыли приговор?
– Ах да! Верно, приговор, – ответил Коконнас, – я и забыл.
В действительности Коконнас не забывал о приговоре, но занят был другим: воображал себе часовню, нож, спрятанный под покровом престола, Анриетту и королеву, дверь в ризнице и двух лошадей у опушки леса; он думал о свободе, о скачке по вольному простору, о безопасности за границей Франции.
– Теперь надо половчее переложить вас со станка на носилки. Не забудьте, что для всех, даже для моих помощников, у вас раздроблены ноги, и при каждом движении вы должны кричать.
– Ой, ой! – простонал Коконнас, увидев двух помощников палача, подходивших к нему с носилками.
– Ну, ну, подбодритесь, – сказал Кабош, – если вы стонете уже от этого, что же будет с вами сейчас?
– Дорогой Кабош, – взмолился Коконнас, – не давайте меня трогать вашим почтенным спутникам, будьте так добры… может быть, у них не такая легкая рука, как у вас.
– Поставьте носилки рядом со станком, – приказал Кабош.
Его помощники выполнили приказание. Мэтр Кабош поднял Коконнаса, как ребенка, и переложил на носилки; но, несмотря на всю его осторожность, Коконнас кричал благим матом. В эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарем в руке.
– В часовню, – сказал он.
Носильщики понесли Коконнаса, пожавшего мэтру Кабошу второй раз руку.
Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонтца, что от его предубеждений не осталось и следа.
IX. Часовня
Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъемным мостам крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовне, где на цветных окнах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов.
Коконнас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой. Вглядываясь в густую темь, он радовался всей обстановке, благоприятной для их побега.
В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли, все благоразумие, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидел у клироса, в трех шагах от алтаря, лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Ла Моль.
Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверьми часовни.
– Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас, – сказал Коконнас, придавая жалобный тон голосу, – то отнесите меня к моему другу.
Так как носильщики не получали на этот счет запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконнаса.
Ла Моль лежал сумрачный и бледный, прислонясь головой к мраморной стене; сильный пот придавал его бледному лицу тусклый оттенок слоновой кости, а смоченные п?том волосы имели такой вид, как будто они встали у него на голове и в этом состоянии остались.
Тюремщик рукой дал знак двум носильщикам, чтобы они сходили за священником, – это было условным сигналом бегства.
Коконнас с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими носильщиками; да и не один Коконнас следил за ними: едва носильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, всколыхнув воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой.
Маргарита кинулась к Ла Молю и обняла его. Ла Моль ответил тем диким воплем, какой долетел тогда в камеру пьемонтца и чуть не свел его с ума.
– Боже мой! Что такое?! – воскликнула Маргарита, в ужасе отстраняясь от Ла Моля.
Ла Моль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая ее видеть. Его молчание и этот жест перепугали Маргариту больше, чем его крик.
– Боже, что с тобой? – воскликнула она. – Ты весь в крови.
Коконнас, уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриетту, обернулся на ее слова.
– Вставай, вставай же, – говорила Маргарита, – разве ты не видишь? Пора бежать!
Горькая улыбка скользнула по бледным губам Ла Моля, хотя ему как будто и не пристало улыбаться.
– Дорогая королева! – сказал молодой человек. – Вы не учли, на что способна Екатерина. Меня пытали, у меня раздроблены все кости, мое тело – сплошная рана, а мои старания поцеловать вас в лоб причиняют мне такую боль, что легче смерть.
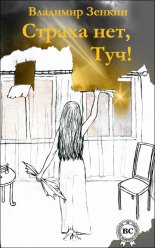

![Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/book/mini/29244.jpg)