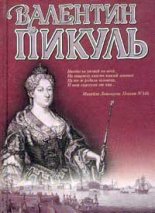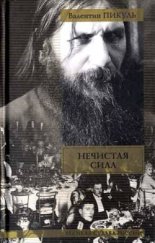Извлечение троих Кинг Стивен
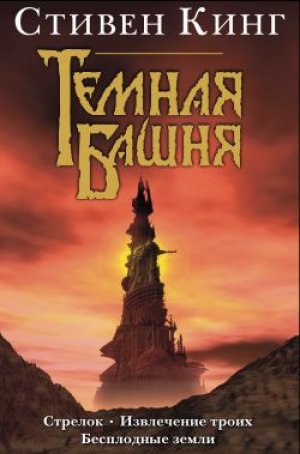
— Они, — Эдди указывает в сторону моря. — Дад-а-чак, дум-а-чум и все это дерьмо. По-моему, они вроде нас, Роланд: готовы сожрать всех и вся, но чтобы при том не сожрали тебя.
Внезапно, в жутком наплыве ужаса, Роланд понимает, что это за розовато-белое мясо, которым кормил его Эдди. Говорить он не может. Тошнота подступает к горлу, не давая прорваться голосу. Но по лицу его Эдди читает все, что Роланд не сумел сказать.
— А что, ты думал, я делал? — он едва ли не усмехается. — Позвонил в ресторан «Красный омар», чтобы прислали обед на дом?
— Они ядовитые, — шепчет Роланд. — Вот почему…
— Ага, вот почему ты сейчас hors de combat.[5] А я-то стараюсь, Роланд, дружище, чтобы ты не стал еще и hors d'oeuvre.[6] А что касается ядовитых тварей, то вот, скажем, гремучая змея, она ядовита тоже, но в некоторых странах ее едят. И она очень вкусная. Как цыпленок. Я где-то это читал. Для меня они выглядят как омары, вот я и решил попробовать. А что еще мы должны были кушать? Грязь? Я подстрелил одного чипиздрика и приготовил из него конфетку. Здесь ничего больше нет съедобного. И уж если на то пошло, то они очень даже вкусные. Каждую ночь, когда солнце только садилось, я подстреливал одного. Они не очень активны, пока совсем не стемнеет. И я ни разу не видел, чтобы ты отказался откушать.
Эдди улыбается.
— Мне нравилось думать, что, быть может, какой-то из тех, кого я подстрелил, сожрал Джека. Мне нравилось думать, что я ем этого мудака. У меня, знаешь ли, настроение поднималось.
— Какой-то из этих сожрал и кусок от меня, — выдавливает стрелок. — Два пальца с руки, один — с ноги.
— Тоже круто, — Эдди продолжает улыбаться. Лицо его, бледное, с заострившимися чертами, напоминает акулью морду… но он выглядит все же уже не таким больным, а этот запах не то дерьма, не то смерти, что окружал его плотным облаком, начинает, похоже, рассеиваться.
— Отымей себя в задницу, — хрипит стрелок.
— Роланд проявил силу духа! — вопит Эдди. — Может быть, все-таки ты не откинешь копыта! Дорогуша! Это же ве-ли-ко-леп-ненько!
— Выберусь, — говорит Роланд. Шепот его превращается в хрип. Горло дерет, как крюками.
— Да? — Эдди глядит на него, потом кивает и сам отвечает на свой вопрос. — Да. По-моему, ты выживешь. Хотя я уже пару раз думал, что ты кончаешься, а один раз мне показалось, что ты уже все. А теперь ты, похоже, выберешься. Это антибиотики помогли, но мне кажется, что ты сам себя вытащил. Но почему? Почему, мать твою, ты так стараешься выжить на этом долбанном берегу?
— Башня, — говорит он одними губами, не в силах выдавить даже хрип.
— А пошел ты со своей долбанной Башней, — говорит Эдди, уже отворачиваясь. Но тут же в изумлении поворачивается обратно, когда рука Роланда сжимает его запястье, точно стальные наручники.
Они смотрят друг другу в глаза, и Эдди говорит:
— Ну хорошо. Хорошо!
— На север, — шепчет стрелок одними губами. — На север, я говорил уже. Говорил? Кажется, да. Но все как будто в тумане, затерялось в тасуемой колоде.
— Откуда ты знаешь? — кричит Эдди в отчаянии, поднимает кулаки будто бы для того, чтобы ударить Роланда, но потом опускает.
Просто знаю — зачем ты тратишь время мое и силы, задавая дурацкие вопросы? — хочет ответить Роланд, но карты снова...
Перетасовка.
А его тащат по берегу. Голова его беспомощно переваливается из стороны в сторону. Он привязан к какой-то странной волокуше своими же собственными ремнями. Волокушка подпрыгивает и глухо ударяется о землю. Стрелок слышит, как Эдди Дин распевает какую-то жутко знакомую песню, и сперва ему кажется, что ему снится бредовый сон:
— Heyy Jude… don't make it bad… take a sad song… and make it better…
Где ты слышал ее, Эдди? — хочет он спросить. — Может быть, я ее пел? И где мы?
Но не успел он спросить, как все закружилось
перетасовка
Если бы Корт такое увидел, он бы снес парню голову, — думает Роланд, глядя на волокушку, на которой провел этот день, и смеется. Но смех его больше похож на плеск волн, набегающих на каменистый пляж. Он не знает, как далеко они с Эдди продвинулись, но все же достаточно далеко, чтобы Эдди выдохся окончательно. Сейчас, в сумеречном свете уходящего дня, Эдди сидит на камне с револьвером стрелка на коленях, а рядом валяется полупустой бурдюк. Карман рубахи его оттопырен. Там — патроны из задней части патронташа: сокращающийся запас «хороших». Эдди обмотал их куском, оторванным от своей рубахи. Но запас этот таял быстро, потому что каждый четвертый или пятый патрон из «хороших» на поверку оказывался пустышкой.
Эдди, который только что засыпал, поднимает голову:
— Чего ты ржешь?
Стрелок трясет искалеченною рукою и качает головой. Потому что он понимает, что был неправ. Корт не стал бы сносить Эдди голову за эту убогую кривенькую волокушку. Роланд думает даже, что Корт бы его похвалил — причем хвалил он так редко, что мальчик, с которым подобное происходило, даже не знал, что ответить: он лишь хлопал глазами и открывал рот, как рыба, только что вытащенная из воды.
Каркасом для волокушки служили две тополиные ветви, примерно одинаковой длины и ширины. Скорее всего, бурелом, — предположил стрелок. Каркас поддерживали ветки поменьше, которые Эдди закрепил посредством всего, что имелось в наличии: ремнями патронташа, клейкой лентой, которой он прикрепил к телу мешочки с бес-порошком, даже сыромятным шнурком от шляпы стрелка и шнурками своих кроссовок. Поверх веток он положил одеяло Роланда.
Корт не стал бы дубасить Эдди, потому что, несмотря на свою слабость, Эдди, по крайней мере, не плюхнулся на задницу и не принялся оплакивать злую судьбу. Он решил сделать хотя бы что-то. Он попытался.
И Корт наверняка похвалил бы Эдди, в своей обычной манере — едва ли не грубо, потому что какой бы дикой ни выглядела эта штука, она сработала. И тому доказательство — долгие следы, протянувшиеся до самого берега, где они сходились в перспективе в единую точку.
— Ты их видишь? — спрашивает Эдди. Солнце спускается за горизонт, расплескивая по воде оранжевую дорожку, и стрелок соображает, что на этот раз он был в отключке часов шесть, если не больше. Он окреп и сам это чувствует. Он садится и смотрит на воду. Ни берег, ни пейзаж, простирающийся до западного склона гор особенно не изменились, разве что только в деталях: например, комочек перьев, шевелящихся на ветру — мертвая птица ярдах в двадцати слева и в тридцати ярдах от кромки воды. Но, помимо таких мелочей, они как будто и не сдвигались с места.
— Нет, — говорит стрелок. И чуть погодя: — Да. Вон там один.
Он показывает. Эдди всматривается и кивает. Солнце спускается ниже, и оранжевая дорожка на море постепенно окрашивается в цвет крови, первые омарообразные чудища выходят из волн и расползаются по каменистому берегу.
Двое неуклюже несутся наперегонки к дохлой чайке. Победитель набрасывается на нее, перерезает клешней пополам и начинает запихивать в пасть гниющие останки.
— Дид-а-чик? — вопрошает он.
— Дуд-а-чум? — отзывается второй. — Дод-а…
БА-БАХ!
Револьвер Роланда обрывает расспросы второго чудовища. Эдди спускается к нему и поднимает за хвост, не сводя настороженного взгляда с его собрата. Тот, однако, не доставляет ему никаких проблем: он занят чайкой. Эдди приносит добычу. Чудище еще корчится, воздевая и опуская свои клешни, но вскоре оно замирает. В последний раз выгибается хвост, а потом просто падает — не опускается. Вяло повисают клешни.
— Кушать сейчас будет подано, масса, — говорит Эдди. — Выбирайте: филе из ползучего гада клешнистого или филе из клешнистого гада ползучего. Что вам больше понравится, масса.
— Я тебя не понимаю, — отвечает стрелок.
— Все ты понимаешь, у тебя просто нет чувства юмора. Куда оно делось?
— Отстрелили, наверное, где-нибудь на войне.
Эдди улыбается:
— Сегодня ты вроде уже оживаешь, Роланд.
— Мне тоже так кажется.
— Ну, тогда, может, ты завтра сумеешь немного пройтись. Сказать по правде, дружище, я уже заколебался тебя тащить.
— Я постараюсь.
— Да уж, пожалуйста, постарайся.
— Ты тоже сегодня выглядишь получше. — На последних двух словах голос Роланда ломается, как у мальчишки. Если я сейчас не замолчу, еще думает он, я скоро совсем не смогу говорить.
— Сдается мне, я буду жить, — Эдди безо всякого выражения глядит на Роланда. — Ты ведь даже не знаешь, как близко я подходил к этой черте пару раз. Однажды я взял один из твоих револьверов и на полном серьезе приложил его к голове. Взвел курок, подержал так немного, а потом отложил. Осторожненько освободил курок и засунул обратно тебе в кобуру. А ночью меня скрутило. Спазмы, судороги… По-моему, на вторую ночь, хотя не уверен. — Он качает головой и добавляет фразу, которую стрелок понимает и в то же время не понимает: — Теперь Мичиган для меня — как сон.
Хотя голос его опять падает до хриплого шепота, и сам он знает, что ему нельзя разговаривать, Роланд задает вопрос, потому что ему нужно знать:
— Почему ты не нажал на курок?
— Ну, видишь ли, это теперь — мои единственные штаны, — отвечает Эдди. — А в последнюю секунду я вдруг подумал, что если сейчас я нажму на курок, а это окажется очередная пустышка, я уже больше в жизни не наберусь смелости повторить этот опыт… а если ты наложил в штаны, нужно немедленно их постирать, иначе будешь вонять до конца дней своих. Это Генри мне так говорил. Он научился этому во Вьетнаме. А поскольку как раз была ночь, и Омар Лестер пошел на прогулку, не говоря уж о всех его родственниках и приятелях…
Но стрелок уже хохочет, хохочет от души, хотя с губ его срывается только трескучий хрип. Эдди сам улыбается и говорит:
— Кажется, в той войне твое чувство юмора отстрелили только по локоть.
Он встает, чтобы сходить к холмам за дровами.
— Погоди, — шепчет Роланд, и Эдди ждет. — И все-таки, почему?
— Потому, наверное, что я тебе нужен. Если бы я себя кокнул, ты бы пропал без меня. Ты бы точно коньки откинул. Потом, когда ты действительно встанешь на ноги, я, может, попробую еще раз. — Он смотрит по сторонам и глубоко вздыхает. — Может быть, где-нибудь в твоем мире есть Дисней-Ленд или Кони-Айленд, но то, что я вижу сейчас, меня не особенно вдохновляет.
Он делает шаг, но медлит и оглядывается на Роланда. Лицо его мрачно и хмуро, но уже без болезненной бледности. Его больше уже не трясет, разве что иногда.
— Иногда ты меня абсолютно не понимаешь, да?
— Да, — шепчет стрелок. — Иногда — нет.
— Тогда я тебе разъясню. Есть люди, которым нужно быть нужными другим людям. Ты меня не понимаешь, потому что ты — не такой человек. Сначала ты мною воспользуешься, а потом выбросишь, как ненужный бумажный пакет, к тому все и идет. Ну и пошел ты подальше, дружище. Ты — натура достаточно тонкая, чтобы тебе из-за этого было больно, и все же — достаточно крепкая, чтобы идти напролом и использовать тех, кто рядом, если так будет нужно. Не из-за того, что ты такой мерзавец. Ты просто не сможешь иначе. Если я буду валяться тут на берегу и вопить о помощи, ты просто перешагнешь через меня, если я вдруг окажусь между тобой и твоей чертовой Башней. Я ведь правильно излагаю?
Стрелок молчит и только смотрит на Эдди.
— Но не все люди такие. Есть люди, которым нужно, чтобы они были нужны другим. Как в той песне Барбары Стрейзанд. Банально, быть может, но верно. Просто еще один способ зависнуть на кайфе.
Эдди пристально смотрит на Роланда.
— Но, уж если на то пошло, ты у нас чистенький, правда?
Роланд молча глядит на Эдди.
— Если не считать Башни. — Эдди издает короткий смешок. — Ты наркоман, Роланд. Твой наркотик — Башня.
— Какая это была война? — шепчет Роланд.
— Что?
— На какой войне тебе отстрелили твое чувство благородства и чести?
Эдди вздрагивает, как будто Роланд влепил ему пощечину.
— Пойду принесу воды, — говорит он сухо. — Ты присматривай за этими клешнистыми и ползучими. Сегодня мы отошли далеко, но я так до сих пор и не понял, разговаривают они друг с другом или нет.
Он отворачивается, но Роланд еще успевает увидеть последние отблески алого солнца, отразившиеся на его мокрых щеках.
Роланд смотрит на берег. Роланд наблюдает. Омароподобные чудища ползают и вопрошают, вопрошают и ползают, но все как будто бесцельно: они разумны, но не настолько, чтобы передавать информацию своим собратьям.
Иной раз Бог карает исподтишка, не в открытую, думает он. Не часто, но иногда так бывает.
Эдди приносит дрова.
— Ну? — говорил он. — И что ты думаешь?
— У нас все в порядке, — хрипит стрелок, и Эдди что-то ему отвечает, но стрелок устал, и ложится на спину, и смотрит на первые звезды, что пробиваются сквозь фиолетовую завесу ночного неба, и...
Перетасовка.
За последующие три дня стрелок потихонечку выздоравливал. Красные полосы, расползавшиеся вверх по рукам, сперва поползли обратно, потом поблекли, потом исчезли. Назавтра он попробовал идти сам, хотя Эдди иногда приходилось тащить его. А уже на второй день его вообще не нужно было волочить: каждый час или два они делали небольшой привал, чтобы ноги его отдохнули. Именно во время этих коротких передышек и по вечерам, перед сном, когда ужин был съеден, а костер еще не догорел, стрелок услышал историю Генри и Эдди. Поначалу он все удивлялся, почему между братьями такие сложные отношения, но когда Эдди начал рассказывать, постоянно запинаясь и срываясь на гнев пополам с обидой, который обычно проистекает из затаенной глубокой боли, Роланду хотелось его перебить и сказать: «Не волнуйся так, Эдди. Я все понимаю».
Но он не стал, потому что Эдди бы это не помогло. Он говорил не для того, чтобы хотя бы словами воскресить мертвого брата. Он говорил для того, чтобы похоронить Генри с миром и чтобы напомнить себе, что хотя Генри мертв, он, Эдди, еще жив.
Поэтому стрелок слушал молча.
Суть очень проста: Эдди был убежден, что он не дает Генри жить. А Генри был убежден, что он не дает жить Эдди. Генри дошел до этого сам или, быть может, из-за частых нотаций, которые мама читала Эдди и суть которых сводилась к тому, что она с Генри жертвует для него очень многим, чтобы Эдди было безопасно в этих каменных джунглях, чтобы Эдди был счастлив, насколько вообще человек может быть счастлив в этих каменных джунглях, чтобы Эдди не кончил так же, как его бедняжка сестричка, Эдди, конечно, ее почти и не помнит. Она была такой славной, хорошенькой, Боже, прими ее душу. Она сейчас в раю, в окружении ангелочков, там ей замечательно, но маме не хочется, чтобы Эдди сейчас оказался у ангелочков, чтобы его сбил какой-нибудь пьяный водитель, как его сестричку, или чтобы его прирезал какой-нибудь чокнутый наркоман, за какие-то жалкие двадцать пять центов выпустил ему кишки, и они растекались бы по асфальту, а поскольку она уверена, что и сам Эдди тоже не хочет попасть к ангелочкам, то ему лучше слушаться старшего брата и не забывать, что ради любви к нему Генри жертвует многим.
Эдди признался Роланду, что мама даже и не подозревала о многом, что они вместе с Генри творили: как они воровали комиксы из кондитерской на Ринкон-авеню или как курили у стены фабрики на Кеухос-стрит.
Однажды они увидели «шевроле» с ключами внутри, и хотя Генри едва ли знал, как водить машину — ему тогда было шестнадцать, а Эдди восемь, — он втащил брата в автомобиль и сказал, что они поедут в Нью-Йорк Сити. Эдди перепугался и разревелся, Генри тоже испугался, разозлился на Эдди и стал кричать на него, чтобы он заткнулся, чтобы не был таким гребаным сосунком, что у него есть десять баксов, и у Эдди тоже есть доллара три-четыре, что они могут смотреть кино хоть целый день, а потом на подземке приедут домой, мама даже не успеет накрыть к ужину стол и хватиться их. Но Эдди продолжал реветь, а у моста Квинсборо на боковой улице они заметили полицейскую машину, и хотя Эдди был абсолютно уверен, что коп даже не посмотрел в их сторону, он ответил «Да», когда Генри спросил его вдруг охрипшим голосом, засек ли их легавый. Генри весь побледнел и, выскочив из машины, понесся так, что едва не сбил пожарный кран. Он пробежал уже с квартал, а Эдди, тоже запаниковав, еще никак не мог справиться с незнакомою дверной ручкой. Генри остановился, вернулся и вытащил Эдди из машины. А еще влепил две оплеухи. Обратно в Бруклин они шли пешком — вернее, не шли, а крались. Добрались они уже к вечеру, а когда мама спросила, почему они оба такие потные, запыхавшиеся и измотанные, Генри ответил, что весь день учил Эдди играть в баскетбол на площадке в соседнем квартале, а потом заявились какие-то большие парни, и они убежали. Мама поцеловала Генри, улыбнулась Эдди и спросила, разве у него не самый лучший на свете старший брат? Эдди с ней согласился охотно и искренне. Он и сам так думал.
— В тот день он был перепуган не меньше меня, — сказал Эдди Роланду, когда они сидели, глядя на отблески заходящего солнца, пляшущие на поверхности воды, где скоро будет отражаться только свет звезд. — Действительно, перепуган, потому что он думал, что тот коп видел нас, а я знал, что — нет. Он поэтому и побежал. Но потом вернулся. Это самое главное. Он вернулся.
Роланд молчал.
— Ведь ты понимаешь? — Эдди пристально и вопросительно поглядел на Роланда.
— Я понимаю.
— Он перетрусил, но он вернулся. И всегда возвращался.
Роланд подумал, что было бы лучше для Эдди, а в перспективе, быть может, лучше для них обоих, если бы Генри тогда не вернулся… тогда или в любой другой раз. Но такие, как Генри, всегда возвращаются, потому что такие, как Генри, знают, как использовать человеческое доверие. Это — единственное, чем такие, как Генри, умеют пользоваться. Сначала они обращают доверие в необходимость, потом — необходимость в наркотик, а когда это случается, они — как там Эдди это назвал? — загоняют. Да. Загоняют наркотики. Загоняют доверие.
— Я, наверное, буду спать, — сказал стрелок.
На следующий день Эдди продолжил рассказ, но Роланд уже все знал наперед. В школе Генри не ходил ни в какую спортивную секцию, потому что не мог оставаться после уроков на тренировке. Генри надо было заботиться о Эдди. Тот факт, что Генри был не в меру тощим, несобранным, с плохою координацией и вообще не особенно интересовался спортом, не имел, разумеется, никакого значения; Генри мог бы стать замечательным баскетболистом или бейсболистом, как постоянно твердила им мать. Оценки у Генри всегда были низкими, и ему приходилось по нескольку раз повторять материал, но все это не потому, что Генри был тупарем. Эдди и миссис Дин знали, что Генри ужасно умный и сообразительный мальчик. Просто Генри приходится тратить так много времени, заботясь о брате, в частности — и того времени, которое он мог бы посвятить школе и выполнению домашних заданий (тот факт, что забота о брате проявлялась обычно в том, что они оба сидели на диване в гостиной и смотрели телик или боролись в той же гостиной на полу, во внимание тоже не принимался). Плохие оценки означали, что Генри не примут ни в один университет, за исключением Нью-Йоркского, но его не взяли даже туда, а потом был призыв и его загребли во Вьетнам, где ему отстрелили колено, и боль была жуткой, и чтобы унять ее, Эдди давали морфий, а когда ему стало лучше, ему перестали давать наркотик и вроде бы отучили его от морфия, только не слишком-то хорошо, и Эдди вернулся в Нью-Йорк «с обезьяною на закорках», голодною обезьяной, которую нужно было кормить, и через пару месяцев он пошел «встретиться с одним парнем», а еще месяца через четыре, вскоре после смерти мамы, Эдди впервые увидел, как его брат вдыхает с зеркальца какой-то белый порошок. Эдди решил, что это кокаин. Но оказалось, что — героин. И если вернуться к самому началу, то чья в том вина?
Роланд молчал, вслушиваясь в голос Корта, вдруг зазвучавший в его мозгу. — «Вина, запомните, малыши, всегда лежит в одном месте: на человеке достаточно слабом, чтобы нести ее бремя».
Когда правда раскрылась, Эдди сначала был в шоке, потом взбесился. Генри ответил ему не обещанием прекратить это дело, а просьбою не винить его: да, он знает, что у него в голове повредилось, что Вьетнам превратил его в бесполезный мешок с дерьмом, что он слаб, он уйдет, это лучше всего, Эдди прав, зачем ему в доме какой-то вонючий наркоман. Он просто надеется, что Эдди не будет его винить. Он стал слабаком, это он признает: что-то во Вьетнаме его сломало, что-то в нем сгнило, как сгнивают от сырости шнурки кроссовок. Вот и во Вьетнаме есть что-то такое, с чем соприкоснувшись, сердце твое начинает гнить, говорил со слезами Генри. Он просто надеется, что Эдди не забудет про все те годы, когда он пытался быть сильным.
Ради него — Эдди.
Ради мамочки.
Так что Генри попытался уйти. И, само собой, Эдди ему не позволил. Эдди терзался виною. Он видел этот зарубцевавшийся ужас на когда-то здоровой ноге, колено, где тефтона было больше, чем кости. Они долго орали друг на друга в коридоре. Генри стоял в своих старых хаки с набитою сумкой в руках и багровыми кругами под глазами, Эдди — только в пожелтевших жокейских шортах. Генри кричал: «Я тебе не нужен, Эдди, я тебе отравляю жизнь, и я это знаю». Эдди вопил: «Ты никуда не пойдешь, возвращайся немедленно, шевели своей задницей». И так продолжалось, пока в коридор не выскочила миссис Мак-Гюрски и заорала сама дурным голосом: «Уходи, оставайся, меня это не волнует, только давай — соображай поживее, иначе я вызываю полицию». Она, похоже, хотела добавить еще пару пассажей, но тут вдруг заметила, что на Эдди нет ничего, кроме трусов, и, фыркнув: «Как неприлично, Эдди Дин!», — скрылась за дверью. Как чертик в коробочке, только в обратном порядке. Эдди взглянул на Генри. Генри взглянул на Эдди. «Как Пупс-Ангелочек, только слегка располневший», — сказал Генри, понизив голос, и они расхохотались, повиснув друг на друге, и Генри вернулся в квартиру, а еще через пару недель Эдди и сам тоже нюхал и никак не мог уразуметь, почему он из этого делал такую большую проблему, ведь они просто нюхают, черт, и балдеют, как говорит Генри (которого Эдди теперь про себя называет великим мудрецом и выдающимся наркоманом), в мире, который летит сломя голову в ад, как же не словить кайф напоследок?
Прошло время. Эдди не сказал — сколько. Стрелок не спросил. Он догадался, что Эдди знал, что есть тысячи оправданий и ни одной причины «ловить кайф» и что он держал это свое пристрастие под строгим контролем. И что Генри тоже сумел взять свое под контроль. Не так хорошо, как Эдди, но все же достаточно, чтобы эта пагубная привычка не поглотила его целиком. Потому что, если Эдди и не понимал (а в глубине души Роланд знал, что Эдди должен был понимать), то уж Генри-то понял, что теперь они поменялись ролями. Теперь Эдди держал Генри за ручку, когда они переходили улицу.
И вот пришел день, когда Эдди застал брата за тем, что он не нюхал уже, а кололся. Последовал очередной истерический спор, почти слово в слово повторивший первый, только теперь — в спальне у Генри. И закончился он почти так же. Генри плакал, и каялся, и защищался, и эта его неумолимая, неоспоримая защита была точно полное поражение, безоговорочная капитуляция: Эдди прав, такому, как он, вообще нельзя жить на свете, он недостоин даже подбирать отбросы из мусорных баков. Он уйдет. Эдди больше никогда его не увидит. Он только надеется, что Эдди не забудет…
Голос его растворился в глухом бормотании, чем-то похожем на шелест волн, набегающих на каменистый берег. Роланд молчал — он знал всю историю наперед. Это Эдди ее не знал, и только теперь, когда впервые за десять, когда не больше, лет в голове у него прояснилось, он потихонечку начал осознавать. Эдди рассказывал не для Роланда, а для себя.
И это — правильно. Чего-чего, — думал Роланд, а уж времени у них вдоволь. И разговор помогает его скоротать.
Эдди сказал, что ему не давало покоя колено Генри, шрам, идущий по всей ноге (все, конечно, давно зажило, Генри только чуть-чуть прихрамывал… и только когда они с Эдди ссорились, хромота становилась заметнее), ему не давало покоя все то, в чем Генри когда-то себе отказал ради него, и еще его мучила одна мысль, уже более прагматичная: Генри нельзя оставлять одного на улице. Он там не выживет. Как кролик, которого запустили в джунгли, где полно тигров. Предоставленный сам себе, Генри загремит в кутузку, не пройдет и недели.
Так что Эдди упрашивал, и Генри в конце концов оказал ему эту милость и согласился остаться, а спустя где-то полгода Эдди тоже начал колоться. С того момента все неминуемо понеслось вниз по крутой спирали вплоть до поездки Эдди на Багамы и вторжения Роланда в его жизнь.
Другой бы на месте Роланда, будь он чуть менее прагматичным и более склонным к самоанализу, непременно спросил (если не вслух, то хотя бы себя): Почему он? Почему все началось с этого человека — такого слабого, такого чужого и даже, может быть, обреченного?
Но стрелок не только не задал такого вопроса — ничего подобного ему и на ум не пришло. Вот Катберт бы точно спросил. Катберт всегда задавал вопросы, он был отравлен вопросами и умер тоже с вопросом на устах. Теперь их нет. Никого не осталось. Последние питомцы Корта, тринадцать стрелков, которые продержались в классе, куда первоначально пришло пятьдесят шесть человек. Теперь они все мертвы. Все, кроме Роланда. Он — последний стрелок в этом мире, который стал затхлым, пустым и стерильным.
Тринадцать — плохое число, несчастливое, говорил им Корт накануне Церемонии Представления. А назавтра, впервые за тридцать лет, Корт не присутствовал на Церемонии. Его последние ученики пришли к его дому, чтобы, как подобает, преклонить перед ним колена, подставляя незащищенные шеи, потом подняться, принять поздравительный поцелуй и вручить учителю свои револьверы, чтобы он их в первый раз зарядил. Через девять недель Корт умер. Поговаривали, что от яда. А два года спустя началась последняя гражданская война. Кровавая резня докатилась до последнего бастиона цивилизации, света и здравомыслия, и смела все то, что им — наивным — казалось незыблемым, так же легко и небрежно, как морская волна смывает замок из песка, выстроенный ребенком.
Он остался последним. Может быть, он потому и выжил, что практичность и простота оттеснили в его натуре темную романтику. Он понял, что только три вещи имеют значение: смерть, ка и Башня.
Вполне достаточно, чтобы занять все мысли.
Эдди закончил свой долгий рассказ примерно в четыре часа на третий день их дороги на север по лишенному всяких примет берегу. Берег, казалось, совсем не менялся. Чтобы убедиться в том, что они не стоят на месте, приходилось смотреть на восток — налево. Там прежде зазубренные пики гор теперь сгладились и потихонечку опускались. Вполне вероятно, что еще дальше на севере они превратятся в пологие холмы — надо только дойти.
Закончив рассказ, Эдди замолчал надолго. Полчаса, если не больше, они прошли, не обмолвившись ни единым словом. Эдди искоса поглядывал на Роланда и даже не сознавал, что стрелок замечает его взгляды: он все еще был погружен в себя. Роланд знал, чего Эдди ждет от него: ответа. Какого-нибудь ответа. Любого ответа. Дважды Эдди открывал рот, но так ничего и не сказал. Стрелок знал, что он хочет спросить, и наконец Эдди спросил:
— Ну? И что ты думаешь?
— Я думаю, что ты здесь.
Эдди остановился, уперев руки в боки:
— И это все? Все?
— Это все, что я знаю, — ответил стрелок. Пальцы, которых не было, зачесались и разболелись. Сейчас ему очень бы не помешало еще астина из мира Эдди.
— У тебя что, никаких мыслей нету о том, что, мать твою, все это значит?
Стрелок мог бы поднять искалеченную правую руку и сказать, А у тебя есть какие-то мысли о том, что это значит, ты, тупой идиот, но ему даже и в голову не пришло ничего подобного, точно так же, как и задаться вопросом, почему из всех людей во вселенной ему в спутники достался именно Эдди.
— Это ка, — сказал он, спокойно глядя на Эдди.
— Что еще за ка? — Эдди был раздражен и зол. — Никогда о таком не слышал. Разве что если произнести это дважды, то получится слово, как дети дерьмо называют.
— Об этом я ничего не знаю, — сказал стрелок. — Здесь оно обозначает долг, или судьбу, или предназначение, или, если простым языком, место, куда тебе нужно пойти. Куда ты должен пойти.
Эдди удалось изобразить, как будто он одновременно испуган, испытывает крайнее отвращение и забавляется от души:
— Тогда скажи его дважды, Роланд, потому что по мне все равно это звучит как дерьмо.
Стрелок пожал плечами.
— Я не силен в философских проблемах. И историю я не учил. Я знаю только, что прошлое — это прошлое, а будущее — это будущее. То, что ждет тебя впереди, и есть ка, и оно как бы само в себе и ничему не подвластно.
— Да? — Эдди поглядел на север. — Все, что, я вижу, ждет меня впереди, это около девяти миллиардов миль этого странного берега. Если это — ка, значит ка и кака — одно и то же. У нас еще, может быть, хватит хороших патронов, чтобы подстрелить пять-шесть этих омарообразных уродов, а потом нам придется кидать в них камнями. Так что куда мы идем?
Роланд еще про себя подумал, а задавал ли Эдди хоть раз этот вопрос своему брату, но спросить сейчас об этом означало начать долгий и бессмысленный спор, поэтому он сказал только, указывая на север:
— Для начала — туда.
Эдди смотрел и не видел ничего, кроме все того же серого берега, покрытого ракушками и камнями. Он повернулся обратно к Роланду, собираясь уже отпустить какое-нибудь язвительное замечание, но, увидев суровую уверенность у него на лице, опять повернулся смотреть. Он прищурился. Прикрыл рукой правую половину лица от лучей заходящего солнца. Ему отчаянно хотелось увидеть хоть что-нибудь, что-нибудь, черт, пусть даже мираж, но там не было ничего.
— Можешь думать обо мне все, что угодно, — медленно проговорил он, — но я считаю, что это трюк подлый, нечестный. Там, у Балазара, я ради тебя рисковал своей жизнью.
— Я знаю, — стрелок улыбнулся. Он вообще улыбался редко, и эта улыбка осветила его лицо, точно внезапный луч солнца в ненастный день. — Вот почему я поступил с тобой честно, Эдди, и не стал тащить тебя с собой силой. Она здесь. Я увидел ее еще час назад. Я сначала подумал, что это мираж или игра моего воображения, но она здесь. Без дураков.
Эдди опять повернулся туда и смотрел, пока на глаза не навернулись слезы. Наконец он сказал:
— Я ничего не вижу, только этот проклятый пляж, а зрение у меня нулевое.
— Я не знаю, что это значит.
— Это значит, что если бы там что-то было, я бы это увидел! — И все-таки он сомневался. Кто знает, как далеко видит Роланд своими суровыми голубыми глазами. Может быть, только чуть дальше, чем Эдди.
А может быть, дальше, чем просто чуть-чуть.
— Ты увидишь ее, — пообещал стрелок.
— Что я увижу?
— Сегодня мы до нее не доберемся, но если зрение у тебя хорошее, как ты говоришь, ты увидишь ее до того еще, как диск солнца коснется воды. Если только не будешь стоять тут на месте и щелкать пастью.
— Ка, — съязвил Эдди.
Роланд кивнул совершенно серьезно:
— Ка.
— Кака, — добавил Эдди и рассмеялся. — Пойдем, Роланд. Предпримем экскурсию. И если я ничего не увижу до того, как диск солнца коснется воды, ты меня угощаешь цыпленком. Или Биг-Маком. Чем угодно, только не омаром.
— Пойдем.
Они зашагали вперед, и еще где-то за час до того, как солнце коснулось линии горизонта, Эдди разглядел вдали какой-то непонятный силуэт — смутный, едва проступающий, как сквозь туман, почти и неразличимый, но все-таки там что-то было. Что-то новенькое.
— О'кей, — сказал он. — Я вижу. У тебя зрение, наверное, как у Супермена.
— Как у кого?
— Ладно, проехали. Мы имеем тяжелый клинический случай культурного отставания.
— Чего?
Эдди расхохотался.
— Ладно, проехали. Это что?
— Увидишь.
И стрелок двинулся дальше, прежде чем Эдди успел спросить что-нибудь еще.
Минут через двадцать Эдди решил, что он действительно видит. А еще через четверть часа он уже был абсолютно уверен. До этой штуки на берегу оставалось еще две-три мили, но он уже понял, что это. Дверь. Ну конечно. Еще одна дверь.
В ту ночь они спали плохо и наутро отправились в путь где-то за час до того, как пики гор явственно проступили в дымке рассвета. Они добрались до двери одновременно с первыми лучами солнца — такого спокойного и надменного. Эти лучи, словно лампы, осветили их щеки, заросшие многодневной щетиной, и в беспощадном их свете стрелку снова было сорок, а Эдди казался не старше того Роланда, который вышел на бой с Кортом со своим оружием — соколом Давидом.
Эта дверь была точно такой же, как первая, только надпись на ней гласила:
ГОСПОЖА ТЕНЕЙ
— Ну вот, — тихо вымолвил Эдди, глядя на дверь, которая просто стояла на берегу, а петли ее крепились к какому-то неведомому косяку в проеме между двумя мирами, между двумя вселенными. Она стояла со своим высеченным сообщением, реальная, как скала, непонятная, как свет звезд.
— Ну вот, — согласился стрелок.
— Ка.
— Ка.
— И отсюда ты должен извлечь второго из своей тройки?
— Похоже на то.
Стрелок понял, что собирается сделать Эдди, еще до того, как Эдди сам это осознал. Он увидел, как Эдди рванулся вперед, еще до того, как он сам сдвинулся с места. Роланд мог бы вывернуть руку Эдди и сломать ее в двух местах, Эдди бы и не понял сначала, что произошло, но он даже не шевельнулся. Мало того: он позволил Эдди выхватить револьвер из правой своей кобуры. В первый раз в жизни Роланд позволил, чтобы кто-то прикоснулся к его оружию без разрешения. И все же он даже не шевельнулся, чтобы остановить это святотатство. Он лишь спокойно, едва ли не мягко, взглянул на Эдди.
Напряженное лицо Эдди так и пылало. Белки его выпученных глаз, казалось, горят. Он держал тяжелый револьвер обеими руками, и все равно дуло дрожало, мотаясь из стороны в сторону.
— Открывай, — сказал он.
— Ты ведешь себя глупо, — голос стрелка оставался спокойным. — Мы с тобой оба не знаем, куда ведет эта дверь. Вовсе не обязательно, что она откроется в твою вселенную, не говоря уж о том, чтобы — в твой мир. Откуда нам знать, может быть, у Госпожи Теней восемь глаз и девять рук, как у Шивы. И даже если она откроется в твой мир, то, быть может, мы выйдем в далекое прошлое, задолго до твоего рождения, или в далекое будущее.
Эдди натянуто улыбнулся.
— Вот что я тебе скажу, приятель: я более чем с охотою променяю резинового цыпленка и этот отпуск на засраном пляже на то, что меня ожидает за Дверью N 2.
— Я не понимаю…
— Я знаю, что ты не врубаешься. Это значения не имеет. Просто открой эту хреновину.
Стрелок покачал головой.
Они стояли в лучах рассвета, и косая тень от двери тянулась к волнам отлива.
— Открывай! — заорал Эдди. — Я пойду с тобой! Ты въезжаешь? Я пойду с тобой! Это не значит, что я потом не вернусь. Может быть, я вернусь. То есть, скорее всего, я вернусь. Ты не думай, я не забыл, что ты для меня сделал. Но пока ты будешь там разбираться с этой теневой куколкой, я собираюсь зайти в ближайшую «Чикен-делайт» и взять там цыпленка на вынос. Думаю, для начала сойдет «Семейный коробок» на тридцать кусочков.
— Ты останешься здесь.
— Думаешь, я шучу? — Эдди, казалось, сейчас взорвется. Стрелок почти воочию увидел, как тот заглянул в колышущиеся глубины своего проклятия. Эдди взвел курок древнего револьвера. С рассветным отливом ветер с моря затих, и в тишине явственно щелкнул затвор. — Давай проверим.
— Давай проверим.
— Я тебя пристрелю! — заорал Эдди.
— Ка, — твердо проговорил стрелок, повернулся к двери и потянулся к ручке. Сердце его замерло в ожидании: жизнь или смерть?
Ка.
ГОСПОЖА ТЕНЕЙ
Глава 1. ДЕТТА И ОДЕТТА
Если не вдаваться в профессионализм, Адлер однажды сказал: идеальный шизофреник — если таковой вообще существует в природе — это такой человек, который не только не подозревает о существовании своей второй личности, но и пребывает в блаженном неведении о том, что с ним, или с ней, творится что-то не то.
Адлер не был знаком с Деттой Уокер и Одеттой Холмс.
— …последний стрелок, — закончил Эндрю.
Он говорил уже долго, но Эндрю всегда говорит, а Одетта обычно настраивает себя так, что речи его просто стекают с ее сознания, как вода в душе стекает по телу и волосам. Но сейчас эти слова не просто захватили ее внимание — оно зацепилось, как за колючку.
— Прошу прощения?
— А, просто в газете статья, — сказал Эндрю. — Даже понятия не имею, кто ее написал. Как-то не обратил внимания. Ну этот, политик… Может, вы знаете, мисс Холмс. Я любил его, я даже плакал, когда его выбрали…
Одетта улыбнулась, невольно растрогавшись. Эндрю как-то сказал, что его бесконечная болтовня — это что-то такое, чего он остановить не может, и что он за нее не отвечает, это лезет наружу его ирландская душа, да он и болтает все больше по пустякам: клохтает и стрекочет о родных и друзьях, которых Одетта не знает и никогда не узнает, отпускает недозрелые политические замечания, рассуждает о всяких жутких и таинственных феноменах, коммментируя столь же таинственные источники (помимо всего прочего, Эндрю непоколебимо верит в летающие тарелки, которые он называет «юфиками» или «вражинами»), — но эти слова действительно ее тронули, потому что она сама плакала в тот день выборов.
— Но я не плакал, когда этот сукин сын… простите за мой французский, мисс Холмс… когда этот сукин сын Освальд его застрелил, и с тех пор я вообще не плакал… уже месяца, поди, два будет?
Три месяца и два дня, — подумала Одетта.
— Ну да, где-то так.
Эндрю кивнул.
— А вот вчера я прочел эту статью… вроде бы в «Дейли Ньюс»… о том, что из Джонсона тоже получится неплохой президент, но это будет уже не то. Тот парень, который статью написал, говорит, что Америка проводила последнего в мире ковбоя, последнего стрелка.
— А мне кажется, что Джон Кеннеди никакой не стрелок, — кажется, голос ее прозвучал сейчас резче, чем привык Эндрю (а так, наверное, и было, потому что Одетта увидела в зеркальце заднего вида, как он испуганно моргнул, скорее даже — поморщился), именно потому, что она тоже растрогалась. Абсурдно, но факт. Что-то было такое в этой фразе — Америка проводила последнего стрелка, — что запало ей в душу. Это неправильно, несправедливо — Джон Кеннеди был миротворцем, а не этаким парнем в скрипучей коже в духе Малыша Билли и в традициях Барри Голдуотера, — и все же от этих слов у нее по коже прошли мурашки.
— А еще этот парень писал, что в стреляльщиках недостатка не будет, — продолжал Эндрю, нервно поглядывая на Одетту в зеркальце заднего вида. — В этом смысле упоминает он Джека Руби, потом еще Кастро, и дятла этого на Гаити…