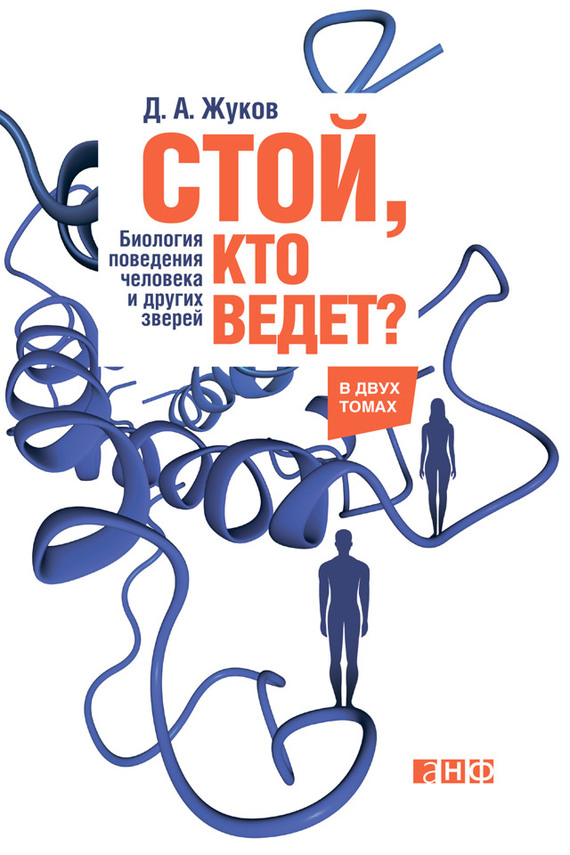Теллурия Сорокин Владимир

I
– Пора трясти стены кремлевские! – Зоран сосредоточенно бродил под столом, тюкая кулачком по ладошке. – По-ра! Пор-ра!
Горан подпрыгнул, вскарабкался на лавку, сел и стал привычно покачивать ножками в стареньких сапожках. Горбоносое, низколобое, окаймленное ровной бородой лицо его излучало спокойную уверенность.
– Не трясти, а сокрушать, – произнес он. – И не стены, а головы гнилые.
– Как тыквы, как тык-вы! – Зоран ударил кулачком по ножке стола.
– Сокрушим.
Горан доказательно вытянул руку, ткнув пальцем в дымный смрад пакгауза. А там, словно по команде этого крошечного перста, двое больших, громоподобно ухнув утробами, сняли с пылающей печи стоведерный тигель расплавленного свинца и понесли к опокам. Шаги их босых ножищ сотрясли пакгауз. На столе звякнул в подстаканнике пустой стакан человеческого размера.
Зоран стал неловко карабкаться на высокую лавку. Не прекращая болтать ногами, Горан помог ему. Зоран перелез с лавки на стол, выпрямился, подошел к краю и встал, вцепившись ручками в лацканы своего короткого пальто. Узкие глазки его вперились в тигель, рыжеватые космы колыхались от доходящего сюда жара печи.
Большие поднесли тигель к опокам, наклонили. Свинец, шипя и гудя, хлынул в широкий желоб, подняв клубы серого дыма, от желоба сразу разбежались пронзительно-белые свинцовые ручейки, десятки, десятки ручейков – и заструились, закапали в опоки. Полуголые, потные большие в своих брезентовых фартуках плавно клонили тигель.
Свинец тек и растекался, исчезая в земляного цвета опоках, тек и растекался. Зоран и Горан смотрели: один – напряженно стоя на краю стола, другой – побалтывая ножками на лавке. Чудовищные мышцы на руках больших взбугрились и блестели от пота. Клубы дыма поднимались к дыре в потолке пакгауза. “На великое дело…” – подумал Зоран. “Мать сыра земля…” – вспомнил Горан.
Тигель все клонился и клонился. Казалось, этому не будет конца. Глазки Зорана заслезились. Но он не моргал и не вытирал их.
Наконец свинцовая лава иссякла. Большие с грохотом опустили тигель на каменный пол.
Зоран вытер глаза ладошками, Горан достал трубку, стал раскуривать.
– Молодцы, товарищи! – изо всех сил выкрикнул Зоран, силясь перекричать шум печи.
Но большие не услышали. Раздвигая своими огромными телами смрад наспех обустроенной плавильной, они двинулись в угол, взяли по ведру и стали жадно пить. Выпив ведра по три, они сняли фартуки, натянули на себя свои хламиды и подошли к столу. Фигуры их загородили плавильню. Тени больших упали на Зорана и Горана.
– Мо-лод-цы! – повторил Зоран, блестя довольными глазками. Лицо его сияло даже в тени больших.
Горан, попыхивая трубкой, влез на стол, кривоного подошел, встал рядом.
Большие молча протянули к маленьким свои огромные ладони с коричневатыми наростами мозолей. Горан достал из кармана куртки две сторублевых купюры и неспешно положил на каждую ладонь. Один большой сразу сжал сторублевку в кулаке и сунул кулак в карман. Другой поднес купюру к лицу, сощурил и без того заплывшие глаза.
– Хорошая? – произнесли его губищи.
– Хорошая, – усмехнулся Горан, обнажая прокуренные зубы.
– Самая что ни на есть хорошая, большой товарищ! – приободрил его Зоран. – Спасибо тебе от трудовой Москвы!
– Мы вас еще позовем, – пыхнул дымом Горан.
Большой крякнул, убрал сторублевку. И снова протянул ладонь. Зоран и Горан уставились на нее. Большие смотрели на маленьких. Ладонь большого напомнила Зорану Россию, не так давно еще простиравшуюся от Смоленска до самых Уральских гор. Эту страну московит Зоран видел только на изображениях. Большой словно дразнил его.
“Россию в кармане носит?” – мелькнуло в голове Зорана. “Тролли залупить решили”, – подумал Горан.
Прошло несколько мучительных секунд. Рыжие брови Зорана стали вызывающе изгибаться, рука Горана потянулась к карману. Но вдруг большие, озорно крякнув, размахнулись и хлопнули друг друга по ладоням.
Звук был оглушающ для маленьких.
Маленькие вздрогнули.
Большие рассмеялись. Смех их загрохотал в гофристой крыше пакгауза.
– Шутка? – вскинул брови Зоран.
– Шутка… – угрюмо кивнул Горан.
Большие развернулись и зашагали к двери. Подошли. Согнулись. На карачках по очереди пролезли в дверь. Дверь захлопнулась.
– Шутники, а? Хорошие ребята! – Зоран возбужденно заходил по столу, хватаясь за лацканы.
– Хорошие… – процедил Горан и вытянул из кармана куртки дорогой молниевый разрядник. – Я уж думал их подзарядить…
Он сплюнул. Рассмеялся, пройдясь своей кривоногой, словно готовящей к древнему танцу, походкой. И вдруг резко пнул одиноко стоящий стакан человеческого размера. Тот слетел со стола, теряя подстаканник, звякнул по лавке, рассыпался осколками.
– Пойдем, пойдем, глянем! – засуетился Зоран, полез вниз.
– Еще горячие. Путь остынут.
– Глянем, глянем, пока люди не пришли!
Они слезли на пол, подошли к опокам. Их было двадцать. Горану они напомнили старую капиталистическую фильму про инопланетных чудовищ, откладывающих такие вот землистые яйца-коконы. Из этих яиц потом вылуплялись какие-то неприятные твари.
Зоран подбежал к ящику с инструментом, схватился было за кувалду, но не смог ее даже сдвинуть с места. Нашел молоток, поднял над головой как знамя, побежал к опокам.
– Р-раз! – с разбега он ударил по опоке.
Отлетели кусочки.
– Р-раз! Два! Три! – Зоран бил яростно, настойчиво, как в последний раз.
“Вот так он и выступает…” – сумрачно подумал Горан, выбил трубку об опоку, стал ковырять в ней пустым теллуровым гвоздем, вычищая.
Зоран, быстро уставший, протянул ему молоток. Горан спрятал трубку и стал бить по опоке – неспешно и сильно.
С шестого удара опока треснула, посыпалась. Внутри сверкнуло литье. Маленькие принялись ногами крушить опоку. Новое, исходящее паром литье с лязгом вывалилось на пол: четыре десятка кастетов. Горан вытянул из ящика железный прут, подцепил горячий, дымящийся кастет, поднял.
– Прек-расно! – сощурился Зоран. – Народное оружие! Пра-виль-ное!
Он протянул свою ручку, растопырил пальцы, примеряясь. Кастет был предназначен для среднего класса, то есть для обыкновенных людей. Большому, отлившему эти кастеты, он стал бы перстнем на мизинце, маленькому, оплатившему эту отливку, кастет не пришелся бы впору даже на ногу.
– Восемьсот, – напомнил Горан.
– Это восемьсот сокрушителей! Это сила!
– Восемьсот героев, – серьезно кивнул Горан.
– Восемьсот мертвых упырей! – потрясал кулачками Зоран.
В кармане у Горана запищала умница. Отбросив прут с кастетом, он достал ее, растянул перед собой привычно резким движением, словно гармонь. В полупрозрачной умнице возникла голова средневекового витязя.
– Большие ушли, клопсов нет, – доложил рыцарь.
– Люди? – спросил Горан.
– Здесь.
– Пятерками.
– Понял.
Горан убрал умницу. Зоран, вцепившись в свое пальто, нетерпеливо заходил вокруг пустого тигля. Горан достал трубку, подпрыгнул, сел на опоку.
“И жопу погреет…” – подумал он и, набивая трубку, спросил:
– Вторую отливку… когда?
– Накануне! – Зоран шлепнул ладошкой по тигелю. – На-ка-нуне!
– Вождю виднее, – кивнул Горан.
Через двадцать три минуты в дверь без стука вошли пятеро людей пролетарского вида с сумками и рюкзаками.
II
My sweet, most venerable boy(My sweet, most venerable boy – Мой сладостный, предосточтимый мальчик (англ.).), вот я и в Московии. Все произошло быстрее и проще обычного. Впрочем, говорят, въехать в это государство гораздо легче, чем выехать из него. В этом, так сказать, метафизика этого места. Но к черту! Мне надоело жить слухами и догадками. Мы, радикальные европейцы, предвзяты и насторожены к экзотическим странам лишь до момента проникновения. Проще говоря – до интимной близости. Которая у меня уже произошла. Поздравь старого тапира! Да. Прелестный шестнадцатилетний moskovit сегодня ночью стал теми самыми узкими вратами, через которые я вошел в местную метафизику. После этой ночи я многое узнал о московской этике и эстетике. Все вполне цивильно, хоть и не без дичи: парень, например, перед нашей близостью завесил полотенцами оба зеркала в моем номере, погасил свет и затеплил свечку. Которую принес с собой. Я же (не сердись) позволил подкрепить свои усилия теллуром. А утром услышал (и подсмотрел), как прелестный Fedenka продолжительно молился в ванной комнате, стоя на коленях перед маленькой раскладной иконкой, отлитой из меди (skladen), которую он водрузил в углу душевой кабины на полочку вместо шампуня. Это было трогательно до такой степени, что, наблюдая в щель этого коленопреклоненного Адониса, одетого в одни лишь клетчатые трусики, я неожиданно возжелал. Что случается со мной по утрам, как ты хорошо знаешь, крайне редко! Не дождавшись окончания молитвы, я вломился в ванную, обнажил престол моего наложника и проник в его глубины своим требовательным языком, вызвав удивленный возглас. Дальнейшее представимо… Скажу тебе вполне искренне, мой друг, это прекрасно, когда день начинается с молитвы. Такие дни почти всегда удаются и запечатлеваются в памяти. И мой первый день в Московском государстве не стал исключением. Расплатившись с кареглазым Fedenka (3 рубля за ночь + 1 рубль за утро = 42 фунта), я довольно сносно позавтракал в моем недорогом отеле Slavyanka (чай из samovar, sirniki со сметаной, kisel, булки, мед) и отправился на прогулку. Погода удалась – ясно, солнечно, свежо. В столице Московии стоит ядреный октябрь, на немногочисленных деревьях еще желтеют листья. Ты знаешь, я не любитель достопримечательностей как таковых и никогда не был туристом. Твой друг любит все пробовать на язык (не хмыкай, циник!), не доверяя вкусу толпы. На первый вкус Москва мне не очень понравилась: сочетание приторности, нечистоплотности, технологичности, идеологичности (коммунизм + православие) и провинциальной затхлости. Город кишит рекламой, машинами, лошадями и нищими. Если говорить гастрономически, Москва – это okroshka. Особая тема – воздух. В Москве на газе и электричестве ездят только государственные мужи и богатеи. Простой народ и общественный транспорт обходится биологическим топливом. В основном это картофельная пульпа, благо картофелем со времен Екатерины II Московия не обеднела. Собственно, этот картофельный выхлоп и сообщает тамошнему воздуху приторно-затхлый привкус, распространяющийся на все вокруг. И когда пробуешь на язык главные московские блюда – Кремль, Большой театр, собор Василия Блаженного, Царь-пушку, – этот не очень, скажем, аппетитный соус портит картину и оставляет неаппетитное послевкусие. Но, повторяю, это только в первый день. На второй я уже привык, как привык к вони Каира, Мадраса, Венеции, Нью-Йорка, Бухареста. Увы, дело не в запахе. Просто Москва – странный город. Да, странный город со своей неповторимой странностью. И меньше всего его хочется назвать столицей. Это трудно объяснить тебе, никогда здесь не бывавшему и вполне равнодушному к местной истории. Но я все-таки попытаюсь, благо сейчас у меня еще полтора часа до приезда картофельного такси, должного увезти меня в аэропорт Внуково. Итак, смысла нет рыться в дореволюционной истории Российской империи, являвшей миру азиатско-византийскую деспотию в сочетании с неприлично безразмерной колониальной географией, суровым климатом и покорным населением, большая часть которого вела рабский образ жизни. Гораздо интереснее век двадцатый, начавшийся с мировой войны, во время которой монархический колосс Россия зашатался, затем вполне естественно накатила буржуазная революция, после чего он стал валиться навзничь. Вернее – она. Россия – женского рода. Имперское сердце ее остановилось. Если бы она, эта прекрасно-беспощадная великанша в алмазной диадеме и снежной мантии, благополучно рухнула в феврале 1917-го и развалилась на несколько государств человеческого размера, все оказалось бы вполне в духе новейшей истории, а народы, удерживаемые царской властью, обрели бы наконец свою постимперскую национальную идентичность и зажили свободно. Но все пошло по-другому. Великанше не дала упасть партия большевиков, компенсирующая свою малочисленность звериной хваткой и неистощимой социальной активностью. Совершив ночной переворот в Санкт-Петербурге, они подхватили падающий труп империи у самой земли. Я так и вижу Ленина и Троцкого в виде маленьких кариатид, с яростным кряхтением поддерживающих мертвую красавицу. Несмотря на “лютую ненависть” к царскому режиму, большевики оказались стихийными неоимпериалистами: после выигранной ими гражданской войны труп переименовали в СССР – деспотическое государство с централизованным управлением и жесткой идеологией. Как и положено империи, оно стало расширяться, захватывая новые земли. Но чистым империалистом новой формации оказался Сталин. Он не стал кариатидой, а просто решил поднять имперский труп. Это называлось kollektivizacia + industrializacia. За десять лет он сделал это, поднимая великаншу по методу древних цивилизаций, когда под воздвигаемое изваяние последовательно подкладывались камни. Вместо камней Сталин подкладывал тела граждан СССР. В результате имперский труп занял вертикальное положение. Затем его подкрасили, подрумянили и подморозили. Холодильник сталинского режима работал исправно. Но, как известно, техника не вечно служит нам, вспомни твой прекрасный красный BMW. Со смертью Сталина началось размораживание трупа. С грехом пополам холодильник починили, но ненадолго. Наконец телеса нашей красавицы оттаяли окончательно, и она снова стала заваливаться. Уже поднимались новые руки и постсоветские империалисты были готовы превратиться в кариатид. Но здесь наконец к власти пришла мудрая команда во главе с невзрачным на первый взгляд человеком. Он оказался великим либералом и психотерапевтом. На протяжении полутора десятка лет, непрерывно говоря о возрождении империи, этот тихий труженик распада практически делал все, чтобы труп благополучно завалился. Так и произошло. После чего в распавшихся кусках красавицы затеплилась другая жизнь. Так вот я, my dear Todd, нахожусь сейчас в Москве – бывшей голове великанши. После постимперского распада Москва прошла через многое: голод, новая монархия + кровавая oprichnina, сословия, конституция, МКП, парламент. Если попытаться определить нынешний режим государства Московии, то я бы назвал его просвещенным теократокоммунофеодализмом. Каждому свое… Но я пустился в этот исторический экскурс лишь затем, чтобы попытаться объяснить тебе странную странность этого города. Вообрази, что ты, заброшенный провидением на остров великанов, застигнут непогодой и вынужден переночевать в черепе давно усопшего гиганта. Промокший и продрогший, ты забираешься в него через глазницу и засыпаешь под костяным куполом. Легко представить, что сон твой будет наполнен необычными сновидениями не без героического (или ипохондрического) гигантизма. Собственно, Москва – это и есть череп империи русских, а странная странность ее заключена в тех самых призраках прошлого, кои мы именуем “имперскими снами”. Вдобавок они еще пропитаны картофельным выхлопом. Сны, сны… Россия во все времена вела спящий образ жизни, пробуждаясь ненадолго по воле заговорщиков, бунтарей или революционеров. Войны тоже долго не мучили ее бессонницей. Почесавшись со сна в беспокойных местах своего тела, великанша заворачивалась в снега и засыпала снова. Храп ее сотрясал дальние губернии, и тамошние чиновники тоже тряслись, ожидая грозного столичного ревизора. Она любила и умела видеть цветные сны. А вот реальность ее была сероватой: хмурое небо, снега, дым отечества вперемешку с метелью, песня ямщика, везущего осетров или декабристов… Похоже, просыпалась Россия всегда в скверном настроении и с головной московской болью. Москва болела и требовала немецкого аспирина. И все-таки в этом городе при всей его пафосно-государственной неказистости есть своя прелесть. Это прелесть сна давно умершего великого государства, который вдруг приснился тебе. И вот она-то как раз трудноописуема, так как русский государственный сон имеет свой неповторимый… и т. д. Поэтому я не буду более тратить твое внимание и энергию своих подагрических пальцев, а по приезде постараюсь рассказать и показать тебе если и не всю Москву, то хотя бы Tsar-pushka. В нашей заслуженной постели. В общем, я доволен поездкой. В мой старый фамильный глобус можно воткнуть очередную булавку. Зимой слетаем с тобой к сладеньким вьетнамским пупсикам. А по весне навестим послевоенную Европу. Перед приездом такси я еще успею выкурить papirosa и выпить немного русской клюквенной водки.
До встречи в родном неоимперском черепе, полном мозгового тумана и англосаксонской трезвости.
Yours,
Leo
III
Аще взыщет Государев топ-менеджер во славу КПСС и всех святых для счастья народа и токмо по воле Божьей, по велению мирового империализма, по хотению просвещенного сатанизма, по горению православного патриотизма, имея прочный консенсус и упокоение душевное с финансовой экспертизой по капиталистическим понятиям для истории государства российского, имеющего полное высокотехнологическое право сокрушать и воссоединять, воззывать и направлять, собраться всем миром и замастырить шмась по святым местам великого холдинга всенародного собора и советской лженауки, по постановлению домкома, по стахановским починам всенародных нанотехнологий Святаго Духа, в связи с дальнейшим развертыванием демократических мероприятий в скитах и трудовых коллективах, в домах терпимости и детских учреждениях, в съемных хазах и упакованных хавирах, в стрелецких слободах и строительных кооперативах, в редакциях многотиражных газет, в катакомбных церквах, в ратных единоборствах, в коридорах власти, в генных инкубаторах, на шконках в кичманах, на нарах и парашах в лагерях нашей необъятной Родины по умолчанию к буферу обмена, знающего, как произвести некоммерческое использование и недружественное поглощение, как эффективно наехать, прогнуть, отжать, отметелить, опустить и замочить в сортире победоносную славу русского воинства в свете тайных инсталляций ЦК и ВЦСПС, сокрушивших лютых ворогов и черных вранов всего прогрессивного человечества комсомольским бесогоном аффилированной компании через правильных пацанов православного банка, сохраняющего и приумножающего империалистические традиции богатырского хайтека в особых зонах народного доверия на берегах великой русской реки, в монашьих кельях и в монарших передовицах, в коммунистических малявах и в богословских объявах, в сексуальных постановлениях и в черных бюджетах, в отроцех невинноубиенных за валютные интервенции, за хлеб и за соль, за шепот и за крик, за семо и овамо, за президентский кортеж, за зоологический антисоветизм, за белую березу под моим окном, за пролетарский интернационализм, за хер и за яйца, за доллары и за евро, за смартфоны седьмого поколения, за вертикаль власти и за надлежащее хранение общака, наперекор земле и воле, назло черному переделу и белому братству для неустанного духовного подвига андроидов, пенсионеров, национал-большевиков, хлеборобов, ткачей, полярников, телохранителей, гомосексуалистов, политтехнологов, врачей, антропогенетиков, боевиков, серийных убийц, работников культуры и сферы обслуживания, стольничих и окольничих, стриптизеров и стриптизерш, оглашенных и глухонемых, тягловых и дворовых, старых и молодых, всех честных людей, гордо носящих имена Василия Буслаева, Сергия Радонежского и Юрия Гагарина, ненавидящих врагов фальсификаторов русской истории, неутомимо борющихся с коммунизмом, православным фундаментализмом, фашизмом, атеизмом, глобализмом, агностицизмом, неофеодализмом, бесовским обморачиванием, виртуальным колдовством, вербальным терроризмом, компьютерной наркоманией, либеральной бесхребетностью, аристократическим национал-патриотизмом, геополитикой, манихейством, монофизитством и монофелитством, евгеникой, ботаникой, прикладной математикой, теорией больших и малых чисел за мир и процветание во всем мире, за Царство Божие внутри нас, за того парня, за Господа Иисуса Христа, за молодоженов, за свет в конце тоннеля, за День опричника, за подвиг матерей-героинь, за тех, кто в море, за академиков Сахарова и Лысенко, за Древо Жизни, за БАМ, КАМаз и ГУЛАГ, за Перуна, за гвоздь теллуровый, за дым отечества, за молодечество, за творчество, за иконоборчество, за ТБЦ, за РПЦ, за честное имя, за коровье вымя, за теплую печку, за сальную свечку, за полный стакан, за синий туман, за темное окно, за батьку Махно во имя идеалов гуманизма, неоглобализма, национализма, антиамериканизма, клерикализма и волюнтаризма ныне и присно и во веки веков. Аминь.
IV
В четверть седьмого она вышла из подъезда своего дома, и сердце мое сжалось: впервые увидев ее издали, я был потрясен, я не мог предположить, что она столь хрупка и миниатюрна, даже уже и не школьница, а почти Дюймовочка, девочка из давно написанной сказки, чудесный эльф в серенькой шапочке и коротеньком черном плаще, идущий ко мне по Гороховскому переулку.
– Здравствуйте! – Ее голосок, мальчишеский, грубовато-очаровательный, который я не спутаю ни с каким другим, который звучал в телефонной трубке всю эту нелепую, проклятую, резиново тянущуюся неделю, чуть не сведшую меня с ума, неделю нашей мучительной, идиотской невстречи.
Мои руки тянутся к ней, прикасаются, трогают, держат. Я хочу убедиться, что она не призрак, не голограмма в громко мнущемся плаще.
– Здравствуйте, – повторяет она, наклоняя голову и исподлобья глядя на меня чудесными зелено-серыми глазами. – Что же вы молчите?
А я молчу. И улыбаюсь как идиот.
– Долго ждать изволили?
Я радостно-отрицательно мотаю головой.
– А я невозможно зашиваюсь с хуманиорой. – Скосив глаза в заваленный мусором переулок, она поправляет шарфик. – Ума не приложу, что делать. Токмо третьего дня раздать пособия соизволили наши храпаидолы. Представляете?
Прелесть моя, ничего и никого я не представляю, кроме тебя.
– Правда долго ожидали? – Она строго морщит тончайшие брови.
– Вовсе нет, – произношу, словно учусь говорить.
– Пойдемте, подышим кислородом. – Она вцепляется в мой рукав своей маленькой рукой, тащит за собой. – Ваша ответчица – полная байчи[1], не знаю, я звоню ей, говорю определенно: прошу передать ему, что я не в завязи, наша с мамой умница намедни опять скисла, вроде простая просьба ведь, правда? А она мне: милочка, мне некому это передать. Господи, твоя воля, а красную занозу воткнуть зело трудно?! Юйван[2]! Вот вредина! Накажите ее!
– Накажу непременно.
Иду рядом с моей прелестью как зомби.
Она держится за мою руку, полусапожки цокают по асфальту, крошат подмороженные с ночи лужицы. Жаль, что на ней сейчас не форма, а цивильное. В форме она еще очаровательней. В форме на школьной площадке я ее и увидел впервые. Стоя в мелом очерченном круге, девочки играли в свою любимую игру. Полетел вверх красный мяч, выкрикнули ее имя. Она бросилась, но не поймала сразу, мяч ударился об асфальт, отскочил, она схватила его, прижав к коричневой форменной груди со значком “ВЗ”[3], выкрикнула: “Штандер!” И разбежавшиеся школьницы замерли, парализованные строгим немецким словом. Она метнула мяч в долговязую подругу, попала ей в голову, заставив громко-недовольно ойкнуть, и прыснула, зажав рот ладошкой, и полуприсела на прелестных ногах, и закачала очаровательной, оплетенной косою головкой, бормоча что-то извинительное, борясь со своим дивным смехом…
Губы ее, прелестные, слегка вывернутые, увенчанные сверху золотистым пушком, роняют чудесные слова:
– Все с ума посходили, честное слово. Стою вчера в очереди за говядом в Аптекарском, вдруг сзади кто-то – толк, толк в спину. Что еще такое? Рука с запиской: я немой, прошу покорно Христа ради купить мне три фунта говяжьих мослов. И главное – его самого разглядеть нет никакой возможности. Ни лица, ни тела? Вижу токмо руку! А сам индивидуум где?!
На этой фразе она останавливается и топает каблучком.
– Он, вероятно, был ослеплен вашей красотой, поэтому скрывался за спинами других стояльцев, – неуклюже шучу я.
– Какая там красота! Это же просто фокус, вы не поняли?! Какой-то жулик из ворованной умницы руку слепил!
– Ах вот оно что…
– В том и дело! И рука сия преспокойно гуляет себе по очереди. Может милостыню попросить, а может и в карман заглянуть. Вот и все!
– Дайте мне вашу руку, – говорю я вдруг и сам забираю ее ручку в перчатке.
– Отчего? – смотрит она исподлобья.
Я отвожу рукав плаща и припадаю губами к детскому запястью, к тоненьким венам, к дурманящей теплоте и нежности. Не противясь, она глядит молча.
– Я без ума от вас, – шепчу я в эти вены. – Я от вас без ума… без ума… без ума…
Ее сказочное эльфийское запястье не шире двух моих пальцев. Я целую его, припадаю, как вампир. Вторая детская ручка дотягивается до моей головы.
– Вы решительно рано поседели, – произносит она тихо. – В сорок семь лет и уже почти седой? На войне?
Нет, я не был на войне. Я обнимаю ее, поднимаю к своим губам. Вдруг она проворно, словно ящерка, выскальзывает из объятий, бежит по переулку. Я пускаюсь вслед за ней. Она сворачивает за угол. Отстаю. Бегает она превосходно.
– Куда же вы? – Я тоже сворачиваю за угол.
Ее черный плащик с серой шапкой мелькает впереди. Она бежит по Старой Басманной к серой громадине кольцевой стены, отделяющей Москву, где проживаю я, от Замоскворечья, где живет она. Подбегает, встает к стене спиной, разводит руки.
Спешу к моему проворному эльфу.
Ее фигурка столь мала на фоне двенадцатиметровой стены, нависшей серой, мутной волной. Мне становится страшно: вдруг это бетонное цунами накроет мою радость? И мне никогда не придется держать ее в своих объятьях?
Срываюсь, подбегаю.
Она стоит, закрыв глаза, прижав разведенные руки к стене.
– Люблю стоять здесь, – произносит она, не открывая глаз. – И слушать, как за стеною Москва гудит.
Поднимаю ее как пушинку, шепчу в большое детское ухо:
– Смилуйтесь надо мной, мой ангел.
– И чего же вы хотите? – Ее руки обвивают мою шею.
– Чтобы вы стали моей.
– Содержанкой?
Чувствую, как смешок торкается в ее животике.
– Возлюбленной.
– Вы желаете тайного свидания?
– Да.
– В нумерах?
– Да.
– Сколько это будет стоить?
– Десять рублей.
– Большие деньги, – рассудительно, но с какой-то недетской грустью произносит она в мою щеку. – А можно мне… на землю?
Я опускаю ее. Она поправляет свой беретик. Ее лицо сейчас как раз возле моего солнечного сплетения, где происходят спорадические атомные взрывы желания.
– Пойдем? – Она берет меня за руку, словно я ее однокашница.
Мы идем вдоль стены, распихивая ногами мусор. Она раскачивает мою руку. В Замоскоречье по-прежнему грязно и неприбрано. Но мне нет дела до мусора, до Замоскворечья, до Москвы, до Америки, до китайцев на Марсе. Я любуюсь сосредоточенным личиком моей вожделенной. Она думает и решает.
– Знаете что, – медленно произносит она и останавливается. – Я согласна.
Я сгребаю ее в охапку, начинаю целовать теплое бледное личико.
– Подождите, ну… – упирается она мне в грудь. – Я смогу токмо на следующей неделе.
– Бессердечная! – опускаюсь я перед ней на колено. – Я не доживу до следующей недели! Умоляю – завтра, в “Славянском базаре”, в любое время.
– Хуманиора, – вздыхает она. – К послезавтраму надобно написать и сдать. Иначе – сделают мне плохо. С первой четверти я в черном списке. Надобно исправляться.
– Я умоляю вас, умоляю! – целую я ее старенькие перчатки.
– Поверьте, я бы плюнула на хуманиору, но мамаша так страдает, когда меня наказывают. Она зело сердобольна. А кроме мамаши у меня никого нет. Папаша на войне остался. И братец старший. Чертова хуманиора…
– Когда же я смогу насладиться вами? – сжимаю я ее ручки.
Серо-зеленые глаза задумчиво косятся на стену.
– Пожалуй… в субботу.
– В пятницу, ангел мой, в пятницу!
– Нет, в субботу, – серьезно ставит она точку.
Внутренне она гораздо старше своих детских лет. Раннее взросление у этих детей войны. Отец ее погиб под Пермью. В этом возрасте мы были другими…
– Хорошо, в субботу. В шесть вас устроит?
– Угу… – гукает она совсем по-мальчишьи.
– Там превосходный ресторан, у них фантастические десерты, лимонады, торты, невозможные шоколадные башни…
– Я люблю писташковое мороженое, какао со сливками и белый шоколад. – Она поправляет мое выбившееся кашне. – Встаньте, тут грязно, а вы в хорошем.
Приподнимаясь с колена, вдруг замечаю возле себя в мусоре пустой, почерневший теллуровый гвоздь. Поднимаю, показываю ей:
– Хорошо живут у вас в Замоскворечье!
– Ух ты! – восклицает она, забирает у меня гвоздь и вертит перед глазами.
Я держу ее за плечи.
– Стало быть, в субботу в шесть?
– В шесть, – повторяет она, разглядывая гвоздь. – Да… везет же кому-то. Вырасту – пробирую непременно.
– Зачем вам теллур?
– Хочу с папашей и с братцем встретиться.
Другая бы ответила, что хочет встретиться с прекрасным принцем. Вот что война делает с детьми…
Мимо проезжают три грузовика с подмосквичами в желтых робах. В последнем грузовике что-то распевают.
Со вздохом зависти она швыряет гвоздь в стену, вздыхает, трогает мою пуговицу:
– Пойду я.
– Я провожу вас.
– Нет-нет, – решительно останавливает она. – Сама. Прощайте уже!
Она взмахивает ручкой, поворачивается и убегает. Провожаю ее взглядом голодного льва. Лань моя убегает. И каждый промельк ее коленок и полусапожек, каждое покачивание плаща, каждое вздрагивание серого берета приближает миг, когда в полумраке нумера я, насосавшись до головокружения ее телесных леденцов, плавно усажу этого замоскворецкого эльфа на вертикаль моей страсти и стану баюкать-покачивать на волнах нежного забвения, заставляя школьные губы повторять волшебное слово “хуманиора”.
V
– Рихард, готовность 7! – Голос Замиры поет в правом ухе у Рихарда.
Двигаясь в оглушительной карнавальной толпе, он слышит в правом ухе пиканье цифр, каждая из которых вспыхивает красным у него в правом глазу, и начинает репортаж:
– Итак, дорогие телезрители, с вами Рихард Шольц, РВТВ[4], мы снова в Кельне, где продолжается долгожданный кельнский карнавал. Три года мы все ждали этого Розового Понедельника, чтобы выйти на улицы родного города. Три года кельнцы не могли этого себе позволить по злобной воле оккупантов, считавших наш карнавал “дыханием шайтана”. И вот сейчас, когда мы победили, у некоторых членов нашего молодого правительства уже появился опасный синдром – короткая память. Они не хотят вспоминать, отмахиваются, говорят, что хватит ворошить прошлое, надо жить настоящим и двигаться в будущее, подобно этой радостной карнавальной толпе. Но это опасная тенденция, и надо повторять это до тех пор, пока синдром “короткой памяти” не покинет министерские и парламентские головы. Карнавал – это прекрасно! Но я хочу напомнить вам именно сейчас, именно в этот радостный день, напомню, чтобы вы и ваши дети никогда не забыли, как три года назад девятнадцать транспортных “геркулесов”, вылетевших из Бухары, в тихое майское утро, на рассвете, высадили в пригороде Кельна Леверкюзене десантную дивизию “Талибан”. И начались три года мрачной талибской оккупации Северного Рейна – Вестфалии. Началась другая жизнь. Талибы хорошо подготовились к захвату власти, они провели масштабную подпольную работу, используя радикально настроенных исламистов из местного населения, а потом…
– Рихард, короче! – поет в ухе голос Замиры.
– А что было потом – все мы помним: казни, пытки, телесные наказания, запрет алкоголя, кино, театра, унижение женщин, депрессия, гнетущая атмосфера, инфляция, коллапс, война. Давайте же сделаем так, чтобы в нашем молодом государстве, в Рейнско-Вестфальской республике, это бы никогда не повторилось, чтобы ваххабитско-талибанский молот больше никогда не навис над Рейном, чтобы мы и наши дети жили в свободном государстве, с оптимизмом глядя в будущее, но вспомним, вспомним слова поэта, написанные о войне…
В его правом глазу возникают на выбор четыре цитаты из Целана, Брехта, Хайма и Грюнбайна.
– “Черное млеко рассвета пьем мы вечером, ночью и в полдень”. Три года наш народ пил это черное молоко оккупации, многие вестфальцы вырыли себе те самые “могилы в небе, где тесно не будет лежать”, так поклонимся же этим могилам, этим героям Сопротивления, чтобы без страха и упрека двигаться вперед, к лучшему будущему…
– Рихард, внимание, слева: президент и канцлер! – осой звенит в ухе Замира.
– Друзья, я вижу впереди слева нашего президента генерала Казимира фон Лютцова и канцлера Шафака Баштюрка. Как я уже говорил в прошлых репортажах, они присоединились к карнавальной толпе на Аппельхофплац, прошли по Брюкенштрассе сюда, к Старому рынку. До этого они двигались пешком, пробиться к ним было крайне проблематично даже мне, экс-чемпиону Кельна по ушу, но вот теперь они сели на лошадей, на прекрасных рыцарских боевых коней, президент – на белого коня с белой попоной с крестами, а канцлер – на вороного, с зеленой попоной с полумесяцем, это символично, друзья мои, это прекрасно и актуально, так как символизирует не только политику нашего государства, но и единение двух культур, двух цивилизаций, двух религий, католической и мусульманской, единение, которое помогло нашей стране одолеть коварного и сильного врага, помогло выстоять в жестокой войне. Президент и канцлер бодры, радостны, полны сил, они одаривают толпу конфетами из вот этих огромных золотистых рогов изобилия, они выглядят как настоящие рыцари, которыми, собственно, и являются. Все мы помним знаменитый зимний поход генерала фон Лютцова на Кельн от нидерландской границы, мы не забыли сводки военного времени: освобождение Оберхаузена, кровопролитные бои под Дуйсбургом, блистательная дюссельдорфская операция и уже вошедший в современную военную историю бохумский “котел”, устроенный армией генерала фон Лютцова талибам, “котел”, сломавший хребет Талибану, после которого отступление врага, а точнее сказать – бегство, стало уже необратимым, когда талибанские головорезы побежали в панике к восточной границе, а их идейный вдохновитель, так называемый Горящий имам, обрел свою…
– Рихард, достаточно о президенте. Переходи к канцлеру.
– …заслуженную смерть на улицах разрушенного талибами Тройсдорфа. А в это время Шафак Баштюрк, будущий канцлер нашего государства, вел героическую и кропотливую работу в кельнском подполье, создавая свою армию Сопротивления, куя Экскалибур победы в городских подвалах, приближая крах талибов. Этот героический человек, патриот Рура, в прошлом инженер-теплотехник, в годы оккупации стал живой легендой, героем подполья, сплотившим вокруг себя мусульман-единомышленников, горящих ненавистью к варварскому талибанскому режиму. Награда за его голову, обещанная талибами, росла не то что с каждым месяцем, а с каждым днем! Армия сопротивления “Сербест Эль”[5] лишила оккупантов спокойной жизни, благодаря мудрости и героизму бойцов “Сербест Эль” земля буквально горела под сандалиями талибов, а их…
– Рихард, достаточно о прошлом. Настоящее, настоящее!
– …а их дни были сочтены. Зато теперь мы все можем насладиться не только победой в войне, но и этим карнавалом, первым за три года, чудесным, радостным, красивым, громким, этим Розовым Понедельником, смотрите, сколько оттенков розового в праздничной толпе, сколько детей, наряженных цветами, с головами в виде розовых бутонов! Это дети нашего будущего, дети, которым предстоит стать гражданами нашего молодого государства и хранить мир, завоеванный отцами в полях под Дуйсбургом, в пригородах Бохума, на улицах Кельна. Пусть же они будут счастливы! Президент и канцлер бросают в толпу конфеты из золотых рогов изобилия – это ли не надежда на мир, достаток и благополучие?
– Рихард, публика, общение.
– Друзья, теперь самое время пообщаться с участниками карнавала, – обращается к паре среднего возраста, наряженной средневековыми шутами. – Здравствуйте! Откуда вы?
– Из Пульхайма! Привет всем! Привет, Кельн!
– Ясно и без слов, что вы рады и счастливы быть здесь сегодня!
– Конечно! Карнавал вернулся! Круто!
– Карнавал вернулся! И вместе с ним в ваш Пульхайм вернулась мирная жизнь.
– О да! Это символ! Мы победили! Наш сын ушел добровольцем к фон Лютцову.
– Он жив?
– Да, слава богу! К сожалению, он сейчас в Осло по служебным делам, он очень хотел присоединиться к нам. Но он с нами! – Парочка растягивает умницу, вызывает голограмму молодого человека. – Привет, Мартин!
– Привет, предки! Я с вами! Привет из Осло!
– Мартин, Рихард Шольц, РВТВ, о, как вы будете жалеть, что не взяли отпуск на работе, чтобы быть здесь и вдохнуть этот воздух свободы!
– Буду, буду жалеть, черт возьми, точно! Уже жалею! Я дурак, без сомнения! Вау! Я чувствую этот воздух!
– Сынок, здесь просто супер как хорошо! Такое чувство, что все породнились навсегда!
– Круто! Я слышу родной кельш[6] и просто балдею от него здесь, в тихом Осло.
– Мартин, ваши родители сообщили нам, что вы были в армии генерала фон Лютцова. Какие города вы освобождали?
– Я успел повоевать только в Дуйсбурге и Дюссельдорфе, а перед бохумским “котлом” получил контузию и выпал, так сказать, из процесса.
– Вы были на первом Дне Победы в Дюссельдорфе?
– Конечно! Это было круто! Фон Лютцов – великий человек. Я счастлив, что у нас такой президент!
– Вон он едет на белом коне!
– Вау! Круто! Черт, какой же я дурак, что не остался!
– Сынок, ты с нами, ты здесь!
– Мама, это же Шафак Баштюрк! Герой подполья! О, я бы пожал ему руку! Вау! Сейчас пойду в паб и напьюсь!
– Сынок, только не пей норвежского аквавита! Он вызывает депрессию!
– Мартин, только пиво!
– Сынок, нашего райсдорфа[7] там, конечно, не нальют!
– Местного, местного!
– Заметано, папа!
– Мартин, скажите, в Осло по-прежнему все тихо и спокойно?
– Да, норвежцам повезло, здесь все обошлось без резни. Война не дошла, здания целы, всего-то парочка ракет упала. Не то что у нас. Вау! Я вижу троллей и гномов! Круто!
– Мы сейчас подойдем к троллям! Мартин, удачи вам!