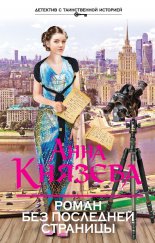Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого, обращение к будущему Звягинцев Александр
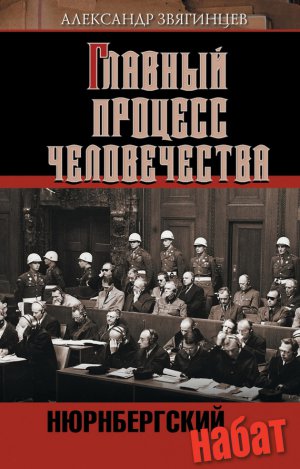
Шахт: Нет.
Джексон: Вы этого не делали?
Шахт: Нет, никоим образом.
Джексон: Может быть, я вас неправильно понял?
Теперь в связи с настоящим развитием — я ссылаюсь на ваш допрос от 16 октября 1945 г. — «…вы взяли на себя ведение экономических и финансовых дел, связанных с этой промышленностью?»
Следующий вопрос гласит: «В этой связи вами были предприняты самые различные меры. Может быть, вы будете достаточно любезны разъяснить нам, какие самые значительные меры были вами приняты с целью добиться перевооружения; в первую очередь, расскажите нам о мерах, проведенных внутри Германии, и, вовторых, о мерах, принятых по отношению к иностранным государствам.
Ответ: Внутри страны я стремился собрать все возможные денежные средства для финансирования счетов „МЕФО“. В отношении иностранных государств я стремился в возможно большей степени контролировать их коммерческие обороты».
Скажите, давали ли вы эти ответы и отвечают ли они действительности?
Шахт: Очевидно, вы правы.
Джексон: Вы стремились добиться контроля над торговыми оборотами иностранных государств с той целью, чтобы получить достаточное количество иностранной валюты, которое дало бы вам возможность импортировать сырьевые материалы, то есть материалы, не подвергавшиеся обработке, необходимые для проведения в жизнь программы перевооружения. Разве это неправильно?
Что вы сейчас ответите на это?
Шахт: Я отвечу сегодня, что это было не единственной целью.
Джексон: Хорошо. Что же представляли собой другие цели?
Шахт: Сохранить существование Германии, обеспечить производство в Германии, получить достаточно продовольствия для Германии.
Джексон: Что же являлось вашей доминирующей целью?
Шахт: Обеспечение Германии продовольствием и обеспечение ее промышленности, работающей на экспорт.
Джексон: Я хотел бы рассмотреть с вами один-два документа, касающихся ваших целей.
Один озаглавлен: «Финансирование вооружения».
«Следующие замечания основаны на утверждении о том, что осуществление программы вооружения в отношении быстроты ее проведения и ее масштабов является задачей германской политики; исходя из этого, все остальные задачи должны быть подчинены одной этой цели в той мере, в какой стремление к этой первостепенной цели не грозит пренебрежительным отношением к другим вопросам». Вы писали это?
Шахт: Я не только написал это, но и лично передал написанное Гитлеру.
Джексон: Таким образом, вы разрабатывали различные планы. План контроля над операциями с иностранной валютой, наложение запрета на вклады иностранных банков и векселя «МЕФО» являлись одним из ваших основных изобретений, при помощи которых вы обеспечивали финансирование, не так ли?
Шахт: Конечно.
Джексон: Меня не интересуют подробности операций с векселями «МЕФО», но я хочу задать вам следующий вопрос. Отвечают ли действительности те показания, которые вы дали во время допроса 16 октября 1945 года?
«Вопрос: Разрешите мне задать вам вопрос, касающийся некоторых фактов. В то время, например, когда вы создали систему векселей „МЕФО“, у вас не было под рукой других средств для финансирования системы перевооружения?
Ответ: Нет, не было.
Вопрос: Я имею в виду обычные бюджетные финансовые операции.
Ответ: Их было недостаточно.
Вопрос: Вы были также ограничены статутом Рейхсбанка, который не давал вам возможности давать в кредит денежные суммы, необходимые для финансирования перевооружения?
Ответ: Совершенно верно.
Вопрос: И вы нашли иной способ?
Ответ: Да.
Вопрос: Этот способ выражался в том, что вы изобрели средство, в результате которого Рейхсбанк путем изворотливых операций выплачивал правительству денежные суммы, что при нормальных и законных операциях не могло бы иметь места?
Ответ: Совершенно верно».
Скажите, это отвечает действительности?
Шахт: Да, я ответил так.
Джексон: Вам тогда были заданы следующие вопросы:
«Насколько я понял, все то, что в то время было создано в Германии, начиная с промышленности вооружения и прочной экономики внутри страны и кончая вермахтом, а также те усилия, которые вы приложили к достижению этого, начиная с 1934 и до весны 1938 года, когда прекратилась система векселей „МЕФО“, являются в значительной степени причиной успеха всей программы?
Ответ: Я не знаю, что является причиной этого, но я в значительной степени содействовал достижению этого».
Шахт: Да.
Джексон: 17 октября 1945 года вам был задан следующий вопрос: «Говоря другими словами, вы не придерживаетесь той точки зрения, что вы не несли значительной ответственности за перевооружение германской армии?»
Ответ: Нет, нет. Я никогда не говорил ничего подобного.
Вопрос: Вы всегда гордились этим фактом, не так ли?
Ответ: Я не сказал бы, что я горд этим, но я был этим удовлетворен.
Вопрос: Скажите, вы все еще стоите на этой точке зрения?
Шахт: Я хочу сказать об этом следующее: векселя «МЕФО» были, конечно, методом финансирования, который при нормальных условиях никогда бы не имел места. Но, с другой стороны, я должен сказать, что этот вопрос был детально рассмотрен всеми юристами имперского банка и что благодаря этой «уловке», как вы сказали, был найден путь, не выходящий за рамки закона.
Джексон: Нет, я не говорил так. Это вы сами так говорите.
Шахт: Нет, нет, я имею в виду то, что вы только что цитировали в качестве моего ответа. Когда этот вопрос был исследован с юридической стороны, мы сказали себе: «Так пойдет». А вообще я и сегодня доволен тем, что я помог вооружению.
Джексон: В день вашего шестидесятилетия военный министр фон Бломберг заявил: «Без вашей помощи, мой дорогой господин Шахт, у нас не было бы вооружения». Говорил он так?
Шахт: Ну, это просто вежливые фразы, какими обмениваются обычно в таких случаях. Но в них содержится добрая толика правды. Этого я никогда не оспаривал.
Джексон: 24 декабря 1935 г. вы записали, употребляя следующие выражения:
«Если сейчас от нас требуется больше вооружения, то я, безусловно, не намерен отрицать необходимость для нас иметь самое мощное вооружение, какое можно себе представить, или изменять свою точку зрения по этому поводу, точку зрения, которой я придерживался многие годы как до, так и после захвата власти. Однако я считаю своим долгом указать, насколько эта политика ограничена существующим положением».
Шахт: Это очень хорошо.
Джексон: И это правда?
Шахт: Конечно.
Джексон: Во время австрийского аншлюса вам была известна точка зрения США по отношению к нацистскому режиму, высказанная президентом Рузвельтом?
Шахт: Да.
Джексон: И вам было известно его выступление, в котором он выдвинул предложение о том, что следует принять меры против распространения нацистской угрозы?
Шахт: Я не помню, но я, очевидно, читал, если оно было опубликовано в Германии. Во всяком случае, я так полагаю.
Джексон: В результате этого Геббельс начал кампанию нападок на президента, не правда ли?
Шахт: Я полагаю, что я читал об этом.
Джексон: Это факт, что вы присоединились к нападкам на иностранцев, критиковавших эти методы, не правда ли?
Шахт: Когда и где? Какие нападки?
Джексон: Хорошо. После аншлюса Австрии, когда была применена сила, которую вы якобы не одобряли, вы немедленно поехали в Австрию и взяли на себя руководство Австрийским национальным банком, не правда ли?
Шахт: Да, это был мой долг.
Джексон: И вы ликвидировали его в пользу империи?
Шахт: Я его не ликвидировал. Я осуществил его слияние.
Джексон: Произвели слияние. И вы приняли его служащих?
Шахт: Я все взял.
Джексон: Хорошо. И декрет об этом подписан вами?
Шахт: Конечно.
Джексон: И вы 21 марта 1938 г. собрали всех служащих?
Шахт: Да.
Джексон: И произнесли перед ними речь?
Шахт: Так точно.
Джексон: Говорили ли вы им среди прочего: «Мне кажется, что будет целесообразно, если мы вспомним эти вещи для того, чтобы разоблачить все ханжеское лицемерие иностранной прессы. Но, слава богу, все это, в конце концов, никак не может помешать великому германскому народу, потому что Адольф Гитлер создал единство воли и мысли немцев; он скрепил все это новыми мощными вооруженными силами, и он, наконец, облек во внешнюю форму внутреннее единство между Германией и Австрией.
Я известен тем, что иногда высказываю оскорбительные мысли, и здесь я не хотел бы отклоняться от этой привычки». Указано, что в этой части вашей речи раздался смех.
«Я знаю, что даже в этой стране есть некоторые лица, — я думаю, что их очень немного, — которые не одобряют событий последних дней. Однако я не думаю, чтобы кто-либо сомневался в цели, и надо сказать всем ворчунам, что всех сразу удовлетворить нельзя. Некоторые говорят, что они, быть может, сделали бы по-другому. Однако фактически никто этого не сделал» — здесь в скобках снова стоит слово «смех». Теперь продолжаю цитировать вашу речь:
«…Это сделал лишь наш Адольф Гитлер. А если и следует еще что-либо усовершенствовать, то пусть эти улучшения будут внесены этими ворчунами внутри германской империи и внутри германского общества, но нельзя, чтобы это было сделано извне».
Вы это говорили?
Шахт: Да.
Джексон: Другими словами, вы открыто высмеивали тех, кто жаловался на эти методы действия, не правда ли?
Шахт: Если вы это так воспринимаете, то пожалуйста.
Джексон: Затем, выступая перед служащими Австрийского национального банка, которых вы приняли, вы сказали следующее:
«Я считаю совершенно невозможным, чтобы хотя бы одно единственное лицо, которое не всем сердцем за Адольфа Гитлера, смогло в будущем сотрудничать с нами».
Продолжаю цитировать речь:
«Кто с этим не согласен, пусть лучше добровольно покинет нас».
Скажите, это так было?
Шахт: Да.
Джексон: В тот день, выступая перед служащими банка, вы сказали — не правда ли? — следующее:
«Рейхсбанк никогда не будет ни чем иным, как национал-социалистским учреждением; или я перестану быть его руководителем».
Это так и было?
Шахт: Да, так точно.
Джексон: Я спрашиваю вас, сказали ли вы в качестве руководителя Рейхсбанка служащим, которых вы взяли себе в Австрии, следующее. Я цитирую:
«Теперь я попрошу вас встать (присутствующие встают). Теперь мы присягаем в нашей преданности великой семье Рейхсбанка, великому германскому обществу. Мы присягаем в верности нашей воспрянувшей, мощной, великой германской империи. И все эти сердечные чувства мы выражаем в преданности человеку, который осуществил все эти преобразования. Я прошу вас поднять руки и повторить вслед за мной:
„Я клянусь, что я буду преданным и буду повиноваться фюреру германской империи и германского народа Адольфу Гитлеру и буду выполнять свои обязанности добросовестно и самоотверженно“.
(Присутствующие принимают присягу путем поднятия рук.)
Вы приняли эту присягу. Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды „Зиг, хайль!“».
Это правильное описание того, что произошло?
Шахт: Эта присяга является предписанной для чиновников присягой. Все в ней полностью соответствует тому, что я вчера показывал здесь, в зале Суда, а именно, что мы присягали главе государства.
Джексон: Теперь мы переходим к Чехословакии. Скажите, вы одобряли политику присоединения Судетской области при помощи угрозы прибегнуть к оружию?
Шахт: Нет, вовсе нет.
Джексон: Я полагаю, что вы охарактеризовали метод присоединения Судетской области как неправильный и порицали его?
Шахт: Что-то я не помню, когда я это сделал. Я сказал, что союзники в результате своей политики подарили Гитлеру Судетскую область, в то время как я все время ожидал, что судетским немцам будет предоставлена автономия.
Джексон: Тогда вы одобряли политику Гитлера в отношении Судетской области? Вы хотите, чтобы вас так поняли?
Шахт: Я никогда ничего не знал о том, что Гитлер требовал еще чего-то помимо автономии.
Джексон: Ваша единственная критика по вопросу Судетской области относилась только к союзникам, насколько я понимаю?
Шахт: Это значит, что она относилась также и к чехам, и к самим немцам. Я не хочу играть здесь роль судьи, боже меня сохрани, но я имею в виду…
Джексон: Ну, хорошо. Я спрашиваю вас следующее: 16 октября 1945 г. дали вы следующие ответы на вопросы?
«Вопрос: Вернемся к выступлению против Чехословакии, за которым последовала „умиротворяющая“ политика Мюнхена и передача Судетской области империи. Скажите, вы тогда одобряли политику приобретения Судетской области?
Ответ: Нет.
Вопрос: Одобряли ли вы в то время политику угрозы Чехословакии оружием для того, чтобы присоединить Судетскую область?
Ответ: Нет, конечно, нет.
Вопрос: Тогда я вас спрашиваю, скажите, поразило ли вас в то время или дошло ли до вашего сознания то, что Гитлер угрожал Чехословакии именно вооруженными силами и военной промышленностью?
Ответ: Он не мог этого сделать без вооруженных сил».
Вопрос: Скажите, вы дали эти ответы?
Шахт: Так точно.
Джексон: Продолжаем дальше.
«Вопрос: Считали ли вы тот метод, который он применял к судетскому вопросу, неправильным или достойным порицания?
Ответ: Да.
Вопрос: Скажите, вы действительно так считали?
Ответ: Да, сэр.
Вопрос: Разве в то время вы не считали, на основании предшествовавших событий и вашего участия в них, что эта армия, которую он использовал в качестве угрозы по отношению к Чехословакии, была, по крайней мере, частично вашим собственным созданием?
Ответ: Я не могу этого отрицать».
Шахт: Конечно, нет.
Джексон: Но опять-таки вы стали помогать Гитлеру, когда действия Гитлера оказались успешными? После того как он это сделал, вы явились и приняли на себя чешский банк, не правда ли?
Шахт: Конечно.
Джексон: Хорошо, вы производили расчистку в экономическом отношении захваченных Гитлером территорий, не правда ли?
Шахт: Но простите, пожалуйста. Ведь он же не взял эту страну силой. Союзники просто подарили ему эту страну.
Джексон: Ну, в этом отношении у нас имеются ваши показания о роли, которую в этом сыграли вооруженные силы, и о той роли, которую вы сыграли в создании вооруженных сил.
Шахт: Я этого никогда не отрицал.
Джексон: Далее, когда вы были министром без портфеля, согласно вашим показаниям, были начаты агрессивные войны — против Польши в сентябре 1939 года; против Дании и Норвегии — в апреле 1940 года; против Голландии и Бельгии — в мае 1940 года; в июне было перемирие с Францией и ее капитуляция; в сентябре 1940 года имел место тройственный пакт между Германией, Италией и Японией; в апреле 1941 года произошло нападение на Югославию и Грецию, которое, как вы говорите, было агрессивным; в июне 1941 года произошло вторжение в Советскую Россию, которое, как вы сказали, было агрессивным; 7 декабря 1941 г. японцы напали на Пирл-Харбор и после нападения объявили войну США, 8 декабря 1941 г. США объявили войну Японии, но не Германии; 11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну США. И все это произошло в области внешней политики, а вы продолжали оставаться на посту министра без портфеля гитлеровского правительства, не так ли?
Шахт: Да.
Джексон: Вы открыто не порвали с Гитлером, не ушли со своего поста и после того, как началось германское наступление на Россию, и до тех пор, пока германская армия не стала отступать, не правда ли?
Шахт: Письмо, благодаря которому мне удалось успешно добиться разрыва, датировано 30 ноября 1942 г.
Джексон: Таким образом, из вашего письма явствует, что вы считали, что корабль тонет, не правда ли? То есть, что война проиграна?
Шахт: Об этом свидетельствуют мои устные и письменные заявления.
Адвокат или «совестливый человек»?
Устав Международного военного трибунала предоставил все возможности для ведения соревновательного процесса, и в частности для квалифицированной защиты подсудимых. Им полагались адвокаты из числа немецких юристов, причем по выбору обвиняемых.
Понятно, что антифашистски настроенные правоведы нацистским главарям не требовались. Нужны были те, кто им сочувствовал и, конечно, хорошо знал дело. Так или иначе, у большинства обвиняемых оказались весьма сильные защитники. Это были и звезды германской адвокатуры, такие как О. Штамер, защищавший Геринга, и молодые, но весьма активные и изощренные коллеги, например А. Зейдль, действовавший в пользу Гесса и Франка. Трибунал предоставлял им все необходимые документы. Для них даже был создан в отдельном помещении информационный центр.
Насколько внимательно относился суд к запросам защитников, говорит тот факт, что помощнику адвоката Кранцбюллера было разрешено поехать в Лондон для ведения поиска в секретных архивах адмиралтейства. От Кранцбюллера же был принят и направлен в Америку опросный лист с вопросами к адмиралу Нимицу, который дал все необходимые ответы.
Гуманность подхода к защите проявлялась и в том, что все расходы на нее — гонорары, оплата жилья, питания, транспорта относились к бюджету суда.
На процессе трудилось 27 защитников, 54 ассистента и 67 секретарей. Среди этого персонала были даже родственники подсудимых, например сын Папена и зять Риббентропа.
Чинные с виду адвокаты порой не очень стеснялись в средствах: диктовали подсудимым ответы на вопросы суда, обрабатывали свидетелей защиты и находили средства давления на свидетелей обвинения.
Самым распространенным приемом защиты было делегирование вины «наверх», в конечном счете на Гитлера, а подчиненные, в том числе и остальные вожди, дескать, лишь выполняли приказы. Второе типичное возражение состояло в том, что «закон не имеет обратной силы». Якобы до Нюрнбергского процесса не было ясного международного право вого определения преступлений против мира и человечности. Третий прием заключался в проведении параллелей между действиями Германии и стран антигитлеровской коалиции. Например, защитники сравнивали методы ведения воздушной и морской войны той и другой стороны и находили их «похожими». Они пытались переключить внимание суда с анализа вины обвиняемых на разбор политики и мер государств антигитлеровской коалиции.
Ожидая разногласий и ссор среди союзников, адвокаты использовали любую возможность затянуть процесс. Вот какой пример приводит Аркадий Полторак: «В здании Дворца юстиции имелся газетный киоск, где можно было приобрести любые иностранные газеты… Наиболее активными покупателями были здесь немецкие защитники. Они зорко всматривались в политический горизонт, радовались появлению любой тучки в отношениях между Востоком и Западом и без труда уверовали в то, что время будет работать на подсудимых. Именно потому одной из главных линий своей стратегии защита избрала максимальную затяжку процесса. Достижение этой цели осуществлялось различными методами. Началось с многочисленных ходатайств о назначении перерывов в заседаниях трибунала. Все тот же доктор Штамер от имени всей защиты попросил объявить рождественские каникулы сроком на три недели. Просьба была удовлетворена, хотя срок каникул сократили до десяти дней. Но ровно через четыре дня после возобновления работы трибунала вдруг поднимается доктор Меркель (защитник гестапо) и вновь ходатайствует об… отсрочке процесса.
Эта попытка успеха не имела. Тогда адвокаты прибегли к новому приему: начали настаивать на вызове в суд десятков и сотен свидетелей, либо вообще не имевших отношения к делу, либо имевших к нему весьма и весьма сомнительное касательство.
Затем последовал уже известный читателям „маневр Розенберга“, имевший целью втянуть всех активных участников процесса в длительную дискуссию по „теории“ расизма. Защита потащила в судебный зал десятки фолиантов американских, английских, французских расистов, а заодно и труды своих подзащитных…
Но большинство адвокатов, конечно, понимало, что 1945 год это не 1939 и что зал заседаний Международного трибунала это не гитлеровский рейхстаг. Недурно разбирались они и в подлинной ценности „теоретических“ изысканий своих подзащитных. В связи с этим мне невольно приходит на память весьма курьезный эпизод.
Доктор Тома стоит на трибуне и, обращаясь к суду, предъявляет один за другим документы в защиту Альфреда Розенберга. Перед адвокатом микрофон. Рядом с микрофоном специальное устройство, которое позволяет оратору на время отключаться от зала. К этому устройству адвокаты прибегают всякий раз, когда хотят сказать что-либо своему ассистенту, сидящему за столом рядом с трибуной. Ассистент доктора Тома услужливо подавал ему соответствующие документы. Но вот он то ли ослышался, то ли сам Тома оговорился, и в руках адвоката оказалась книга Розенберга „Миф XX столетия“. Тома механически хотел передать ее судьям, но в самый последний момент обнаружил оплошность. Побагровев до ушей, адвокат сверкнул гневным взглядом в сторону своего ассистента, и вдруг по всему залу, во всех наушниках явственно прозвучало:
— Болван, зачем вы мне суете это дерьмо?
Тома забыл, оказывается, выключить микрофонное устройство. Все присутствовавшие на этом заседании разразились хохотом, настолько дружным и мощным, что даже лорд Лоренс, неизменно подчеркивавший, что „смех в зале причиняет моральный ущерб достоинству трибунала“, ничего не мог сделать. Старый опытный судья сумел сдержать лишь самого себя, да и то ненадолго. Во время перерыва он тоже смеялся так, что стены дрожали. Хохотали и подсудимые. Один лишь Розенберг был мрачнее тучи, метал громы и молнии в адрес своего незадачливого адвоката»[32].
12 марта 1946 г., когда была опубликована фултонская речь Черчилля, в стане защиты и на скамье подсудимых явно поднялось настроение. Вокруг Геринга кучкой собрались Риббентроп, Розенберг, Дениц, Франк, Заукель, Ширах. Рядом с Шахтом обсуждали новость Папен, Фриче, Зейсс-Инкварт, Нейрат. Заголовки в американских газетах типа «Объединяйтесь, чтобы остановить Россию!» не могли не вселить в них надежду на трения и разлад между союзниками.
Геринг заявил: «Летом прошлого года я не надеялся увидеть осень, зиму и новую весну. Если я дотяну до следующей осени, я, наверное, увижу еще не одну осень, не одну зиму и не одно лето». И, выдержав подобающую случаю паузу, с явным удовлетворением в голосе и сардонической улыбкой на лице добавил: «Единственные союзники, которые все еще находятся в союзе, — это четыре обвинителя, да и они в союзе только против подсудимых».
К чести судей и обвинителей, они быстро погасили эти эмоции, не реагируя на политические события. Определенные разногласия среди них, конечно, существовали, но в принципиальных вопросах трибунал был един и демонстрировал это единство до конца процесса.
Затягиванию суда и уводу следствия в сторону служили выпады адвокатов по поводу, например, пакта Молотова-Риббентропа или расстрела польских офицеров в Катынском лесу, английских методов войны на море или казни англичанами немецких пленных.
Трибунал предпринял контрмеры. Представители США и Великобритании предложили каждой стороне составить списки вопросов, не подлежащих обсуждению на процессе. Первыми, в декабре 1945 г., представили свой меморандум англичане. Спустя три месяца, в марте 1946 г., выдвинула соответствующий перечень советская сторона.
Защитники вовсе не пытались подыгрывать суду. Они бились всерьез и у них были немалые возможности. Стоит упомянуть, что защитник Гесса и Франка Зейдль извлек на свет божий копию секретного приложения к пакту Молотова-Риббентропа. Однако судья запретил его оглашение.
Мастера словесных дуэлей старательно выискивали пробелы в праве. Адвокаты нацистских бонз напирали на то, что в мире нет прецедентов уголовной ответственности руководителей государств за развязывание войн, нет законов, определяющих такие преступления. Обвинение не пожалело усилий, чтобы развенчать эти утверждения. Р. А. Руденко, например, поднял историю международных соглашений, трактующих агрессивную войну как преступление. Таковы были дух и буква Женевского протокола 1924 г., Парижского пакта Бриана-Келлога 1928 г. и других документов.
Другим дежурным «козырем» адвокатов были действия обвиняемых по приказу, что якобы снимало с них ответственность. Мол, перед ними была дилемма: или выполнить установку свыше, или лишиться жизни в случае неповиновения.
Этот аргумент изобрели и применили не одни нюрнбергские защитники. С помощью его пытались оправдаться сотни тысяч немецких военных преступников, но для обвиняемых из высшего эшелона власти он был особенно удобен. Ведь источником приказов и всего нацистского зла для подсудимых в Нюрнберге являлся, понятное дело, фюрер, которого уже не было в живых.
Суд твердо стоял на том, что преступные действия по приказам и распоряжениям свыше являются наказуемыми и приводил убедительные обоснования.
Адвокат Кальтенбруннера Кауфман был в сложном положении. Защита шефа карательных органов, погрязших в ужасных, невиданных преступлениях, была делом неблагодарным. Собственно, у Кауфмана и не было базы для защиты отпетого нациста. К тому же у адвоката, которого опрометчиво выбрал сам обвиняемый, был крупный «недостаток» — он был «совестливый человек».
Кальтенбруннер однажды пожаловался Гилберту: «Вы знаете, доктор, мой адвокат очень уж совестливый человек. Взбучка, которую он мне дал — больше, чем можно ждать от обвинителя».
Шеф РСХА все время лгал, изворачивался, и это, видимо, очень не нравилось Кауфману. Однажды он потребовал от Кальтенбруннера четких и прямых ответов на поставленные вопросы, в то время как подзащитный, некогда сам адвокат, стремился отвечать расплывчато. «Когда вы узнали, что Освенцим является лагерем уничтожения и каково было отношение к нему? — с прокурорской прямотой и напором спрашивал адвокат. — Давайте прямой ответ на вопрос… Отвечайте ясно и кратко…»
Это и была та самая «взбучка». Вся скамья подсудимых изумилась тогда, глядя, как адвокат уподобляется обвинителю. При допросе свидетеля Шелленберга Кауфман также потребовал дать четкий ответ, занимался ли Кальтенбруннер исключительно внешней разведкой и информацией. Шелленберг, шеф этой внешней разведки, ответил: нет!
Но то были лишь эпизоды. Речь Кауфмана, которая приводится ниже, наглядно показывает и его незаурядные способности к демагогии и маневрированию. Бичуя мертвых — Гитлера, «одного из величайших правонарушителей» в истории, и злодея-рейхсфюрера Гиммлера, Кауфман обкладывает соломкой своего подзащитного и представляет его — кровожадного шефа спецслужб все-таки как невинного аналитика, «специалиста по информации».
[Стенограмма заседания Международного Военного Трибунала от 9 июля 1946 г.]
Господин председатель, Высокий Суд!
Этот процесс войдет в мировую историю как процесс, полный революционного напряжения… Если мера вины моей родины не имеет предела, то и величайшее искупление, которое когда-либо нес какой-либо народ, она несет покорно…
Европейский международный порядок, частью которого была моя родина, тяжело болен. Он болен духом отрицания и унижения достоинства человеческой природы…
Трибунал, выполняющий свою миссию в сознании своего высокого долга, предстанет перед испытующим оком истории. Я не сомневаюсь в том, что избранные судьи стремятся служить справедливости, которой они должны руководствоваться…
Право может создаваться лишь в том случае, если суд обладает той внутренней свободой и независимостью, подчиненными только совести и больше ничему. На моей родине была забыта эта священная заповедь, и прежде всего она была забыта в высших политических кругах нации. Гитлер унизил право до средства для достижения своих целей. Нужно детально представить себе положение империи до 1933 года.
Здесь уже достаточно говорили об этом, и мне нет необходимости все повторять.
Я думаю, что не смогу выполнить полностью своей задачи, если стану рассматривать чудовищные преступления лишь как эмпирические факты. Нужно дать немцу возможность познать развитие, происшедшее в короткий срок, чтобы понять связь событий…
Задача установить истину поднимает защитника до уровня помощника Суда и дает право защитнику не только ставить под сомнение показания свидетелей, но также и документы и прежде всего правительственные отчеты. Она позволяет защитнику заявить, что такие отчеты, хотя и допущены Уставом в качестве доказательств, могут быть приняты лишь с большими оговорками…
Кальтенбруннер до 1943 г. по сравнению с остальными подсудимыми был почти неизвестным в Германии человеком, во всяком случае одним из тех, кто не имел тесной связи ни с германской общественностью, ни с виднейшими деятелями режима. В то время, когда германский народ в военном, экономическом и политическом отношениях уже с огромной скоростью катился в пропасть, ненависть и страх перед исполнительной властью достигли кульминационного пункта.
Я понимаю, что перед лицом моря крови и слез мне не следовало бы останавливаться на душевных особенностях и характере этого человека, но я его защитник…
Кальтенбруннер не является сыном злого духа, как его называло неоднократно обвинение, он не является «маленьким Гиммлером», его «доверенным», «вторым Гейдрихом» и т. д. Я думаю, что он не является тем холодным как лед существом, о котором, правда, основываясь только на слухах, говорил в таких абсолютно отрицательных тонах доктор Гизевиус. Подсудимый Иодль показал, что Кальтенбруннер не относился к доверенным Гитлера, которые после ежедневных обсуждений общей обстановки собирались вокруг последнего в главной ставке фюрера. Свидетель доктор Мильднер показал (обвинение не подвергло сомнению его показания) следующее:
«По собственным наблюдениям я могу подтвердить, что знаю подсудимого Кальтенбруннера лично… назначение его на должность начальника полиции безопасности и СД произошло потому, что Гиммлер после смерти своего главного соперника Гейдриха в июне 1942 г. не желал иметь рядом с собой или в своем подчинении человека, который смог бы угрожать его положению. Для Гиммлера подсудимый Кальтенбруннер, без сомнения, был наименее опасным человеком. У Кальтенбруннера не было честолюбия в отношении того, чтобы с помощью особых действий приобрести вес и, возможно, вытеснить Гиммлера. О стремлении его к власти не может быть и речи. Неверно называть его „маленьким Гиммлером“».
В том же духе высказались свидетели фон Эберштейн, Ванек и доктор Хоттль.
Несмотря на все, этот человек взял все-таки на себя руководство главным имперским управлением безопасности; да, он действительно взял его на себя в полном объеме, несмотря на договоренность с Гиммлером.
Я знаю, что сегодня он тяжело страдает из-за катастрофы… что когда-то он действительно руководил управлением, о зверствах которого, если бы это было возможно, заговорили и камни, но личность и сущность данного человека должны быть охарактеризованы иначе, чем это сделало обвинение…
Кальтенбруннер, конечно, положительно относился к личности Гитлера до тех пор, пока он не стал проявлять свои человеконенавистнические стороны. Он одобрял также, как признал на допросе, принципиальные меры, предпосылкой к проведению которых было более или менее значительное насилие, как, например, создание воспитательно-трудовых лагерей. Поэтому ни один разумный человек не станет оспаривать, что он в принципе считал вполне допустимым, по крайней мере на время войны, создание концлагерей… или как бы там иначе ни называли эти учреждения, при упоминании о которых слушатель невольно вспоминает слова Данте.
В Баварии, в стране, в которой в настоящее время заседает Трибунал, также имеются подобные лагеря…
Однако преступления против человечности в немецких концентрационных лагерях ни в коей мере не умаляются. Что касается Кальтенбруннера, то этот человек, по моему убеждению… с отвращением констатировал наличие общего курса террора и порабощения, нараставшего в Германии из года в год.
Поэтому я считаю также необходимым сослаться на показания свидетеля Айгрубера, из которых вытекает, что утверждение обвинения: «Кальтенбруннер создал Маутхаузен» — является неверным…
Не подлежит никакому сомнению правильность того факта (это подтверждают также свидетели Ванек, доктор Хоттль, доктор Мильднер, Олендорф и даже само обвинение), что Гиммлер с момента убийства Гейдриха сам взял на себя исполнительную власть, так что в Германии в области исполнительной власти не мог произойти какой-либо хоть сколько-нибудь незначительный случай без того, чтобы Гиммлер не сказал заключительного слова и тем самым не вынес бы окончательного решения…
Кальтенбруннер в силу своих внутренних склонностей в действительности занимался главным образом службой информации внутри страны и за границей и тем самым все больше приобретал влияние на внешнюю и внутреннюю политику, к чему он стремился. Об этом показали свидетели. Я напомню о Ванеке, докторе Хоттле, а также о подсудимых Иодле, Зейсс-Инкварте и Фриче. Доктор Хоттль показал:
«Кальтенбруннер, по моему мнению, никогда полностью не господствовал в огромном главном имперском управлении безопасности и вследствие отсутствия интереса к задачам полиции и исполнительной власти значительно больше занимался службой информации и оказанием влияния на всю политику. В этой области он был царем».
Из показаний Иодля я подчеркиваю следующую фразу:
«Уже до того как Кальтенбруннер принял от Канариса службу информации, он время от времени посылал мне очень хорошие отчеты о положении на юге-востоке, это заставило меня обратить внимание на его опыт в делах информации…»
Кальтенбруннер в главном имперском управлении безопасности действительно занимал позицию, имевшую целью главным образом обеспечение работы службы информации и дальнейшее расширение последней…
Этот человек затем под давлением политических и военных событий не сохранил разделения функций. Его послушание Гитлеру, а тем самым и Гиммлеру, в 1943–1945 гг. привело к тому, что он подчинился кажущейся необходимости гарантировать стабильность внутригерманского положения с помощью полицейского насилия, оказавшись тем самым среди виновных. Ясно, что он может рассчитывать на снисходительное решение вопроса о его ответственности со стороны мировой совести только в том случае, если бы смог доказать, что он действительно отмежевался от IV управления (управления тайной государственной полиции — гестапо), которое вполне заслуживает названия дьявольского управления, и если бы он никоим образом не был причастен к идеям и методам, приведшим, как я считаю, в конце концов к данному процессу. Я не могу отрицать фактов: он не отмежевался от управления. В этом направлении не было предпринято ничего определенного, даже его собственные показания говорят против него. Этим следует объяснить, пожалуй, сделанное им в начале допроса перед Трибуналом заявление, которое я хотел бы назвать его тезисом о виновности:
«Вопрос: Ясно ли вам, что против вас выдвинуто совершенно особое обвинение? Представители обвинения ставят вам в вину преступления против мира, а также вашу идеологическую причастность или соучастие в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Наконец, обвинение связывает ваше имя с террором гестапо и жестокостью в концентрационных лагерях. Я спрашиваю вас: берете ли вы на себя ответственность в рамках широко представленных и известных вам пунктов обвинения?
Кальтенбруннер: В первую очередь я хотел бы заявить суду, что полностью сознаю всю тяжесть выдвинутых против меня обвинений. Я знаю, что я ненавистен миру, тем более, что Гиммлера, Мюллера и Поля уже нет в живых, и я один должен ответить перед миром и судом… Но я хотел бы в самом начале заявить, что беру на себя ответственность за все несправедливости, совершенные в рамках деятельности этого управления с момента моего назначения начальником главного имперского управления безопасности, если это произошло под моим фактическим руководством, то есть если я знал о совершавшемся или должен был знать».
Таким образом, задача защиты распадается на две части, для выяснения которых следует задать следующие вопросы:
1. Что хорошего и плохого сделал Кальтенбруннер с момента его назначения на пост начальника главного имперского управления безопасности, то есть с 1 февраля 1943 г.
2. В какой степени можно утверждать, что он не был достаточно осведомлен о всех преступлениях против человечности и военных преступлениях, об основных моментах этих преступлений.
3. В какой степени можно говорить о его виновности, если смотреть на все с той точки зрения, что он должен был знать о тяжелых преступлениях против международного права, в которых принимало непосредственное или косвенное участие IV управление главного имперского управления безопасности (государственная тайная полиция). Что сделал Кальтенбруннер?
Я пропускаю инкриминируемое ему участие в событиях при оккупации Австрии и Чехословакии, ибо с какой бы энергией он ни преследовал цель — присоединить свою австрийскую родину к империи и для достижения ее использовать руководимые им силы СС, — эта цель не может осуждаться совестью мира как преступная…