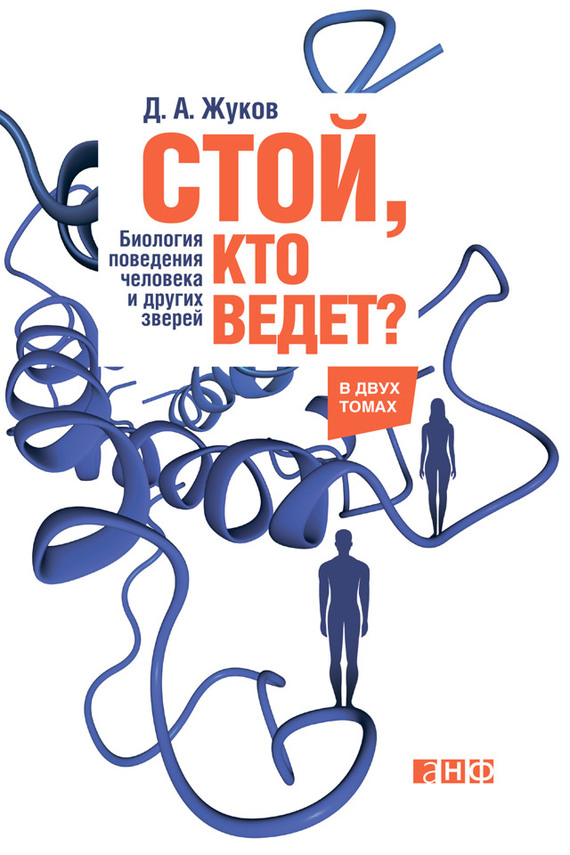Стыд Альвтеген Карин
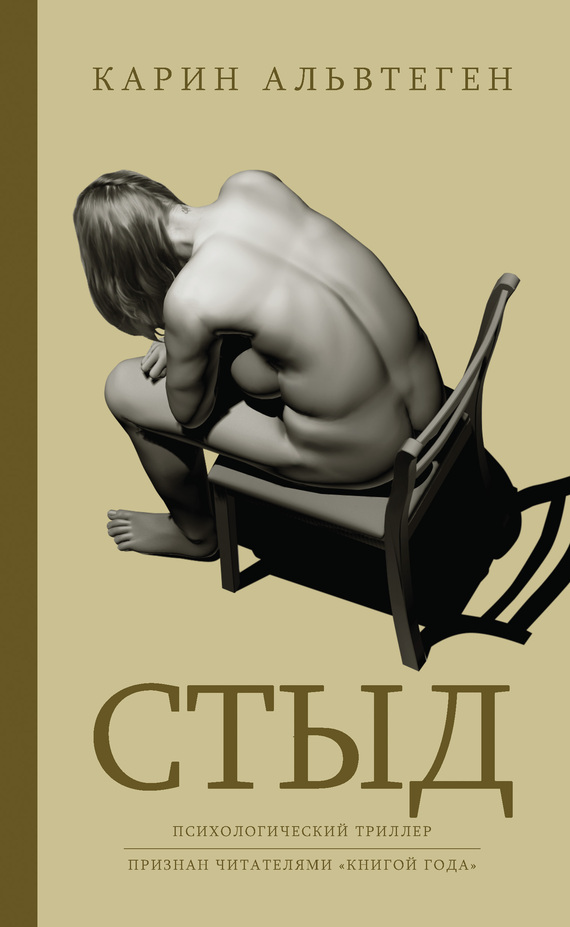
Прежде чем уйти из жизни, ей нужно покончить и с собственной ложью, нужно увидеть Ванью собственными глазами — и убедиться, что та ее простила. А еще она должна получить ответ на вопрос, который мучил ее беспрерывно — откуда Ванья узнала о том, что у нее опухоль, и почему она знала об этом раньше самой Май-Бритт.
Прежде она думала написать бывшей подруге, даже несмотря на то, что Ванья дала понять, что не хочет ничего рассказывать ни в письме, ни по телефону. Но наверняка Ванья осталась такой же упрямой, как в молодости, — переубеждать ее нет смысла.
Май-Бритт должна перебороть себя и сделать это.
Потом она заставит Монику Лундваль либо признаться во всем вдове, либо перечислить деньги в Фонд спасения детей. А когда получит все необходимые подтверждения, то ждать шесть месяцев не будет. А устроит так, чтобы это произошло намного быстрее.
Эллинор все организовала сама. Май-Бритт впервые воспользовалась телефонным номером, который та оставила на прикроватном столике. Эллинор восприняла ее просьбу с энтузиазмом. Нашла достаточно вместительный автомобиль, позвонила и узнала правила посещения. Сообщила Май-Бритт, что человек, с которым она говорила, почти обрадовался, услышав ее просьбу. Ответил ей — да, Ванье Турен разрешены посещения, более того, она может встречаться с посетителями в отсутствие охранников, для этого нужно только заранее зарезервировать помещение.
Май-Бритт была полностью поглощена приготовлениями, двое суток она пыталась осознать то, что собиралась совершить. Равно как и самый факт, что она собирается сделать это добровольно. Если ее ждет неудача, она даже не сможет свалить вину на Эллинор.
Она была готова и ждала у входной двери — невероятно. Как будто во сне. Саба стояла чуть в стороне в прихожей, наблюдала, как они выходят, даже не пытаясь идти следом — она ведь не знала, что таким путем тоже можно выйти из квартиры. В ее представлении дверь была странным проемом, с помощью которого периодически приходили и уходили какие-то люди. Но теперь там, по ту сторону, стояла ее хозяйка и, по-видимому, волновалась. Саба подошла к порогу, остановилась и завыла, а Эллинор, присев на корточки, погладила ее по спине:
— Мы скоро вернемся, вот увидишь. Вечером она уже будет дома.
Каждой клеткой своего огромного тела Май-Бритт желала, чтобы вечер скорей наступил и ей никуда больше не нужно было идти.
Город изменился. Столько всего случилось с тех пор, как она видела его в последний раз. Повсюду виднелись новые здания — и там, где раньше росли деревья, и внутри знакомых кварталов, она не узнавала места, в котором родилась. А еще город очень вырос. Жилые кварталы теперь протянулись далеко в лес, подступавший с юга, и граница города переместилась на несколько километров. Она не уезжала отсюда больше тридцати лет, но, несмотря на это, место казалось ей чужим. Май-Бритт внимательно осматривалась, пытаясь запомнить все новое, но в конце концов не выдержала и, переполненная впечатлениями, закрыла глаза. Мысль о Ванье не покидала ее ни на секунду. Как та ее встретит? Может быть, она на нее сердится? Но зрительные впечатления все же помогали справиться с волнением.
Она задремала. Так и не поняла, сколько времени они провели в дороге, — открыла глаза в тот момент, когда машина остановилась. Они стояли на парковке. Бросив быстрый взгляд по сторонам, она заметила белые здания за высоким забором, но рассматривать их подробно не было сил. Надо как можно тщательнее подготовиться к тому вниманию, которое она обязательно там привлечет, — и теперь, когда время подошло, Май-Бритт уже жалела. Мужество снова ее покинуло. Ванья увидит ее — уже этого было достаточно. Это будет признанием колоссального поражения. Вдруг заболело в горле и непроизвольно выступили слезы, и она не смогла скрыть их, даже заметив, что на нее смотрит Эллинор. Страх, что придется выйти и показать себя незнакомым людям, был так же велик, как и тот, что охватил ее, когда она водила пальцем по Библии, пытаясь получить от Него ответ. Май-Бритт била дрожь.
— Да не бойтесь, Май-Бритт.
Голос Эллинор был спокойным, уверенным.
— У нас еще есть время, давайте посидим здесь немного, а потом я пойду с вами, прослежу, чтобы все шло как надо, а потом оставлю вас наедине.
Она почувствовала, как Эллинор взяла ее за руку, и не стала сопротивляться, она сама взяла протянутую руку и крепко ее сжала. Ей очень хотелось, чтобы хоть толика силы и уверенности Эллинор передалась и ей. Эллинор всегда добивается своего. Она была настойчива и ни на что не обращала внимания — и ей удалось убедить Май-Бритт, удалось доказать ей, что существует доброжелательность, ничего не требующая взамен.
— Пора, Май-Бритт. Время посещения началось. Повернувшись, Май-Бритт увидела, что Эллинор улыбается, но в глазах у нее она с удивлением заметила слезы.
Новые туфли на мокром асфальте. Их мыски, в мерном темпе появляющиеся из-под подола платья, — Май-Бритт могла смотреть только на это. Нижний угол двери, порог, черный коврик, светло-коричневый линолеум. Эллинор с кем-то разговаривает. Скрежет ключа, поворачиваемого в дверном замке. Черные мужские туфли и синие брюки, снова светло-коричневый линолеум. Несколько закрытых дверей, различаемых краем глаза.
Она ни разу не подняла взгляд, но явственно чувствовала, что на нее смотрят.
Мужские туфли остановились, открылась дверь.
— Ванья сейчас придет. Вы пока можете подождать. Новый порог, ей удалось переступить и его. Они, по-видимому, пришли. Черные туфли удалились, и она осторожно посмотрела вверх, желая убедиться, что они одни.
Эллинор стояла у дверей.
— С вами все в порядке?
Май-Бритт кивнула. Она приехала сюда, пытаясь преодолеть себя и стать сильнее. Но все это требовало от нее сильного напряжения, ноги ей больше не повиновались. Она подошла к столу с четырьмя стульями, которые выглядели достаточно прочными для ее веса, и села на один из них.
— Тогда я подожду за дверью.
Май-Бритт снова кивнула.
Эллинор переступила через порог и оглянулась:
— Знаете, Май-Бритт, я за вас очень рада.
Она осталась одна. Небольшая комната, на окнах опущены жалюзи, простой диван и кресла, стол, за которым она сидела, и несколько картин на стенах. Звуки, доносящиеся из коридора. Где-то звонил телефон, где-то открылась дверь. Сейчас придет Ванья. Ванья, которую она не видела тридцать четыре года. Которая, как ей казалось, бросила ее и которую сама она обманывала. Она слышала приближающиеся по коридору шаги и еще крепче сжала руками столешницу. А в следующее мгновение Ванья стояла в дверях. У Май-Бритт непроизвольно перехватило дыхание. Ей-то представлялась та свадебная фотография, где Ванья — подружка невесты, но она ошибалась. В дверях стояла пожилая женщина. Некогда черные волосы поседели, сеть мелких морщин покрывала когда-то такое знакомое лицо. Время, внезапно ставшее зримым. Очевидное, само собой разумеющееся время, которое проходит, забирает причитающуюся дань, нарезает годовые кольца — независимо от того, замечает человек это или нет.
И эти глаза, при виде их Май-Бритт поначалу даже дышать не могла. Она помнила, что в уголках глаз у Ваньи всегда сверкали искорки, а с лица не сходила улыбка. Во взгляде стоявшей перед ней женщины читалось бесконечное горе, как будто этому взгляду довелось увидеть больше того, что человек мог выдержать. Но женщина улыбалась, и в какой-то миг Май-Бритт даже узнала свою лучшую подругу. Та Ванья словно промелькнула на этом незнакомом женском лице.
При виде Май-Бритт ни один мускул на ее лице не дрогнул.
Ни один.
Охранник все еще стоял у дверей, Ванья оглядела комнату.
— Слушай, Буссе, а нельзя поднять жалюзи? А то тут почти ничего не видно.
Улыбнувшись, охранник взялся за ручку двери.
— К сожалению, Ванья, они должны быть опущены.
Он вышел из комнаты и закрыл дверь, Май-Бритт не услышала, запер ли он их на ключ. Как будто нет. Ванья подошла к окну и попыталась слегка раздвинуть жалюзи, но ей это не удалось. Они не двигались. Ванья прекратила попытки и снова огляделась по сторонам. Подошла к одной из картин и немного наклонилась вперед, чтобы рассмотреть подробнее. Лесной пейзаж.
Потом снова повернулась и окинула взглядом комнату.
— Представляешь, я все эти годы гадала, какая у них тут комната для свиданий.
Май-Бритт молчала. Все эти годы. Ванья думала об этом шестнадцать лет.
Ванья подошла к столу, вытащила стоявший напротив Май-Бритт стул и смущенно на него опустилась. Май-Бритт растерялась. До такой степени, что уже даже не нервничала. Все равно это была Ванья. В этом незнакомом теле спрятана та самая Ванья, которую Май-Бритт знала. И нечего бояться.
Долгое время они просто молча смотрели друг на друга. Не произнося ни слова, они как будто искали в лицах друг друга знакомые черты. Шли секунды, минуты, и все тревоги Май-Бритт постепенно исчезали. Впервые за долгое, очень долгое время она чувствовала себя спокойно. Она как будто вернулась в убежище, которое в детстве всегда находилось рядом с Ваньей, в место, где можно было расслабиться, где не нужно держать оборону. А еще она подумала об Эллинор. О ее настойчивости и о том, что в конце концов у той все получилось.
Первой заговорила Ванья:
— Представляешь, если бы нам кто-нибудь сказал, что мы вот так встретимся. В тюремной комнате для свиданий.
Май-Бритт опустила взгляд. Внезапно ее поразила другая мысль. О том, как много времени потеряно. И о том, что сейчас уже слишком поздно.
— Ты была у врача?
Ванья как будто услышала ее мысли.
Май-Бритт кивнула.
— Когда у тебя операция?
Май-Бритт заколебалась. Она не собиралась больше лгать. Но сказать правду тоже не могла.
— Откуда ты узнала?
На Ваньином лице появилась легкая улыбка.
— У меня это ловко получилось, а? Я заставила тебя явиться сюда, хотя уже ответила на твой вопрос еще в первом письме. Но чего только не сделаешь для того, чтобы увидеть эту комнату для свиданий.
Все та же Ванья, никаких сомнений. Но к чему это она, непонятно. Май-Бритт попыталась вспомнить, что было в том письме, но Ванья точно ничего об этом не писала. Такое Май-Бритт вряд ли забыла бы.
— Что значит — уже ответила?
Ее улыбка стала шире. Снова промелькнула Ванья из детства. Ванья, с которой у Май-Бритт так много общих воспоминаний.
— Разве я не писала, что ты мне снилась?
Май-Бритт смотрела на нее, широко открыв глаза.
— Что ты имеешь в виду?
— Я говорю как есть. Мне это приснилось. Конечно, я не была уверена на сто процентов, но я подумала, что лучше не рисковать.
Май-Бритт непроизвольно хмыкнула, это получилось само собой. Объяснение оказалось настолько неожиданным и невероятным, что его трудно было воспринимать всерьез.
— И ты хочешь, чтобы я в это поверила?
Ванья пожала плечами и внезапно стала прежней. На ее лице появилось очень характерное выражение. Чем больше Май-Бритт смотрела на нее, тем больше ее узнавала. Просто прошло время, и износилась оболочка.
— Не хочешь, не верь, но все было именно так. Если ты найдешь лучшее объяснение, я не стану возражать.
Май-Бритт вдруг рассердилась. Она проделала весь этот долгий путь, ей пришлось преодолевать себя — и все это ради того, чтобы услышать эти слова? А она еще собиралась просить у Ваньи прощения! Теперь это желание пропало. О каком прощении может идти речь, если Ванья ее попросту разыгрывает?
Долгое время они сидели молча. Брать свои слова обратно или предлагать какое-нибудь новое объяснение Ванья явно не намеревалась, а Май-Бритт не хотела ни о чем больше спрашивать. Сменить тему означало признать ответом то, что она услышала, а Май-Бритт этого не хотела. Решительно не хотела. Она была абсолютно уверена, что объяснение должно быть в каком-то смысле серьезным. Она сама не знала, на что конкретно рассчитывала, но теперь растерялась: все так непонятно. Даже больше чем растерялась — она вообще знать об этом не желала. Притом что придумать другое объяснение не могла, даже мобилизовав всю свою фантазию.
— Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, вначале мне тоже было страшно. Но потом я привыкла и поняла, что на самом деле это потрясающе. Я имею в виду тот факт, что человек не все и не всегда может объяснить.
Май-Бритт так не считала. Ей было страшно. Если Ванья права, то на свете слишком много необъяснимого. Но Ванье, кажется, все нипочем. Спокойная, она вертела в руках коричневую подставку для салфеток, которая стояла между ними на столе.
А потом она сменила тему, словно до этого они обсуждали что-то несущественное:
— Я получила амнистию. Через год я выйду на свободу.
Май-Бритт обрадовалась, что разговор переключился на что-то другое.
— Поздравляю.
Теперь хмыкнула Ванья. Беззлобно, просто показывая собственное отношение к сказанному.
— Прошение писала не я, а кто-то из персонала.
— Но это же хорошо, разве нет?
Какое-то время Ванья не отвечала.
— Ты помнишь, что ты делала семнадцать лет назад?
Май-Бритт задумалась. Восемьдесят девятый год. По-видимому, она просидела его в кресле. Или на диване, если тогда еще могла на него сесть.
— С этого времени я здесь. Но на самом деле я просто сменила одну тюрьму на другую, и если их сравнивать, то здесь, поверь мне, настоящий рай. Сколько всего я успевала передумать за те редкие минуты, когда мне не нужно было рассчитывать каждый свой шаг, чтобы, не дай бог, он не впал в ярость. Или куда он там впадал…
Ванья рассматривала собственные руки, лежавшие на столе.
— Тюрьма — это тот же штраф. Просто платишь не деньгами, а временем. И разница только в том, что деньги всегда можно снова заработать.
Май-Бритт решила, что лучше молчать.
— Здесь невозможно выжить, если не изменишь отношения ко времени. Нужно убедить себя в том, что на самом деле его нет. Если тебя заперли, то силы надо искать в другом месте. — Ванья постучала указательным пальцем по своей седой голове. — Каждый день в восемь вечера тут закрывают дверь, и ты остаешься один на один со своими мыслями. И, уверяю тебя, многие готовы на все, что угодно, лишь бы не думать. В первые годы я была в таком ужасе, мне казалось, я схожу с ума. Но потом, когда у меня не стало больше сил сопротивляться, я просто уступила…
Она не закончила фразу, и Май-Бритт с нетерпением ждала продолжения. Но Ванья молчала, глядя куда-то в пустоту и как будто не собираясь ничего больше говорить. Однако Май-Бритт хотелось, чтобы она рассказывала дальше.
— И что тогда?
Ванья посмотрела на нее так, словно успела забыть о ее присутствии, а потом увидела Май-Бритт и обрадовалась.
— Я поняла, что если слушать внимательно, то можно многое услышать.
Май-Бритт сглотнула. Ей захотелось поговорить о другом.
— Что ты будешь делать, когда выйдешь отсюда?
Ванья пожала плечами. Потом повернула голову и снова посмотрела на картину. Лесной пейзаж.
— Представляешь, есть всего одна вещь, по которой я тоскую. Знаешь, что это?
Май-Бритт покачала головой.
— Я хочу проехаться на велосипеде по проселочной дороге вдоль леса. Навстречу ветру.
Она снова посмотрела на Май-Бритт. Смущенно улыбнулась. Как будто ее мечта могла показаться глупой.
— Тому, кто свободен, трудно представить, что о таком можно мечтать. Ведь это можно сделать в любой момент, стоит только захотеть.
Май-Бритт опустила голову. Почувствовала, что краснеет, и не хотела, чтобы Ванья заметила это. Эта истина казалась ей насмешкой. Ванья расплатилась шестнадцатью годами. Сама же она добровольно отдала тридцать два. Она ни разу и близко не подошла к проселочной дороге. Не была в лесу. А если начинало дуть, она закрывала балконную дверь. Она оказалась в тюрьме по своей воле, выбросила ключ, но и этого оказалось мало — она позволила собственному телу стать ее последней темницей.
— Никакое правительственное помилование мне не поможет.
Горе, прозвучавшее в голосе Ваньи, заставило Май-Бритт оставить собственные мысли.
— Что ты имеешь в виду?
Ванья не отвечала. Просто сидела, молча глядя на картину. Май-Бритт вдруг захотелось утешить ее, сказать что-то хорошее, поддержать ее так, как Ванья всегда поддерживала ее. Она торопливо искала слова.
— Но ты не виновата в том, что случилось.
Глубоко вздохнув, Ванья обхватила руками голову.
— Если бы ты знала, как мне хотелось спрятаться именно за этим выводом — сказать, что все произошло без моего участия. Взвалить всю вину на Эрьяна.
Май-Бритт заговорила еще торопливее:
— Но он действительно во всем виноват!
— То, что он делал, было отвратительно, такое нельзя прощать. Но ведь это же не он… — Ванья замолчала и прикрыла глаза. — Столько лет прошло, а я по-прежнему не могу сказать это вслух. У меня все тело начинает болеть.
— Но он тебя вынудил, он заставил тебя это сделать. Это был единственный выход, который он тебе оставил. Ты же сама мне так написала.
— Речь обо всех этих годах. О годах, на протяжении которых я позволяла ему это вытворять. Все началось задолго до рождения детей. Я даже в свое время написала об этом статью. О том, что уходить нужно после первого же удара.
Она снова замолчала.
— Не думаю, что кто-нибудь сможет понять, насколько мне было стыдно, что я позволяю ему все это. — Ванья прикрыла лицо руками.
Май-Бритт хотелось что-нибудь сказать, но она не находила слов.
— Знаешь, в чем была моя главная ошибка?
Май-Бритт медленно покачала головой.
— Вместо того чтобы бороться, я начала относиться к себе как к жертве. И тем самым позволила ему победить, я как будто перешла на его сторону и разрешила ему делать все, что угодно, потому что жертве не остается ничего, кроме подчинения, жертва не способна изменить ситуацию. У меня не хватило сил для того, чтобы оказать сопротивление, я ведь привыкла к этому еще с детства.
Май-Бритт вспомнила дом, в котором выросла Ванья. Дом, в котором Май-Бритт пряталась от бдительного ока Господня. Дом, в котором царил блаженный беспорядок. Все знали, что отец Ваньи пьет, но чаще всего он был веселым и не внушал никакого страха. Только шутил по-дурацки. Мать Ваньи она видела редко. Та, как правило, сидела у себя в спальне, а они старались не беспокоить ее.
— Меня отец не бил, но он бил мать, что по сути одно и то же.
Ванья снова посмотрела на картину и замолчала.
— Когда он открывал дверь, я никогда не была уверена, кто вернулся — папа или тот другой, который выглядит точно так же, но которого я совсем не знаю. Однако стоило ему сказать хотя бы слово, и все сразу становилось ясно.
Май-Бритт ничего не знала. Ванья ни разу и словом не обмолвилась о том, что происходило у нее дома.
— Нельзя забывать о том, что Эрьян вырос в таких же условиях, у него тоже был отец, который бил мать, и мать, которая это позволяла. Сейчас я часто спрашиваю себя, где та точка, с которой все началось. Если найти ее, становится легче, и тебе проще понять, почему люди совершают непростительные поступки.
В комнате снова стало тихо. Снаружи светило солнце, и его лучи проникли в помещение сквозь щели в жалюзи. Май-Бритт рассматривала полосатые тени на противоположной стене. Потом глубоко вздохнула и, набравшись смелости, задала вопрос, который ей очень хотелось задать:
— Ты боишься смерти?
— Нет. — Ванья ответила без колебаний.
Май-Бритт посмотрела на свои сложенные на коленях руки. Медленно кивнула.
— Я рассуждаю так. Умереть ничуть не страшнее, чем вообще не родиться на свет. Разница лишь в том, что во втором случае твое тело так никогда и не побывало на земле. Умереть значит вернуться туда, где мы были раньше.
Май-Бритт почувствовала, что по лицу текут слезы. Так хотелось найти утешение в словах Ваньи, но она его не находила. Она должна успеть, это ее единственная возможность. Она вдруг четко представила себе все, что должна сделать. И немедленно, опасаясь, что случайное сомнение ей помешает, начала рассказывать. Ничего не приукрашая, ничего не пропуская, обращая в слова всю чудовищную правду. Все, что было. Все, что она совершила.
Ванья слушала молча. Не перебивая. И Май-Бритт призналась во всем, утаив только одно — ничего не рассказала о своих планах. О долге, который обязана исполнить.
Иначе ей на это не хватит смелости.
Когда Май-Бритт замолчала, Ванья задумалась. Солнце за окном исчезло, стерев тени со стены. Май-Бритт слышала удары собственного сердца. С каждой минутой молчание Ваньи становилось все более угрожающим. Май-Бритт со страхом ждала ее слов, ее реакции. Что, если и Ванья ее осудит, не примет ее оправданий. Дело не только во лжи. Теперь, когда Май-Бритт поняла, сколько утрат выпало на долю Ваньи, собственный выбор показался ей отступничеством. И она с ужасом поняла, что на ней лежит еще одна вина.
— Знаешь, Майсан, ты, наверное, даже не представляешь, насколько ты была важна для меня все эти годы, как много для меня значило, что ты у меня есть.
У Май-Бритт даже дыхание перехватило от неожиданности.
— Я очень расстроилась, когда ты оборвала всякую связь, не сообщив новый адрес. Поначалу мне казалось, ты по какой-то причине на меня обиделась, и я никак не могла понять, что я сделала не так. Я написала твоим родителям, сообщила им, что ищу тебя, но ответа не получила. Потом прошло время и… ну да, и все сложилось так, как сложилось.
То, что говорила Ванья, было настолько удивительным, что Май-Бритт не могла найти слов. Неужели ока была важна для Ваньи? Нет, все наоборот. Из них двоих Ванья была сильной, и Май-Бритт в ней нуждалась. Потому что Май-Бритт слабее. Так было всегда.
Ванья улыбалась.
— Но я всегда думала о тебе. Наверное, поэтому мне этот сон и приснился.
Какое-то время они сидели, молча глядя друг на друга. Прошло столько времени, но почти ничего не изменилось. В самом деле.
— Может, займемся чем-нибудь вместе, когда я выйду?
Май-Бритт вздрогнула, а Ванья добавила:
— Ты ведь единственная, кого я там знаю.
Вопрос был настолько неожиданным, а мысль такой ошарашивающей, что Май-Бритт растерялась. Сказанное Ваньей подразумевало нечто куда большее. Оно сломало все представления Май-Бритт о том, что есть и что будет. Неужели Ванья на самом деле хочет, чтобы она была рядом, нуждается в ней и по собственной инициативе спрашивает, не смогут ли они сделать что-нибудь вместе в день, когда это станет возможным?
Но это невозможно. Этого никогда не будет. В день, когда Ванья получит свободу, Май-Бритт не будет в живых. Она ведь так решила.
Вместе. Маленький раздражающий шанс, нет, она сейчас все поставит на прежнее место. Бессмысленно. Она пыталась одновременно упорядочить собственные мысли и слушать, что говорит Ванья, но у нее ничего не получалось — мысли блуждали, сворачивая в какие-то внезапно открывшиеся коридоры. Бежали вверх по каким-то новым лестницам, осторожно проверяя их на прочность.
Ванья и она?
Попытка вернуть то, что они однажды потеряли.
Избавиться от одиночества.
— Даже не знаю, что это может быть, но ближе к делу можно что-нибудь придумать.
Май-Бритт старалась сосредоточиться на ее словах.
— Прости, я не расслышала, чем ты собираешься заняться?
— Не знаю пока. Может быть, кому-то понадобится помощь.
Май-Бритт поняла, что что-то пропустила.
— А как ты об этом узнаешь?
Ванья улыбнулась, но не ответила. Май-Бритт узнала это выражение лица. В детстве она видела его часто, и именно оно всегда вызывало у Май-Бритт наибольшее любопытство.
— Лучше я ничего не буду рассказывать, потому что ты все равно мне не поверишь.
Больше Май-Бритт ни о чем не спросила, потому что поняла, куда все клонится. Никаких вещих снов. С нее и так пока достаточно.
В дверь постучали. На пороге показался мужчина, который сопровождал Ванью.
— У вас осталось пять минут.
Ванья кивнула, не оглянувшись, и мужчина снова закрыл дверь. Ванья протянула руку и накрыла ею руку Май-Бритт.
— Оставь себе своего строгого Бога, если хочешь, хотя Он уже и запугал тебя до безумия. Как-нибудь я открою тебе одну тайну, расскажу о том, что случилось в тот день, когда я хотела умереть и чуть не погибла в огне. Но если ты даже в вещие сны не веришь, то пока рассказывать тебе об этом рано.
Ванья улыбалась, но Май-Бритт не решалась улыбнуться в ответ, и Ванья, наверное, поняла ее терзания. Погладила по руке.
— Тебе не надо ничего бояться, потому что ничего страшного там нет.
И на лице ее появилась хорошо знакомая улыбка, и только сейчас Май-Бритт осознала, как сильно ей не хватало этой улыбки. Ведь это же ее Ванья — та, которая всегда умела поднять настроение и столько раз помогала ей в детстве своим бесстрашием, благодаря ей Май-Бритт научилась смотреть на вещи с разных сторон. Если бы только она могла все исправить, сделать по-другому. Как же она могла позволить Ванье исчезнуть из ее жизни? Как она могла бросить Ванью?
Тебе не надо ничего бояться, потому что ничего страшного там нет.
Ей очень хотелось в это верить. Отбросить все страхи и раз и навсегда выбрать жизнь.
— Как же я хочу тоже в это верить.
Улыбка Ваньи стала еще шире.
— А разве тебе недостаточно маленького «как будто»?
Саба ждала ее у входной двери. Май-Бритт направилась прямиком к телефону и набрала номер Моники Лундваль.
Линия была свободна, сигналы раздавались один за другим, но в конце концов Май-Бритт поняла, что ей вряд ли ответят.
Эпилог
Ночью выпал снег. Мир лежал под тонким белым покрывалом. По крайней мере, его видимая часть. Смахнув снег со скамейки, она села и стала наблюдать, как растворяется в воздухе белый пар ее дыхания.
Одна ночь прошла.
Одну ночь она пережила, осталось сто семьдесят девять ночей и столько же дней. После этого она снова станет свободной. Сможет делать все, что захочет. Через сто семьдесят девять дней и ночей она искупит свою вину перед обществом и снова получит свободу.
Свобода. Слово, когда-то настолько самоочевидное, что и в голову не приходило задуматься над его смыслом. Нечто, воспринимаемое как данность. То, что начинаешь ценить только после того, как потеряешь.
Ее жизнь вызывала зависть. Высокооплачиваеммая престижная работа, эксклюзивная служебная машина, роскошная квартира. Существование, оформленное множеством притягательных символов успеха. Общепризнанное доказательство того, что она состоялась как личность. — Однако каждая ступень, поднимавшая ее над средним уровнем, одновременно отдаляла от свободы; чем выше Моника поднималась, тем страшнее было потерять все, чего она добилась.
И вот теперь у нее ничего не осталось. Успех, который дался с таким трудом, в единый миг разбился вдребезги, исчез без остатка — как будто ничего вообще не было. Впрочем, наверное, это был ненастоящий успех — раз она так быстро его лишилась? Она не была уверена. Она теперь ни в чем не была уверена. Ощущала только бесконечную пустоту и не представляла, чем ее можно заполнить. В тот день, когда придется оглянуться и увидеть свою жизнь без прикрас — сможет ли она тогда сказать, что в ее жизни были какие-то ценности? Было нечто подлинное, настоящее? Если она оглянется прямо теперь, то увидит позади только две такие вещи. Бесконечную скорбь по Лассе и головокружительную любовь к Томасу. Однако и первое, и второе она пресекла, сделала все, чтобы искоренить эти чувства, выкорчевала собственную душу и в конце концов сама превратилась в тень. Она многого добилась. Очень многого. И очень высокой ценой.
И все потеряла.
Злоупотребление служебными полномочиями.
Степень вины определяется в зависимости от размеров материального и морального ущерба, причиненного действиями лица, совершившего проступок.
Ущерб был признан значительным. И причинила его высококвалифицированная, успешная Моника Лундваль.
Она перевела деньги на счет Фонда спасения детей, поместила все подтверждающие документы в конверт и, как ей казалось, отправила на адрес Май-Бритт. Через неделю она нашла конверт в кармане пальто, но уже было поздно. Вернувшись тогда домой из банка, она отключила телефоны, положила упаковки с транквилизатором и снотворным на прикроватный столик и легла в постель. Через три дня у нее в квартире появился директор клиники в сопровождении кого-то из ее коллег и слесаря. Директору клиники позвонили из банка. Хотели убедиться, что все в порядке, поскольку сумма, снятая с благотворительного счета клиники, была весьма крупной, а поведение клиентки выглядело немного странным. Разумеется, сотрудники банка могли ошибаться, но им показалось, что женщина находилась под воздействием наркотиков. Стыд, который испытала Моника, увидев в собственной спальне директора клиники и коллегу, в буквальном смысле лишил ее речи. Директор сказал, что, если она расскажет обо всем, он не заявит в полицию, — но Моника продолжала молчать даже после того, как к ней вернулась способность говорить. В любом случае она не смогла бы жить прежней жизнью. Если бы она во всем призналась, то не смогла бы смотреть им в глаза.
И Моника выбрала наказание.
Странно, но, сделав выбор, она почувствовала, что освободилась от той абсурдной реальности, в которой сама же себя заперла.
Потому что тюрьмы бывают разными. И заключенными становятся не только по решению суда.
В прихожей лежало письмо от Май-Бритт. В глубоком раскаянии она просила прощения за все, что пришлось пережить Монике, сообщала, что беспрерывно звонит ей и хочет забрать все свои слова назад. Но Моника не отвечает. Она перечитывала письмо снова и снова. Поначалу оно ее очень разозлило, но со временем ярость уступила место грусти. Напрасно она искала виноватых, пытаясь найти оправдание себе — в конце концов пришлось признать: в случившемся никто, кроме нее, не виновен.
За несколько дней до суда пришло письмо от Перниллы. Все это время Моника ей не звонила, скрепя сердце игнорировала сообщения на автоответчике, и Пернилла со временем перестала выходить на связь. Моника сразу поняла, что Пернилла обо всем узнала — имя отправителя испугало ее, как сирена, раздавшаяся посреди ночи. Дрожащими руками она распечатала конверт, но уже через мгновение, прочитав несколько скупых строчек, почувствовала неописуемое облегчение. Она прощена. Пернилле все объяснили, она не скрывала, что вначале рассердилась и огорчилась. Но тот, кто рассказал ей обо всем, все-таки заставил ее понять, почему Моника поступила именно так, — и гнев Перниллы превратился в сострадание. А еще она спрашивала о деньгах, которые получила. Из-за этой ли суммы против Моники возбудили уголовное дело или из-за тех средств, которые та была вынуждена перечислить в Фонд спасения детей.
Только прочитав об этом, Моника поняла, что своим освобождением обязана Май-Бритт.
Выглянувшее из-за крыш солнце рассыпало в снегу миллионы крошечных алмазов. Моника плотнее запахнула куртку, но теплее не стало. Посмотрев на часы, поняла, что прошла только половина того часа, который ей позволялось проводить вне помещения, но даже самый страшный холод не смог бы заставить ее закончить прогулку раньше.
Краем глаза она заметила, что открылась дверь, и кто-то вышел во двор. Она не посмотрела, кто это был, — не решилась, потому что не знала правил, которые следует тут соблюдать ради собственного же благополучия. Сокрушительное чувство отъединенности и одиночества, охватившее ее вчера во время ужина, среди всех этих людей, было настолько сильным, что Моника даже попросила разрешения вернуться в камеру раньше положенного времени. А когда они оставили ее одну и закрыли дверь, Моника впервые в жизни поняла, что значит задыхаться в помещении, где есть воздух. Ей казалось, что она сейчас умрет. Но искать помощи можно ведь только у тех, кто ее запер, а они подвергли ее этим мукам не по случайному недоразумению, а сознательно. Потому что она это заслужила.
Ей казалось, что она умрет от собственного бессилия.
Она поняла, что тот, кто только что вышел во двор, приближается к ней, и включившаяся защитная реакция заставила ее повернуть голову, чтобы встретить возможную угрозу. Это была одна из самых пожилых женщин-заключенных. Моника видела ее вчера во время ужина. Она сидела одна и вела себя так, словно все происходившее ее не касалось, остальные же с уважением относились к ее уединению. Когда их взгляды впервые встретились, Монике вдруг стало не по себе — в глазах у женщины было нечто особенное, она смотрела на Монику так, как смотрят на знакомого человека. Но Моника никогда раньше не встречалась с ней, и ей вообще не хотелось привлекать к себе внимание. Именно таким должно было быть ее существование здесь. Незаметным.
Когда женщина поравнялась со скамейкой, Моника услышала удары собственного сердца. Она вспомнила жаргон заключенных во время вчерашнего ужина, среди узниц царила явная иерархия, каждая из них действовала в соответствии со сценарием, в котором Монике не отводилось никакой роли. И она понятия не имела, как найти собственное место, избежав при этом возможных конфликтов. Советов ей никто не давал. Ей было страшно, но все же это был другой страх — не тот, к которому она привыкла. С тем, что было у нее в душе, никто ничего сделать не мог. Просто ее тело боялось физической боли. Она опасалась, что на нее кто-нибудь набросится.
— Не боитесь подхватить цистит, сидя на холодной скамейке?
Моника была благодарна за вопрос, на который могла ответить. Она уже собралась сказать, что мочевой пузырь воспаляется не от холода, а из-за наличия бактерий в моче, но прикусила язык. Женщина могла подумать, что это — демонстрация превосходства.
— Наверное, вы правы.
Она встала.
Женщина убрала за ухо выбившуюся седую прядь.
— Не хотите пройтись?
Моника заколебалась. По виду эта женщина была вполне нормальной, но уходить с ней далеко от здания Моника все же опасалась. Она бросила быстрый взгляд на дверь. Возвращаться внутрь ей тоже не хотелось. У нее еще оставалось время. Сказать «нет» и остаться на месте она тоже не могла.
— Конечно.
Она медленно шли по двору. Торопиться им некуда.
— Вы поступили вчера, да?