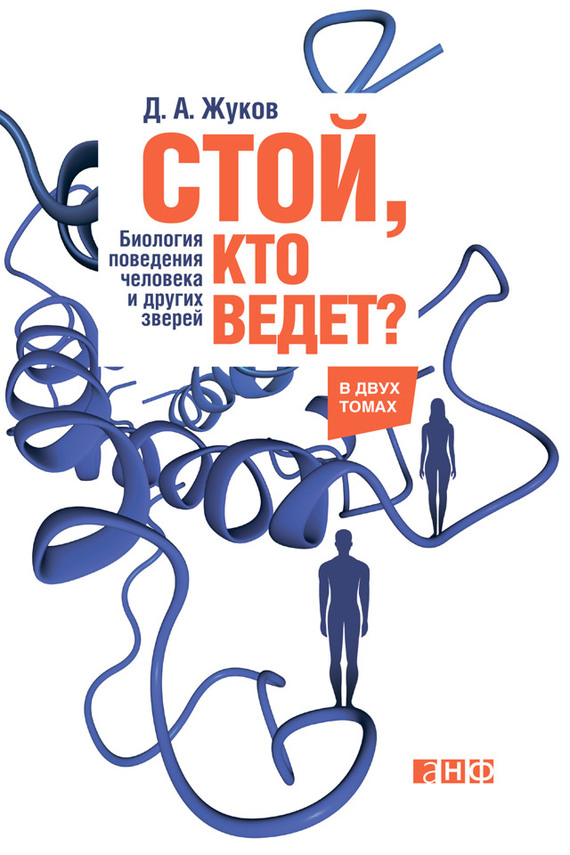Стыд Альвтеген Карин
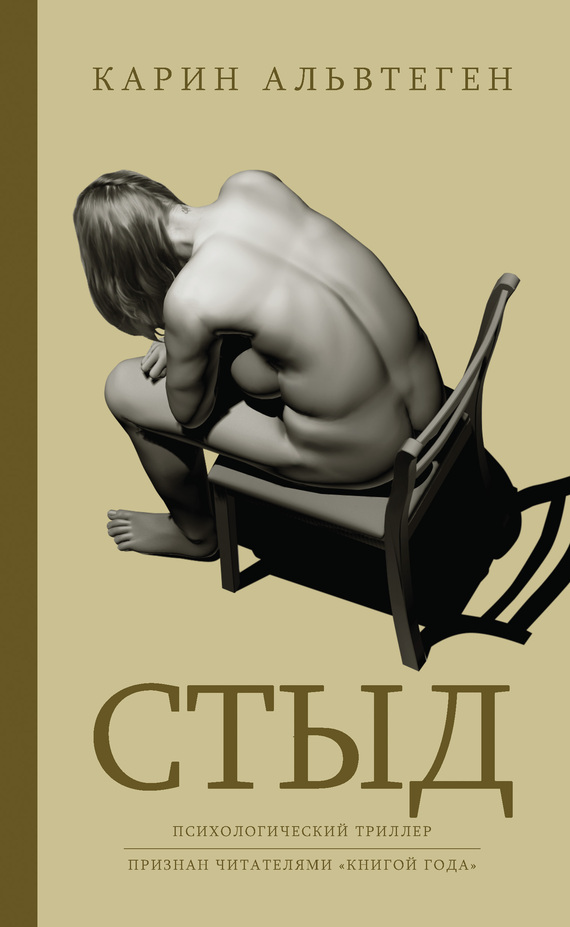
— В общем, если я когда-нибудь все-таки напишу книгу, там обязательно будут эти слова.
Май-Бритт улыбается. Ванья мечтает стать писательницей. Всей душой Май-Бритт желает подруге удачи. Ванья смотрит на часы.
— Эта мысль пришла мне в голову без четверти четыре утра пятнадцатого июня тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Я приняла решение — я переезжаю в Стокгольм. И мы можем уехать вместе. Пусть не в один город, но из этой дыры мы с вами обязательно сбежим.
Май-Бритт и Йоран смеются.
С рассветом к ней возвращается уверенность. Она сделала правильный выбор, они не смогут отнять это у нее. У нее есть замечательная подруга, Ванья. Она всегда рядом, когда Май-Бритт в ней нуждается. Что бы она без нее делала.
Ванья.
И Эллинор.
Май-Бритт прислушалась к тому, что происходило в ванной. Там было тихо. Боль в спине немного ослабла. Осталась лишь ноющая тяжесть, которую можно было терпеть. И ей по-прежнему нужно в туалет.
— Богом клянусь, незнакома я с этой Ваньей.
Май-Бритт фыркнула. Клянись-клянись. Мне все равно. И Ему тоже.
— Скоро меня начнут искать. Я уже полчаса как должна быть у следующего получателя услуг.
Бессмысленно. Она никогда не добьется от нее правды. Еще и описается при этом. Вздохнув, Май-Бритт развернулась и открыла дверь. Эллинор сидела на унитазе, опустив крышку.
— Выходи. Мне нужно в туалет.
Эллинор медленно покачала головой:
— Вы сошли с ума. Чего вы добиваетесь?
— Мне нужно в туалет. Уходи!
Но Эллинор не двинулась с места.
— Я не встану, пока вы не расскажете мне, почему вы решили, что я ее знаю.
Эллинор спокойно откинулась назад и скрестила руки на груди. Устроилась поудобнее и закинула ногу на ногу. Май-Бритт сжала зубы. Если бы самая мысль о том, чтобы прикоснуться к чужому телу, не внушала ей такое отвращение, она бы ее ударила. Дала бы пощечину.
— Тогда я сейчас сделаю это на пол. И ты знаешь, кому придется убирать.
— Пожалуйста.
Эллинор стряхнула что-то со своих брюк. Еще чуть-чуть, и Май-Бритт не выдержит, но она ни за что так не унизится, да еще перед этим мелким, заслуживающим презрения существом, которому, похоже, всегда удается взять верх. А еще она ни в коем случае не должна допустить, чтобы Эллинор обнаружила кровь в моче, потому что тогда эта мелкая предательница включит сирену. Ей оставалось только одно — как бы противно это ни было.
— Она написала кое-что в письме.
В письме? Ну и что она написала?
— Тебя это не касается. Ну что, теперь встанешь?
Эллинор сидела на месте. Май-Бритт начала впадать в отчаяние. Несколько капель мочи она не смогла удержать, и трусы уже намокли.
— Это, наверное, недоразумение, я прошу прощения за то, что заперла тебя. Хорошо? Ну что, теперь ты встанешь?
Со вздохом поднявшись, Эллинор взяла ведро и вышла наконец из ванной. Быстро закрыв дверь, Май-Бритт села на унитаз. И с облегчением почувствовала, как ослабло давление в мочевом пузыре.
Хлопнула входная дверь. Прощай, Эллинор. Мы больше не увидимся.
Неожиданно, без каких бы то ни было предвестий, в горле у нее образовался комок. Сколько она ни пыталась проглотить его, ей это не удавалось. Слезы, беспричинные слезы полились у нее из глаз, и она ничем не могла остановить их. Как будто внутри у нее что-то лопнуло. Она закрыла лицо руками.
Невыносимое горе.
И когда она осознала собственное поражение как неоспоримый факт, ее охватила эта дурацкая тоска. Как же ей хотелось, чтобы хоть один человек, пусть единственный, по собственной воле, а не за плату приходил к ней в дом, хоть ненадолго.
19
Она позвонила на работу и взяла оставшиеся пять дней отпуска. Счет неиспользованным дням она не вела, раньше ее это вообще не интересовало. Она ни разу не использовала до конца полагавшиеся ей пять недель отдыха, и дни накапливались годами. Причиной никто не поинтересовался, руководство ей доверяло. Ее считали ответственным руководителем, который не может отсутствовать на рабочем месте без уважительных оснований.
В следующие дни она навещала Перниллу каждый день после обеда. Известие о том, что из кризисной группы теперь будет приходить только она, Пернилла восприняла без возражений, но и без радости. Моника посчитала это добрым знаком. Ее не отвергали — пока этого достаточно.
Большую часть времени она проводила на улице, гуляя с Даниэллой. Площадка им вскоре надоела, и они начали совершать дальние прогулки. Пусть медленно, но ей все же удалось завоевать доверие Даниэллы, она знала, что это верный путь. К сердцу матери. От матери зависело все. Моника не забывала об этом ни на секунду. Испытывала постоянный страх оттого, что ее прогонят, что Пернилле покажется, что они смогут справиться и без нее.
Пугала сама мысль о том, что ей будут не рады, Моника была готова на все, лишь бы ее не выгнали. Ей так много нужно исправить.
Как-то к Пернилле зашла подруга, и Моника ощутила двойственное чувство, оставив их наедине. Конечно, она была рада за Перниллу, но, с другой стороны, Монике хотелось принимать участие во всем, что происходит в ее жизни, знать, о чем она разговаривала с подругой, делилась ли планами на будущее. Пока она гуляла с Даниэллой, Пернилла обычно отсыпалась. После прогулки Моника старалась задержаться в квартире, чтобы показать, как хорошо они ладят с девочкой. Пернилла чаще всего находилась в это время в спальне, они разговаривали мало, но Моника все равно наслаждалась каждой минутой, проведенной в этом доме. Только взгляд Маттиаса портил ей настроение. Маттиас смотрел на нее в упор, когда она, сидя на полу, играла с Даниэллой.
Впрочем, может, он уже понял, что она здесь с добрыми намерениями, что каждый день она приходит сюда по зову сердца.
Пернилла по большей части молчала, но Моника все равно чувствовала, что помогает — хотя бы тем, что присутствует в квартире, и ощущение покоя не покидало ее еще часа два после ухода. Ей казалось, что с первым этапом ее великой миссии она справилась. И заслужила небольшую награду — чувство облегчения и спокойствия. А еще она теперь четко осознавала бессмысленность всего остального. Как будто шелуха слетела, обнажив самую суть вещей. Но спустя несколько часов сердце ее снова начинало биться учащенно. Она все могла объяснить по науке и прекрасно представляла все физические реакции собственного тела. Ее организм мобилизовывался, увеличивая свои шансы на выживание. Страх гнал кровь к крупным мышцам, печень высвобождала запасы глюкозы, чтобы помочь им справиться с нагрузкой, шум в ушах означал, что сердце работает на повышение давления, а селезенка сокращается и выбрасывает больше кровяных телец, отчего растет содержание кислорода, и в крови начинает бурлить адреналин… но никакие «отлично» ей теперь не помогали. Ее забыли научить, как подчинить себе эти реакции. Тело помогало ей защититься, убежать — но что делать, если бежать некуда? Днем ей часто казалось, что вокруг нее стеклянный шар, и то, что происходит снаружи, ее больше не касается. По вечерам она ездила в спортзал и усиленно тренировалась, но, когда ложилась в кровать, заснуть все равно не удавалось. Едва она гасила лампу, ее охватывало отчаяние. И растерянность. Все мысли, которые она гнала прочь днем, в темноте ночи возвращались. Это было невыносимо. Что она делает? Лучше об этом не думать. Жизнью правит отнюдь не здравый смысл и отнюдь не справедливость — а раз так, то у нее есть право придумать собственную стратегию восстановления порядка. Потому что силы, которые управляют жизнью и смертью, лишены логики и не умеют делать выбор. Принять это нельзя. Надо найти способ с ними расквитаться.
Когда же она наконец засыпала, во сне ее ждали другие ловушки. Томас. Он появлялся ниоткуда и будил в ней тоску, из-за которой она начинала во всем сомневаться. Все то, что — как она думала — можно заставить себя забыть усилием воли, — все это осталось в ее теле, в ладонях. Она ошиблась.
Она выписала себе снотворное, ей хотелось защититься от него.
И он оставил ее в покое.
На третий день она набралась мужества и предложила остаться после прогулки, чтобы приготовить ужин. И разумеется, съездить в магазин и купить все необходимое. Добавила, что с удовольствием оплатит все сама. Пернилла мгновение поколебалась, но потом с благодарностью приняла предложение. С тех пор как она осталась одна, спина стала болеть сильнее. У мануального терапевта она не была уже три недели. Моника знала почему — у них нет денег, но Пернилла должна сказать об этом сама. Монике нужны были и другие подробности, и она надеялась, что за ужином она сможет обо всем разузнать.
Надевая в прихожей пальто, она решила, что приготовит запеченную телятину с картофелем, и задумалась, надо ли покупать вино, как тут появилась Пернилла.
— Кстати, я вегетарианка. Кажется, я не говорила об этом?
Моника улыбнулась:
— Как удачно, а то я как раз собиралась купить мясо. Вы давно едите вегетарианскую пищу?
— С восемнадцати лет.
Моника застегнула последнюю пуговицу.
— Какие-нибудь особые пожелания?
Пернилла вздохнула.
— Нет. Честно говоря, мне и есть-то не очень хочется.
— Есть в любом случае нужно, я найду что-нибудь подходящее. Вина хотите? Я могла бы купить?
Пернилла помедлила.
— Кто-то из кризисной группы сказал, что в первое время я должна с осторожностью употреблять алкоголь. Наверное, люди в моей ситуации часто начинают утешаться бокалом вина.
Моника не ответила, задумавшись, не раскусила ли ее Пернилла, но та продолжила:
— Но мне это не угрожает, потому что на алкоголь у меня все равно нет денег. Так что немного вина я бы, пожалуй, выпила.
Моника долго выбирала в овощном отделе. Сама она ничего вегетарианского не готовила и в конце концов обратилась за помощью к персоналу. Рецепты висели рядом с молочным отделом, и она выбрала тушеные лисички — праздничное блюдо и легко готовится. Направляясь с полными пакетами к машине, она уже предвкушала. Пернилла, похоже, ей доверяет, и угроза быть отвергнутой словно отодвинулась на задний план. Сегодня они вместе поужинают. У них будет возможность познакомиться поближе, и ей не хотелось, чтобы в ней разочаровались. Она поставила пакеты и вытащила ключи от машины — и в это мгновение увидела его. Он появился ниоткуда, просто возник внезапно на асфальте рядом с пакетами. Сизый голубь с отливающими фиолетовым крыльями. Моника уронила ключи. Он смотрел на нее черными немигающими глазами, и Моника вдруг испугалась, что он что-то замышляет. Не отрывая взгляда от голубя, она наклонилась, быстро нашла нужный ключ на связке и открыла машину. И только когда она подняла с асфальта пакеты, голубь испуганно взмыл и полетел, а она, быстро забросив покупки в салон, села в машину и, прежде чем тронуться с места, заперла все двери.
Припарковавшись у дома Перниллы, она еще какое-то время просидела в машине, приходя в себя. Снова заметила эту толстую собаку. Она сидела всего в нескольких метрах от своего балкона двери и справляла нужду, а закончив дела, поторопилась вернуться домой. Кто-то открыл ей дверь, было темно, и Моника не разглядела, мужчина это или женщина.
Пернилла смотрела телевизор, сидя на диване. На ней снова был свитер Маттиаса, Моника заметила, что она плакала. На столе лежала кипа конвертов с прозрачными окошками, в которых обычно приходят официальные письма. Моника поставила пакеты на пол. Она надеялась, что сейчас ей снова станет легче, и чувствовала, что готова к решительным действиям. Присела рядом с Перниллой. Пора было делать следующий шаг.
— Как вы?
Пернилла не ответила. Закрыла глаза и опустила лицо в ладони. Моника бросила взгляд на лежавшие на столе конверты. Почти на всех стояло имя Маттиаса, похоже, это были счета. Такой шанс она упустить не должна.
— Вам, наверное, трудно открывать письма на его имя.
Пернилла убрала руки и тихо всхлипнула. Обхватила руками колени.
— Какое-то время я вообще не могла прикасаться к почте, но теперь вот открыла, пока вы были в магазине.
Моника вышла на кухню и принесла бумажные салфетки. Высморкавшись, Пернилла сжала салфетку в руке.
— У нас нет денег на то, чтобы оставаться в этой квартире. Я знала, но у меня не было сил об этом думать.
Моника медлила с ответом. Именно эта информация была ей нужна.
— Простите, что я спрашиваю, но что у вас со страховкой? Я имею в виду от несчастного случая.
Пернилла вздохнула. И все рассказала. Рассказала то, о чем Моника уже слышала от Маттиаса и что осознала только теперь. На этот раз она слушала очень внимательно. Мобилизовала свою профессиональную память и не упускала ни малейшей детали, ни единой цифры, и, когда Пернилла закончила рассказ, Моника представляла себе проблему во всей ее полноте. Знала, что деньги на лечение Перниллы они взяли не как обычный кредит, а под тридцать два процента годовых. И поскольку средств на его своевременное погашение у них не было, сумма выросла, и теперь они должны семьсот восемнадцать тысяч. Единственным доходом Перниллы была ее пенсия, но даже при условии, что им дадут пособие на жилье, прожить на эти деньги все равно не удастся.
— Маттиас совсем недавно устроился на новую работу, мы так этому радовались. Несколько лет нам бы пришлось туго, но мы могли бы начать выплачивать этот проклятый долг.
Моника уже знала, что она скажет, когда подвернется случай. И вот такой момент настал.
— Послушайте, я тут подумала… Конечно, обещать я ничего не могу, но я знаю, что существует специальный фонд, куда можно обратиться в подобных ситуациях.
— Какой фонд?
— Точно не знаю, наша кризисная группа помогала как-то одной женщине, у которой тоже погиб муж, и ей удалось получить помощь из этого фонда. Обещаю вам, что выясню все завтра утром.
Пернилла переменила позу, повернувшись к Монике. На какое-то мгновение Монике удалось завладеть ее вниманием полностью.
— С вашей стороны это было бы очень любезно, если у вас, конечно, будет время и желание.
Как приятно, когда сердце бьется ровно.
— Конечно, я узнаю. Но мне понадобятся документы. Договор займа, страховые полисы, сведения о квартплате и тому подобное. А еще стоимость лечения, мануальной терапии, массажа. Вы смогли бы все это собрать?
Пернилла кивнула.
Потом Моника стояла у плиты и тушила грибы, приглядывая за игравшей у ее ног Даниэллой. В кухню то и дело заходила Пернилла, чтобы показать Монике очередную бумагу. И, отвечая ей, Моника впервые в жизни почувствовала, что в душе у нее воцарилось абсолютное спокойствие.
20
Три дня из социальной службы не приходили. Ни Эллинор, ни кто-либо другой. Еда не закончилась, в этом смысле пока все в порядке, но Май-Бритт задумалась. Может быть, Эллинор так разозлилась, что даже замену себе искать не захотела, предоставив Май-Бритт решать проблему самостоятельно. Вполне в ее духе.
Но еды хватало. Трое суток она прожила без пополнения запасов. И уже несколько недель не звонила в доставку пиццы. Что-то изменилось, она подозревала, что это связано с мучившей ее болью. И с кровью в моче. У нее теперь не получалось есть столько, сколько раньше, желание наполнить желудок исчезло, как и все остальные желания. Платье, которое еще недавно должно было вот-вот лопнуть по швам, теперь сидело вполне сносно, а иногда она ловила себя на том, что ей легче вставать из кресла. Но, несмотря на это, она была в отчаянии, и все на свете казалось ей бессмысленным.
Стоя у окна в гостиной, она наблюдала за тем, что происходит на улице. Эта незнакомая женщина снова гуляла с ребенком. С бесконечным упорством раскачивала качели, снова и снова, снова и снова. Май-Бритт посмотрела на ребенка, но долго задержать взгляд не смогла. Как давно это было. Она столько лет отгоняла от себя воспоминания, но четкость они, как выяснилось, не утратили. Она помнила все до мельчайших подробностей. Куда девать память о том, что вынести невозможно?
— Это правда?
Как же она могла сомневаться? Даже в самых страшных фантазиях нельзя было предположить, что он не обрадуется. Но она все равно волновалась — вдруг это нарушит его планы, вдруг он считает, что с этим можно повременить. Но он стоит перед ней и светится от счастья. Он станет отцом. Она уже была на четвертом месяце. Желающие могли легко вычислить, что все случилось еще до свадьбы, но это не важно. Она выбрала, на чьей она стороне, и не жалеет.
Все получилось так, как и предрекал отец. Родители даже на свадьбу не пришли, хотя венчание происходило в церкви рядом с их домом. Май-Бритт пыталась представить, что они чувствовали, когда слышали колокольный звон. Как все-таки странно, думала она. Их брак благословляет тот же Бог, который проклял их любовь, и происходит это в какой-нибудь сотне метров от родительского дома.
Со стороны жениха гостей было много, а со стороны невесты — только Ванья. Она сидела на первой скамье в центре.
Май-Бритт любит Йорана, а он любит ее. Она отказывается признавать, что это грех. Но иногда Май-Бритт вспоминает тех, кто остался в родном доме и для кого она больше не существует, — и ее охватывает сомнение. Ее новые убеждения не кажутся ей больше такими неоспоримыми, и она уже не уверена, что поступила правильно. У нее теперь никого нет. Ее выпололи как сорняк, она больше не часть их жизни, не одна из них. С рождения она была членом Общины, но теперь все они исчезли, а вместе с ними и большая часть ее детства. Рядом нет ни единого человека с такими же воспоминаниями. Ей не хватает чувства общности, поддержки, понимания того, что она такая же, как те, кто рядом. Исчезло все, к чему она привыкла, что она хорошо знает, где ей спокойно, — исчезло безвозвратно. Если ей понадобится помощь, ее не у кого искать. И некуда идти, если ее охватит внезапная тоска по родному дому.
Несмотря на то, что гнев не до конца утих, при мысли о родителях она всегда чувствует комок в горле. Но ее спасают слова, которые произнесла тогда Ванья.
«Не позволяй лишить себя всего. Лучше докажи им!
Иногда она просыпается среди ночи, потому что ей снится один и тот же сон. Она одна стоит на вершине скалы в бушующем море, остальные уже на борту корабля. Они на палубе, она кричит изо всех сил, размахивает руками, но они притворяются, будто не видят ее. Корабль исчезает, и она понимает, ее бросили на произвол судьбы, она просыпается — и страх сжимает ей горло, как веревка. Она пытается объяснить Йорану все, что чувствует, но он отказывается ее понимать. Называет их «чокнутыми», но сам становится таким же, как они, — осуждает ее родителей так же, как отец осуждал их любовь. Как будто от этого легче.
У нее есть Ванья, но теперь они далеко друг от друга. И порой им уже трудно найти повод для звонка или письма — их жизни стали слишко разными. Существование Ваньи в Стокгольме кажется таким увлекательным, полным событий, в то время как у Май-Бритт почти ничего не происходит. Она проводит все дни в маленьком доме, который они сняли на окраине города, старается чем-то занять себя до возвращения Йорана из школы. У них временное жилье. Без ванной и туалета, а с приходом холодов выясняется, что почти без отопления. Пока их двое, они обходятся деревянным туалетом на улице. Но с рождением ребенка придется тяжело.
Есть еще кое-что. То, чего ей хочется, но она не может в этом признаться. Она надеялась, что после свадьбы станет проще, но нет, все осталось по-прежнему. Ей так и не удается избавиться от ощущения, что у них нет на это права. Нельзя просто получать удовольствие. Без цели.
Она всегда гасит свет. Сердится, если Йоран случайно видит ее голой. Поначалу он смеется, без зла, с любовью, но в последнее время ей кажется, что в его голосе слышны нотки раздражения. Он говорит, что она красивая, что ему нравится смотреть на ее обнаженное тело, что его это возбуждает. Май-Бритт даже слышать ничего не хочет — этим нужно заниматься в темноте и ничего не обсуждать. Ее смущает его дурная привычка описывать все словами, и она всегда просит его замолчать. Ей кажется, что слова превращают их близость во что-то неприличное. Неприлично заниматься любовью при свете. Нет, она стремится к близости — ей нравятся его прикосновения. Ей кажется, что, когда они так близки, они превращаются в единое целое, и это ощущение растет и становится сильнее — их словно объединяет общая тайна. Но после того как все заканчивается, ей всегда стыдно. В последнее время это случается все чаще, и Май-Бритт все больше сомневается, что они поступают правильно. Сомневается в том, что удовольствие, которое они доставляют друг другу, имеет оправдание. А иногда ей кажется, что за ней подглядывают, что кто-то ведет тщательный учет всем ее действиям, ее ужасающей распущенности.
Они решили, что Йоран должен доучиться год в народном училище. Квартплата маленькая, они вполне смогут существовать на его стипендию. Но когда родится ребенок, Йоран устроится на работу — на любую, как он сказал, лишь бы им хватало. Май-Бритт догадывается, что он при этом чувствует, и понимает, что осуществить мечту о музыкальном институте теперь будет не так легко, как казалось. Время от времени звонит его мама. Май-Бритт очень хочет спросить, не видела ли она ее родителей, но не решается. Никто больше не упоминает их имен, их как будто вычеркнули, как будто их никогда не было. С ними поступили так же, как Община поступила с ней.
Дни шли за днями, ей все труднее становилось найти себе занятие. В этом районе она знала только Йорана и его одноклассников, но каждый раз при встрече с ними чувствовала себя еще более одинокой. Они вместе учатся, у них собственный жаргон, который она часто не понимает. Йоран старше всех в школе, и ей кажется, что когда он общается с одноклассниками, то ведет себя слишком по-детски. Они пьют грог, слушают музыку, и все это бесконечно далеко от нее и от той жизни, которой она жила до переезда к Йорану. Тогда их с Йораном объединял хор, а вечера они чаще всего проводили вдвоем. Читали книги, разговаривали, занимались любовью. А теперь в компании ей все время кажется, что другие интереснее ее, особенно девушки. И она сидит в стороне со своим растущим животом и молчит, потому что ей нечего сказать, а Йоран как будто не понимает, почему она так быстро устает и все время хочет домой. Ей не хватает Ваньи. Она бы поняла, что чувствует Май-Бритт, и встала бы на ее сторону. Произнесла бы вслух все то, что сама Май-Бритт произносить не решается. Особенно Май-Бритт недолюбливает Харриэт за ее вызывающую манеру смотреть на Йорана. Май-Бритт про себя представляет, что сказала бы Ванья, увидев все это, — и от одного этого ей становится легче.
Однажды в пятницу вечером Йоран вернулся домой и вел себя как обычно. Но когда Май-Бритт мыла посуду, он подошел к ней сзади и положил руки ей на плечи — и она по его дыханию поняла, что он выпил. Она продолжала мыть тарелки. А его руки опускались все ниже, на талию, вот они забираются под свитер, он прижимает ее к себе, и она чувствует его возбуждение. Закрыв глаза, она пытается задержать дыхание. Она не должна поддаваться, не сейчас. Она должна показать, что может контролировать себя, она не рабыня похоти.
— Прекрати!
Йоран продолжает гладить ее.
— Йоран, пожалуйста, прекрати.
Он убирает руки. А потом она слышит, как хлопнула входная дверь.
Проходит почти час, прежде чем ей удается избавиться от желания, которое он пробудил.
Живот продолжает расти. Вести от Ваньи приходят все реже и реже, а Йоран целыми днями пропадает в школе. Иногда он возвращается домой в восемь вечера. Ходит на какие-то дополнительные занятия, репетиции и что-то еще, обязательное для всех учащихся. Живот уже большой и тяжелый, и она убеждает себя, что именно поэтому они больше не прикасаются друг к другу.
Поэтому она ему отказывает.
Со временем он прекращает попытки.
Времени на обдумывание своих проблем у нее предостаточно, поскольку она всегда одна, мысли несутся по замкнутому кругу, не встречая возражений, поскольку возражать некому. Кажется, все сделалось бы намного проще, если бы удалось избавиться от бдительного ока Того, Кто постоянно за ней наблюдает. Ей хочется ощущать себя совершенной, свободной от всякого принуждения, войти в тот яркий мир, завесу которого иногда приоткрывала для нее Ванья, но еще чаще — Йоран. Ей кажется, что было бы намного лучше, если бы она сама взяла на себя ответственность за свою жизнь и свои поступки, а не полагалась во всем на Него — ведь Он все равно ни разу ей не ответил, ни разу не дал понять, что Он на самом деле думает. Но — увы. А еще она понимает, какой простой была ее жизнь раньше, всего и надо было, что разделять общую точку зрения членов Общины и следовать за всеми в указанном направлении. Как просто жить, если тебе не нужно думать самостоятельно.
А теперь она совершенно одна.
Дурная трава, которую выпололи, чтобы она не распространяла заразу.
Она сама сделала выбор.
Она была так уверена, что их любовь с Йораном естественна и исполнена смысла. А родители и Община ошибаются. Но теперь она понимает, какой была эгоисткой. Она думала только о себе и собственном удовлетворении. Теперь гнев сменился горечью, и она ясно видит отчаяние, в которое она повергла родителей, и стыд, который они должны из-за нее испытать. Она совершила этот поступок не из добрых побуждений, а из огромного, заслуг живающего презрения эгоизма. Она думала, что любовь к Йорану возместит страх перед Богом, что это будет искуплением, и она винила родителей в том, что они поставили ее перед этим выбором. Но теперь ей кажется, что просто сдалась, что выбор определила ее неспособность обуздать собственные инстинкты. В ушах постоянно звучат слова пастора.
Смысл сексуальности — рождение детей, так же как биологический смысл еды — питание организма. Если мы будем есть, когда хотим и сколько хотим, мы неизбежно будем употреблять слишком много пищи. Добродетель, несущая свет в нашу жизнь, требует контроля над те-лом. Между Природой и Богам нет противоречий, но если, говоря о природе, мы подразумеваем наши естественные инстинкты, то мы должны помнить о необходимости обуздывать их, дабы не подвергать нашу жизнь разрушению.
И вот он цитирует Послание апостола Павла к римлянам: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе».
Май-Бритт живет в замкнутом круге сменяющих друг друга дней, ощущая, как растет уверенность в правоте этих слов. Так больше нельзя. Ребенка они зачали почти что в браке, так и должно быть, но теперь им не следует больше заниматься любовью. Она изменила свое мнение на этот счет не под влиянием слов родителей — нет, просто к ней пришло озарение. Она чувствует себя грязной. Она становится такой, когда они занимаются любовью, значит, заниматься этим грешно. Раз это так ее мучит.
Нечистота.
Плотское чувство — это вызов Богу.
Вымыться в раковине на кухне трудно, но дважды в день мимо их дома проходит автобус, который идет в город и останавливается всего в сотне метров от бассейна. Она начала ездить туда каждый день, ничего не рассказывая Йорану. И всегда возвращалась домой раньше его. Они ужинали, обмениваясь редкими фразами, разговоры становились все короче, а мысли пугали ее все больше. Она надеялась, что все наладится после того, как родится ребенок, а Йоран закончит учебу, и между ними снова никого не будет. Может быть, они даже смогут подумать о втором ребенке. И снова будут близки, по праву.
Он оставил ей телефон школы, и она выучила его наизусть. Срок родов приближался, она позвонит, если схватки начнутся, когда Йоран будет в школе. Насчет машины он уже договорился, ей не о чем беспокоиться. Он сам сказал.
Воды отошли, когда она принимала душ в бассейне. Она почувствовала, что что-то не так. Кран закрыт, но вода продолжает течь по ногам. В кабинке напротив нее моется пожилая женщина, Май-Бритт поворачивается к ней спиной, не хочется стоять голой перед чужими. Схватив полотенце, она выходит и присаживается на скамью в раздевалке. Первые схватки приходят, едва она надела белье. Ей удается одеться, и она просит женщину узнать, где находится ближайший телефон.
Во время родов они снова чувствуют себя единым целым. Он держит ее за руку, гладит лоб, он готов на все, что угодно, лишь бы помочь ей пережить схватки. У них обязательно все будет хорошо, теперь она в этом уверена. Она расскажет ему о своих мыслях, о том, что медленно, но верно разрывает ее изнутри, она сделает так, чтобы он ее понял. Изо всех сил она старается справиться с болью, которая рвет ее тело, и думает — почему Бог так жестоко наказал женщин за грех, совершенный Евой. Слова Священного Писания отдаются в голове. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Время идет. Схватки длятся уже много часов, но ее тело отказывается выпускать на свободу свое создание. Держит жадной хваткой ребенка, который там, внутри, отчаянно борется за жизнь — и акушерка выглядит все более озабоченной. Проходит двадцать часов, и они сдаются. Решение принято, и Май-Бритт отвозят в операционную, чтобы сделать кесарево сечение.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
— Майсан.
Она слышит голос, но он доносится издалека. Она в другом мире — не там, где звучит этот голос. Через равные промежутки времени она замечает слабое мерцание света, а голос, отраженный сильным эхом, звучит как будто из тоннеля.
— Майсан, ты меня слышишь?
Ей удается открыть глаза. Окружающие люди и предметы на миг обретают размытые очертания, чтобы исчезнуть снова.
— У нас девочка.
И тут к ней возвращается зрение. Действие наркоза слабеет, и она видит Йорана с ребенком на руках. Йоран все время был рядом с ней, он ее не оставил. Он держит их ребёнка, того, которого она не смогла родить сама. Ребенок в белом, она это тоже видит. Все уже закончилось, его уже вымыли, он чист и одет в белое.
— Любимая, у нас с тобой девочка.
Он кладет ей на руку крошечное существо, пытающееся сфокусировать взгляд, еще не привычный к новым расстояниям. Девочка.
Открывается дверь, медсестра вкатывает в помещение столик на колесах, на котором стоит телефон.
— Вам пора сообщить радостную новость друзьям и близким.
Йоран звонит своим родителям. Потом Ванье. Май-Бритт удается произнести лишь несколько слов, Ванья на другом конце кричит от радости.
Больше они никому не звонят.
Все складывается не совсем так, как говорил Йоран. Вместо того чтобы устроиться на работу, он просит помощи у родителей и решает проучиться еще год, чтобы закончить училище. С переездом на новую квартиру им тоже приходится ждать. Он обращается в муниципалитет, и ему обещают, что скоро все устроится. Так он говорит.
Май-Бритт так и не рассказала ему о своих мыслях. Но теперь у нее, по крайней мере, есть то, что ее отвлекает. Они решают назвать девочку Сусанной и окрестить ее у того же священника и в той же церкви, где получил благословение их брак. Она пишет родителям, сообщая, что у них родилась внучка и указывая время и место предстоящих крестин, но родители не отвечают.
С девочкой что-то не так, Май-Бритт это чувствует. Нет, не то чтобы она ее не любила, но ей кажется, что ребенка нужно держать в каком-то смысле на расстоянии. Ребенок требует к себе столько внимания, но он должен с самого начала научиться управлять собственными инстинктами. Воспитывать — значит определять границы дозволенного, и ответственные родители не должны допускать, чтобы воля ребенка нарушала авторитет взрослого. Это делается ради самого ребенка. Она кормит через каждые четыре часа, как велено, а если девочка начинает кричать, проголодавшись раньше времени, Май-Бритт не обращает на это внимания. Она укладывает ее спать ровно в семь, детский врач сказал, что это правильный режим. Но девочка часто засыпает только через несколько часов и все это время безостановочно кричит — и в конце концов Май-Бритт привыкает вообще не замечать детский крик. Но Йоран отказывается признавать такое воспитание. Если он возвращается домой до того, как ребенок заснул, он мечется по дому, жестко протестуя против всех действий Май-Бритт, и не позволяет дочери часами кричать в кровати и в конце концов засыпать от полного изнеможения.
В четыре месяца врачи это констатируют. Май-Бритт с самого начала казалось, что с девочкой что-то не так, но она гасила в себе эти подозрения. В последнее время она придумывала всевозможные причины, чтобы не ходить в детскую поликлинику, но ей звонят и сообщают, что, если она не привезет ребенка на плановый осмотр, врач приедет к ним домой. Она скрывает свои опасения от Йорана, несет этот груз сама, он даже не знал, что они пропускают визиты к педиатру. Она не хочет идти туда, слышать о результатах и притворяться, что ни о чем не догадывалась. Она не хочет делать вид, что ничего не знает об истинных причинах.
Это называется грех самоосквернения.
Подозрения оправдываются. Она слушает врачей, как человек, которому рассказывают, как кратчайшим путем дойти до уже известного места. Задает несколько вопросов, чтобы не оставить ничего неясного. И вечером рассказывает обо всем Йорану.
— Она слепая. Они выяснили это сегодня на осмотре. Сказали, что через две недели мы должны снова ее показать.
С этого дня все начинает разрушаться. Последняя судорожная попытка освободиться оказывается безуспешной, ей не остается ничего, кроме стыда, угрызений совести и страха. Раскаяние и горечь от неисполненного долга, как кислород, наполняют ее тело — тело, которое она ненавидит больше всего на свете, тело, которое причиняет ей только зло. Ее грех доказан. Она кормит его молоком из собственного тела через каждые четыре часа.
Худое дерево приносит худые плоды. Грешен человек перед Господом, и грозит ему гнев Господний и возмездие. Необоримая темная потребность во зле взращивается и передается по наследству от поколения к поколению, и этот наследный грех и есть причина всех прочих грехов в мыслях, словах и поступках.
Она в своем тщеславии поставила себя выше Бога и получила невообразимо страшное наказание. Ее Он не тронул, Он настиг ее потомство. Возложил на следующее поколение кару, которая должна была постичь ее.
Она получает письмо от родителей. До них дошли слухи. Прощения она не получит, но вся Община будет молиться за дитя, которое справедливо покарал Бог.
Проходит еще два месяца. Йоран теперь почти не разговаривает с ней. И ничего не упоминает о квартире, куда они должны переехать в начале лета. Две комнаты и кухня, первый этаж, с балконом, шестьдесят восемь квадратных метров. И ванная. У них наконец будет ванна, в которой она сможет как следует вымыться.
Она начинает паковать вещи, ей надо чем-то себя занять, сидеть без дела становилось все труднее. Открывает бельевой шкаф наверху у лестницы и вынимает стопку простыней. Это подарок родителей Йорана, на всех простынях голубыми нитками вышиты его инициалы. Она видит, как девочка выползает из спальни и перебирается через порог, тычется головой в дверной косяк и садится. У лестницы нет перил. Май-Бритт идет мимо дочери к картонной коробке рядом с кроватью и укладывает простыни. Поворачиваясь, она ударяется щиколоткой о ножку кровати. Ее пронзает резкая боль, и, едва почувствовав ее, Май-Бритт понимает, что в душе у нее рвутся какие-то путы. Перед глазами все белеет. Она кричит, крик разрывает ей горло, но облегчения не приносит. Дочь пугается, и Май-Бритт замечает, что она пятится к холлу. Ближе к лестнице. Но ярость, охватившая ее, не утихает, а, наоборот, растет — и Май-Бритт, схватив обеими руками коробку, с силой швыряет ее о стену.
— Я ненавижу Тебя! Ненавижу, слышишь? Ты же знаешь, что я была готова пожертвовать всем, и все равно Тебе было этого мало! — Сжав кулаки, она поднимает руки к потолку. — Ты слышишь? Слышишь? Ты можешь хоть один раз ответить, когда с Тобой разговаривают?
Ярость, которую она так долго сдерживала, вырывается наружу сокрушительной волной. В висках стучит, она срывает с кровати простыню и начинает размахивать ею в воздухе. Со стены падает картина, у лестницы нет перил, ее незрячая дочь исчезает из поля зрения, скрывается за дверью. Но Май-Бритт не властна над тем, что происходит. Внутри у нее что-то сломалось и должно выйти наружу, иначе оно разорвет ее на части.
— Думаешь, Ты победил, да? Думаешь, я буду молить о Твоем прощении, теперь, когда все равно уже поздно, теперь, когда Ты наказал ее из-за меня! Думаешь, да?
Никаких других предметов поблизости нет, и она швыряет коробку о стену еще раз. Она стоит в спальне и бьет коробкой о стену, а в холле у лестницы нет перил.
— Я проживу без Тебя, слышишь?
И тут она думает, что нужно выйти в холл, потому что у лестницы нет перил, а ее незрячая дочь ползает там на полу, — но она не успевает.
Она не кричала, когда падала.
Удар и все стихло.
21
Ночью всегда чувствуешь себя особенно. Ты бодрствуешь, а другие спят. Ночью царит покой, потому что все людские мысли рассредоточились во снах, освободив пространство. Ночью легче и быстрее думается, и твоим собственным мыслям не нужно маневрировать в сложном и запутанном транспортном потоке. В студенческие годы она часто меняла день с ночью, предпочитая готовиться к экзаменам в ночные часы. В свободном пространстве.
Теперь же именно по этой причине ночи таили в себе опасность. Чем меньше помех и столкновений, тем более открытым становилось поле. Некто в глубине ее души все время ей возражал, пытался вступить с ней в контакт. И чем тише было вокруг нее, тем труднее было заставить себя не слышать его голос. Этот некто ее осуждал, несмотря на все ее отчаянные попытки восстановить порядок и справедливость. Приходилось постоянно быть начеку, чтобы не позволить ему увлечь себя туда, в глубину. Она знала, каково там, и ей было безумно страшно. Двадцать три года она держалась вдали от этой пропасти, но теперь она близко, на расстоянии протянутой руки. Движение — только оно еще помогало держать дистанцию. Ей нельзя останавливаться. У нее мало времени, очень мало. Она ощущала это всем своим телом. Если она приложит достаточно усилий, она сможет все исправить.
Чтобы заглушить тишину, она включила ночное радио. Бумаги Перниллы лежали на дубовом обеденном столе, сделанном по специальному заказу, чтобы идеально вписаться в пространство. На десять мест.
Физическая усталость не ощущалась, часы показывали половину четвертого, она пила третий бокал «Глен Мор» урожая 1979 года. Этот виски она купила во время какой-то заграничной поездки для пополнения эксклюзивного бара, содержимое которого всегда производило сильное впечатление на избранных гостей. И было хорошим успокоительным.
Она нажимала кнопки калькулятора, еще раз пересчитав доходы Перниллы, но итог не изменился. Положение действительно было безнадежным, Пернилла ничуть не преувеличила. Даниэлле полагалась пенсия, размер которой определялся в соответствии со средней зарплатой Маттиаса за прошлые годы, сумма получалась небольшой. Она нашла в Интернете схему, по которой такие пенсии рассчитывались. До того как с Перниллой случилось несчастье, они жили довольно бедно, подрабатывали то здесь, то там, а скопив достаточную сумму, тут же отправлялись в очередное путешествие. Но у Маттиаса была работа, пусть и не высокооплачиваемая. Пернилла права, с квартиры им придется съезжать. Если им не помогут.
Только услышав звук падающей на пол утренней газеты, она отправилась наконец в спальню. Снотворное лежало на столике у кровати. Надорвав фольгу на упаковке, она извлекла таблетку и проглотила ее, запив водой из стоявшего здесь со вчерашнего дня стакана. Она не устала, но ей придется работать, поэтому она должна поспать хотя бы часа два. После приема снотворного нужно продержаться на ногах еще минут тридцать — потом она засыпала, едва коснувшись головой подушки. И ни одна мысль не успевала настигнуть.
Ужин.
Она тщательно следовала рецепту, и блюдо действительно получилось вкусным, хотя сама она с большим удовольствием съела бы кусок мяса. Пернилла молчала. Моника наполняла ее бокал по мере необходимости, но сама не пила. Ей нельзя расслабляться, к тому же она собиралась сесть за руль. Она испытывала удовольствие при мысли, что снова возьмет домой бумаги Перниллы. Ей хотелось как можно скорее приступить к решению проблем. Документы — это не просто источник информации, это гарантия, отсрочка на какое-то время от беспокойства. Пока бумаги у нее, есть повод вернуться. По крайней мере, хотя бы раз. Бросив взгляд на стопку листков на столе, она почувствовала, как стихает боль.
Она подобрала соус хлебной корочкой и приготовилась сказать то, что собиралась. О том, что «их» ждут небольшие перемены. В этой фразе ей нравилось слово «их». Итак, небольшие перемены. Она не должна терять работу. От этого будет хуже обеим. Поэтому она приготовилась произнести то, что должна была.
— Завтра мой отпуск заканчивается, и мне снова придется выйти на работу.
Реакции не последовало.
— Но я с удовольствием буду заглядывать к вам по вечерам, чтобы чем-нибудь помочь.
Пернилла ничего не сказала, просто кивнула. Казалось, она вообще не слушает. Ей было явно неинтересно, у Моники опустились руки. Она не успела стать для них нужной. Осознание собственной ущербности снова приблизило ее к пропасти.
— Я могу заехать завтра вечером, расскажу о фонде и о результатах разговора. Я позвоню им завтра утром.
Пернилла зацепила вилкой оставшуюся на тарелке лисичку. Она съела совсем немного, но сказала, что очень вкусно.
— Конечно, если у вас получится. Если нет, то мы можем поговорить об этом по телефону.
Она не сводила глаз с наколотой на вилку лисички, рисовала ею дорожки, обводя лист салата и несъеденную картофелину.
— Лучше я заеду, мне не трудно, к тому же мне нужно вернуть вам все бумаги.
Пернилла кивнула, отложила вилку в сторону и сделала глоток вина. Поглядывая на портрет Софии-Магдалены, Моника думала, как бы ей вывести разговор на какую-нибудь историческую тему, чтобы хоть немного разрядить атмосферу и чтобы Пернилла поняла, как много у них общего. Но Пернилла ее опередила. Только говорить она хотела об историческом эпизоде, о котором Моника даже думать боялась. Прозвучавшие слова ударили Монику под дых.
— У него завтра день рождения.
Моника сглотнула. Посмотрела на Перниллу и поняла свою ошибку. До этого его имя почти никогда не упоминалось, и Моника отчасти потеряла бдительность, начала думать, что впредь все так и будет, просто избегала смотреть на портрет, когда проходила мимо. На Перниллу подействовало вино. Вино, которое Моника купила сама и сама налила ей в бокал. Движения Перниллы стали другими, а когда она моргала, ее веки закрывались и открывались медленнее. Моника заметила, что по щекам Перниллы текут слезы. Сейчас она плакала по-другому. Обычно она замыкалась в себе, прятала горе от чужих глаз. Теперь же она не предпринимала ни малейшей попытки скрыть отчаяние. Алкоголь разорвал путы, которые сковывали ее раньше, Моника проклинала свою глупость. Надо было заранее сообразить. И теперь она расплачивается за свою ошибку. Теперь ей предстоит выслушать все, что будет сказано.
— Ему бы исполнилось тридцать. Мы должны были пойти в ресторан, я заказала няню еще за несколько месяцев, хотела устроить ему сюрприз.
Моника впилась ногтями в ладони. От физической боли ей всегда становилось немного легче.
Пернилла снова взяла в руки вилку и вернулась к лисичке.
— Звонили из похоронного бюро, вчера его кремировали. Кремировали то, что от него осталось. Этого они не говорили. Так что теперь он не просто мертв, он полностью уничтожен, осталось только немного пепла в урне, которую надо забрать из похоронного бюро.
Моника думала, какой должна быть температура в духовке, чтобы довести до кондиции черничный пирог, купленный на десерт. Она забыла посмотреть, а упаковку уже выбросила. Двести градусов, наверное, нормально. Сверху можно прикрыть фольгой, чтобы не подгорело.
— Я выбрала белую. У них там целый каталог гробов и урн, разного цвета, формы и цены, я взяла самую дешевую, потому что знаю, что ему бы показалось безумием выбрасывать кучу денег на дорогую урну.
И нужно взбить сливки для ванильного соуса, она о них забыла. Интересно, есть ли в доме электрический миксер. Она не видела его, пока готовила. Но может, он лежит в каком-нибудь ящике, не на виду.
— Я не буду закапывать его прах в землю. Я знаю, он не хотел, чтобы его вообще хоронили где бы то ни было, — хотел, чтобы его пепел развеяли над морем, он любил море. Я знаю, как он скучал по дайвингу, в глубине души ему очень хотелось начать все сначала, но он не делал этого из-за меня.
Подумать только, София-Магдалена была помолвлена с Густавом III уже в пятилетием возрасте. В книгах написано, что у нее была трагическая судьба, она была стеснительной, замкнутой, ее сурово воспитывали. Когда ей исполнилось девятнадцать, она прибыла в Швецию, и ей было очень трудно привыкнуть к здешней придворной жизни.
— Почему он не совершил хотя бы одного погружения? Хотя бы одного!
Как громко она говорит, Даниэлла может проснуться.
— Почему он не сделал этого? Хотя бы раз!
Моника даже вздрогнула, когда Пернилла внезапно встала и скрылась в спальне. Вино подействовало и на походку. Моника искала миксер, но ничего не находила. Потом вернулась Пернилла, в руках у нее был свитер Маттиаса, она прижимала его к себе, словно в объятии. Она опустилась на стул, и ее лицо было искажено болью, теперь она не говорила, а кричала:
— Я хочу, чтобы он был рядом! Со мной! Почему он не может быть со мной?!
Движение. Только оно может спасти. Когда ты останавливаешься, тебе сразу больно.
Главный врач Лундваль встала. Вдова Маттиаса Андерсона сидела с другого конца стола, ее сотрясали рыдания. Обхватив себя руками, несчастная женщина раскачивалась из стороны в сторону. Главный врач Лундваль видела подобное множество раз. Смерть дорогого человека, оставшиеся в живых родственники охвачены безграничным горем. Безутешным. Человек в горе — это вещь в себе. Сколько ни учись, но, оказываясь рядом, ты все равно понимаешь, что находишься в другом мире. Невозможно найти слова, которые смогли бы хоть немного приободрить. Невозможно совершить поступок, от которого станет легче. Единственное, что ты можешь сделать, — просто находиться рядом и слушать слова, исполненные невыносимого отчаяния. Держать себя в руках, когда хочется кричать от безысходности, от бессмысленности, оттого, что жизнь так беспощадна, что не стоит даже пытаться бороться. Лучше сразу сдаться. Какой смысл, если конец может наступить уже через час. Зачем все эти усилия, если конец так или иначе приближается? И скрыться от него невозможно. Человек, охваченный горем, — это напоминание. Зачем? Зачем все это нужно?
— Пернилла, пойдемте, вам нужно прилечь. Пойдемте.
Главный врач Лундваль обошла стол и положила руку ей на плечо.
Женщина продолжала раскачиваться из стороны в сторону.
— Пойдемте со мной.
Главный врач Лундваль взяла ее за плечи и помогла встать. Не убирая руку с плеча, довела ее до спальни. И Пернилла позволила себя увести, как будто она ребенок, который делает все, что ей говорят. Легла в постель. Главный врач Лундваль сняла одеяло с пустой половины двуспальной кровати и укрыла ее. Потом села на край кровати и начала гладить ее лоб. Мягкими, успокаивающими движениями, от которых ее дыхание стало более равномерным.