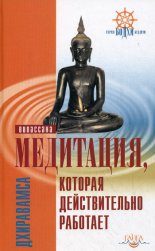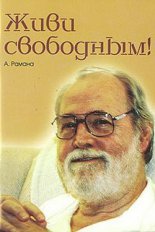Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы Симонов Константин
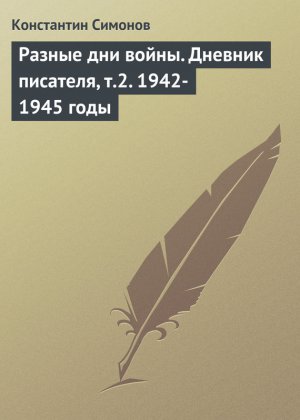
Что остается добавить к этому теперь? Прилетев на Южный Фронт и застав там затишье, я сначала хотел поехать к танкистам, в бригаду майора Овчарова, в которой уже был раньше, во время боев между Ростовом и Таганрогом, и писал о ее действиях.
Командир бригады до войны был филологом. Меня заинтересовала эта судьба: из филологов – в командиры танковой бригады. Тогда, в первый раз, поговорить с Овчаровым о нем самом мне не удалось, не позволила обстановка, и я хотел сделать это теперь. Однако, как выяснилось, бригаду за это время передислоцировали, и я поехал не к танкистам, а еще раз к Утвенко, который после Сталинграда успел стать из полковника генералом.
На его участке в районе Матвеева кургана сколько-нибудь существенных событий пока что не происходило.
Перелистывая сводки Информбюро, я нашел в них несколько упоминаний о тех днях и тех местах:
«Западнее Ростова-на-Дону отряд пехоты противника пытался боем разведать наши позиции», «Западнее Ростова-на-Дону советские артиллеристы и минометчики разрушили 8 вражеских дзотов», «Западнее Ростова-на-Дону противник пытался навести мост и переправиться через водный рубеж», «Западнее Ростова-на-Дону немцы пытаются бомбить наши коммуникации». Вот и все, что можно прочесть в сводках об этих днях затишья.
Для очистки нашей корреспондентской совести мы с Халипом побывали на передовой и походили там по окопам переднего края. Оказавшаяся после этого в блокноте подробная запись разговора с одним старым солдатом очень пригодилась мне впоследствии.
Вспоминаю тот, порою преувеличенный интерес, который был тогда у нас, военных корреспондентов, к отличившимся в боях старым солдатам, особенно к тем из них, кто воевал с немцами уже вторую войну. За этим интересом стояли довольно сложные чувства. Хотя к тому времени немецкая военная машина дала уже две страшные для нее трещины – под Москвой и под Сталинградом – и ход войны решительно изменился в нашу пользу, все равно это не могло выбить из нашей памяти и поражений сорок первого года, и поражений лета сорок второго года. Сохранялось и сознание огромности территории, все еще остававшейся под пятой у немцев.
Сейчас в сочинениях о войне уже давно не употребляются некоторые из ненаучных житейских терминов, бывших у нас на фронте в широком обиходе и в сорок третьем, и в сорок четвертом, и в сорок пятом годах. Но, думаю, никто из бывших тогда на фронте не станет спорить со мной, что наряду со словами «стоять насмерть» в нашем лексиконе того времени во фронтовой среде иногда упоминалось в прошедшем времени и такое самокритическое слово, как «драп». Употреблялось и слово «трагедия». И не только в разговорах, а и в печати. Так и писали в газете: «Киевская трагедия». И за этими словами стояла не только горечь воспоминаний, но и вера в свои силы, то духовное здоровье, которое позволяет людям называть своими именами даже самое тяжелое из всего случившегося в их жизни.
Говоря об этом, я говорю не просто о собственных чувствах, а о куда более важной вещи: о свойственной людям нашей армии здоровой самокритической оценке очень многого из случившегося с нами в сорок первом – сорок втором годах, того, что в мае сорок пятого, после победы, сам Сталин назвал «моментами отчаянного положения».
Людям, все дальше и дальше гнавшим обратно на запад немцев, было свойственно задавать себе самим трезвые вопросы: к же все-таки это вышло, что мы сначала отступали до Москвы, а потом до Сталинграда?
Так же, как и многие люди войны, задавал себе эти вопросы и я корреспондент. И думаю, что далеко не всегда находил на них верные ответы. Напрашивались сравнения между первой и второй мировыми войнами. Как же так, почему тогда, в первую мировую, на второй год боев, к концу 1915 года, немцы заняли всего-навсего лишь территорию царства Польского и часть Прибалтики, а в эту войну на второй год дошли до Волги? В чем дело? В чем причина?
Среди объяснений, помнится, одним из самых простых и удобных было: видимо, перед той мировой войной к ней лучше были подготовлены солдаты и унтер-офицеры, а может быть, и офицеры. Отступили ведь тогда перед немцами за первые пятнадцать – шестнадцать месяцев войны только до Риги и Барановичей, а не до Волги!
Короче говоря, мне была присуща тогда некоторая идеализация боевых качеств русской армии в первую мировую войну. Не знаю, как другие, а я, сравнивая наши неудачи и немецкие успехи на Восточном фронте в период той и этой войн, с удивляющей меня теперь легкостью забывал и о громадной разнице в соотношении сил, и о грозно выросшей быстроте реализации временных преимуществ, которые дала нападающему техника времен этой войны по сравнению с техникой времен той. Я забывал о том, что в первые дни первой мировой войны из двинутых на нее ста двенадцати германских дивизий в Восточной Пруссии против России было развернуто только шестнадцать. Забывал, что на протяжении всей первой мировой войны против русских армий на Восточном фронте, даже в дни наибольших немецких успехов, действовало максимум около трети всех сил средств германской армии, а ее главные силы всегда оставались на западе. То есть все было как раз наоборот, чем в эту войну.
Что до Австро-Венгрии, основные силы которой воевали в ту войну против России, то ведь и в эту – две трети австрийцев находилось в составе германских войск на Восточном фронте, вся венгерская армия тоже была на Восточном фронте, были на нем и словацкие дивизии, и хорватские легионы. Словом, почти все, что в ту войну бросила против России Австро-Венгрия, в эту войну бросил против нас Гитлер в дополнение к собственно германским войскам.
А для полноты картины следует добавить сюда еще и румынскую и итальянскую армии, воевавшие в ту первую мировую войну против немцев, а в эту против нас.
Короче говоря, вторая мировая война столкнула Советский Союз с неизмеримо более сильным противником, чем тот, с которым столкнулась царская Россия. И если хоть на минуту представить себе, что тогда на Западном фронте вместо жесточайших битв на Марне, под Верденом, на Сомме шла бы «странная война» и немцы могли бы все, что у них тогда воевало и легло в землю там, на западе, бросить против России, то, не сбрасывая со счетов ни доблести русских солдат, ни храбрости большей части фронтового русского офицерства, все-таки, сравнивая обе войны, трудно себе представить, чтобы оставшаяся уже вскоре после начала войны почти без снарядов царская Россия смогла бы одна выстоять перед немцами, имевшими развязанные руки на западе.
Так я думаю об этом сейчас, задним числом, хорошо сознавая всю поверхностность некоторых моих исторических сравнений тогда, весной сорок третьего года. И однако, мой тогдашний интерес к старым солдатам, воевавшим вторую войну, был все же понятен. И, перечитывая в блокнотах записи того времени, я вижу, что эти старые солдаты в своих сравнениях двух войн были ближе к истине, чем я сам.
Сделав это отступление, приведу наиболее существенную запись в блокноте, привезенную из моей второй поездки на Южный фронт, – беседу с Захаром Филипповичем Канюковым, гвардии сержантом, 1896 года рождения.
«…Родом из-под Тихвина. Нас у отца много было. По праздникам люди гуляют, потому что у них костюмишки есть, а ты сидишь на печке и плачешь. Потом пойдешь в люди, костюмчик за пять рублей справишь и соблюдаешь его.
Третью войну воюю, но только войны тогда были послабее. В ту германскую войну воевал между Двинском и Ригой, боевое отличие награжден: угнал вагон с материалами у немцев. Мы, отставшие десять человек – он под уклон стоял, подъемник выбили и к своим поехали, шибче, чем с паровозом. Нас обстреливали, но вагон так бежал до самой станции, что воздух в груди захватывало.
В гражданскую воевал на Медвежке и в Мурманске.
Перед этой войной дом купили. Жена умерла. Потом немцы дом сожгли.
Взяли в истребительный батальон. Был два раза в бою. Потом, наши годы еще на передовую не брали, меня в госпиталь санитаром отправили. Из госпиталя – в строительный батальон. Из батальона – на пополнение дивизии под Новочеркасск.
Попал в пулеметную роту сперва пулеметчиком, потом связистом. А Звезда вот за что. Был я во время боя связным у командира батальона. Деревню взяли и заняли к утру оборону. Только обживаемся, а немец пошел в контратаку. Ну я с донесением при сильном огне, а надо было пройти метров семьсот. Ходули у меня отказывают, а так еще не стар годами. Первоначально пошел от комбата к командиру полка, к Епанчину, доложил как полагается и с приказанием пошел обратно. Завязался совсем сильный бой. Его авиация – сорок аэропланов – по нас шпарила.
Меня здорово обидел проклятый фриц: у меня на спине мешок, а в нем табачок и белья пара – поджег, чувствую, дымлюсь на спине. Так мне даже смешно и удивительно, думаю: что я, танк, что ли?! Обрезал я лямки, а котелок, прямо спасу нет, дрыгается за спиной, весь его прострелили, от пуль дрыгается. Противогаз – в нем хлеб был – мешал мне, под пузо лез. А тут на вершок поднимешься – убьют. Обрезал я его. Погода была сырая, весь в грязи, мокрый, в полушубке, в валенках.
В ту войну разве это аэропланы? Тогда нас в штаб дивизии, помню, пригнали, летит в небе аэроплан, высоко, с воробья! Ну рассыпемся, и все! А теперь неясно, для чего и рассыпаться, кругом бомбит! Ползу, а немец сильно бьет, кругом пули землю копают. Так сильно к земле прислоняюсь, как к жёнке в первый год ночью не прижимался. Приляжешь, замрешь, видишь, он к тебе уже на этом месте приспособился. И сразу вперед, туда, куда он пока не пристрелялся.
Четыре раза в тот день с донесениями туда и четыре раза назад ползал. Ровная местность. Немец на горе, а полк в окружении.
Приполз я в батальон с устным приказанием, передать, что мы остаемся в обороне, на прежнем месте. И опять оттуда пополз к командиру полка с донесением, что справа движется на Вас какая-то сила. Командир полка в окопе был. Похлопал по плечу.
– На тебе, папаша, за храбрость, выпей! Закуси немецкой курицей и ползи с моим приказанием обратно. И, чур, возвращайся.
А приказание батальону было – держаться до особого распоряжения. Я опять пополз, все время на животе. Место – как стол, нельзя голову поднять. Третий раз не дополз я до овражка, как раз угадал он снарядом в трех бойцов, а меня ударило и перекинуло в другую яму, оглушило. В ушах пищит, глаза залепило песком и снегом. Лежу и соображаю, куда ж теперь ползти.
Потом по убитым бойцам сообразил. Когда я полз в батальон, они впереди меня были, значит, туда и ползти.
Принес приказание в батальон. Командир батальона велел пулемет станковый к крайней хате поставить. Я пополз туда, а тут вдруг немецкий танк. Я в него с пятнадцати шагов бросил гранату. Танк остановился, и из него немцы побежали. Я вернулся к командиру батальона. По дороге встретил раненого, донес его. Устал как собака, а комбат мне говорит:
– Есть тебе еще задание, папаша. Ползи обратно в полк свяжись, связи нет.
Я пополз. Ночь ясная. Вижу, связь, провод. Потом человека вижу. Он один. Говорю ему – дай закурить, а он чего-то как загогочет не по-нашему. Значит, немец. Застрелил я его.
Дополз назад к командиру полка и не нахожу его, пустой окоп. Оказывается, он ближе к передовой переместился. Вертаюсь обратно, слышу голос командира полка. Тут он мне приказал опять ползти в мой батальон, сказать комбату, чтобы со своим батальоном откатывался назад. Пополз. Спросил, в чем дело. Я передал приказание, и мы стали отползать все вместе.
Вернулся я в полк. Мы пропустили в середину обоз и стали отходить, вырываться. Мы вправо, влево, в цепь и ударили на немцев. Немцы от нас отступили, и мы вышли к своим после того, как два дня держались не отходя.
Служил в ту войну в 239-м Константиноградском полку. Солдат был как верблюд: противогаз, бутылочка, дрова. Дрова, чтобы дым пускать против газа. Ножницы для перерезания проволоки и мат для перелаза, мотыга, лопатка и все остальное, что и сейчас. В дальнем походе не раз пот с лица сойдет. Если за что наказание, то сортиры чистили или под ружьем с сорока восьмью фунтами кирпича стояли.
Этой зимой тяжелые бои были. Смерть-салопница! И усталости хватало. Все-таки годы не так молодые. И размяться, погреться нельзя было, все ползком. Ночью холодно, морось ледяная шла, а днем под солнцем опять таяло, мокро. Чувствуешь, тело застывает, начинаешь немые ноги двигать немножко. А мины в бурьяне рвутся. Легче, что так: хотя и близко, а не видно. Только осколки слышно шлепаются, как овцы по грязи идут.
Когда Епанчин мне награду давал, поцеловал меня перед строем всего полка. Прочитали, кто награждается, давали и сразу привинчивали. Полк кричал «ура», и мы снова встали в строй.
Гитлер что говорил солдатам: вот возьмем Россию, вы, как жандармы, с плетями, а русский народ на вас работать будет.
Чтоб немца разбить, надо нам побольше гордости натуры, крепости, дружелюбия, согласия. Я хочу из войны выйти так, чтоб мне, старику, был почет и уважение. И то сказать, года мои уже такие, что и жить не так чтоб долго, при лучшем настроении – два десятка жить! Главное, чтоб зря не пропасть, сперва доказать, а потом помереть. И похоронят, так в братской могиле! И памятник поставят, приходить будут. А то что же, за околицей в деревне похоронят, семьи нет, никто и не узнает, кто схоронен…
Я хочу доказать, что старики не хуже молодых. Мы и храбрость имеем, и хитрость, и подходчивость. Только одна беда – ходули иногда подводят. Я когда в бой иду, у меня волнения нет. Я располагаю так: чему быть, того не миновать. Я располагаю так: хоть трясись, хоть пой, хоть плачь, а уже от пули не уйдешь, коли вышла она тебе. Два века не жить, один век нам всем равно даден. Раз напал враг на нас, надо что-то с ним делать…»
На этом обрывается запись во фронтовом блокноте, но не кончается история Захара Филипповича Канюкова. Один из тех, кого мы любили тогда называть в своих очерках бывалыми солдатами, он был человеком опытным, находчивым, глубоко уверенным в правильности своих суждений о войне и жизни. Его облик, и внешний, и внутренний, запал в душу, но я не стал писать о нем очередную фронтовую корреспонденцию, оставил заметки в блокноте про запас на будущее.
Это будущее оказалось близким. В конце весны того года, сев за повесть о Сталинграде, я, изменив всего одну букву в фамилии, вывел в ней старого солдата Конюкова. В данном случае натура была такая, которой оставалось только поближе держаться, додумывая не характер человека, а лишь обстоятельства, в которых он действует.
Вскоре после войны, когда на сцене МХАТа была поставлена инсценировка моей книги «Дни и ночи», один из самых замечательных русских актеров тех лет, Дмитрий Николаевич Орлов, играя Конюкова, с какой-то неимоверной актерской прозорливостью вернулся к первоисточнику не только в духовном облике, но даже в непостижимо угаданной внешности. И эта роль стала для меня самой большой радостью в спектакле.
В 1963 году, в том самом, до которого Захар Филиппович Канюков надеялся дожить «при лучшем настроении», я получил коротенькое письмо из-под Тихвина, без всяких подробностей, просто с просьбой прислать на память книжку «Дни и ночи» и подписью «Канюков».
Я послал книжку, далеко не уверенный, что ее попросил прислать тот самый Канюков. До этого не раз бывало и так, что книжки просили прислать просто-напросто однофамильцы вымышленных героев.
Но через полгода я получил еще одно письмо, на этот раз не оставлявшее сомнений:
«…Пишет вам это письмо Канюков Захар Филиппович. Вашу книгу, которую вы послали мне на память, жители нашей местности читали, передавали из рук в руки и затеряли. Обращаюсь к вам с просьбой: если есть возможность, то вышлите, пожалуйста, мне еще один экземпляр. Прошу вас, ответьте, живы ли остались Анечка, Сабуров, где они сейчас, если живы. Напишите, жив ли Епанчин, командир полка. Я живу сейчас в совхозе Андреевском Тихвинского района Ленинградской области. Первое время после войны нас скот колхозный, потом работал ночным сторожем, иначе других работ не мог выполнять. Я остался без руки. В настоящее время не работаю, живу на пенсии… Выполняю различные общественные поручения парторганизации совхоза…»
Я послал вторую книжку, на этот раз уже зная, что это именно тот самый Канюков. Совпадали не только его собственные имя, отчество и фамилия, но и записанная в блокноте фамилия командира полка Епанчина, о котором говорил мне тогда, в сорок третьем году, Канюков. А. упоминание об Ане и Сабурове вымышленных героях моей повести, и вопрос, живы ли они остались, меня не смутили. Знать их Канюков не мог, но, с долей читательской наивности восприняв мою книжку как достоверное во всех случаях повествование, поинтересовался дальнейшей судьбой этих неизвестных ему людей наравне с судьбой вполне реального человека – командира полка Александра Дмитриевича Епанчина, ныне Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта запаса, человека, которого не было в повести, но у которого в полку он служил и о котором когда-то рассказывал мне.
В те же апрельские дни у меня произошла неожиданная встреча с сорок первым годом. К Утвенко приехал по какому-то делу один из офицеров службы тыла, полковник, не то из тыла корпуса, не то из тыла армии, сейчас уже не помню. Было это поздно вечером, почти ночью. Утвенко оторвался от только что начатого ужина, коротко переговорил с полковником по делам я, пригласив его поужинать, представил нас друг другу. Фамилия мне ничего не сказала, но лицо этого человека я вспомнил мгновенно и сразу. Не только лицо, но и все, что было связано с воспоминанием об этом лице.
Воспоминание было тяжкое, связанное в жизни этого человека с одним из тех, самых страшных для каждого из нас моментов, когда мы у всех на глазах струсили и сами знаем, что именно так оно и было.
Свидетелей таких моментов в своей жизни мы не любим повстречать. А тут, как на грех, Александр Иванович Утвенко вдруг вспомнил о нашем разговоре накануне, когда он, рассказывая мне о своем начале войны, расспрашивал меня о моем, и, обращаясь к полковнику, вдруг спросил:
– Вот Симонов вчера мне рассказывал, что был в июле сорок первого под Чаусами, когда там была самая каша. Вы тоже вроде мне говорили, что были там. Не встречались?
Не знаю, что говорил раньше этот человек Александру Ивановичу и про ту кашу под Чаусами, и про себя там, в этой каше, но увидев по его лицу, что он меня помнит так же, как я помню его, я с инстинктивной быстротой, раньше, чем он успел ответить, сказал:
– Нет, по-моему, мы не виделись, – на всякий случай избавляя его этим и от лжи, и от нелегкой для него правды, если б он решился ее вспомнить.
Он поспешил подтвердить:
– Нет, не виделись, – и до конца ужина просидел хмурый и неразговорчивый, видимо тяготясь желанием поскорей уйти.
Воспоминания – нелегкая вещь. И через плохое в них все равно не перепрыгнешь, сколько бы потом ни сделал хорошего.
На следующий день я заболел, свалился с температурой сорок с гнойной ангиной. Утвенко оставил меня у себя в санчасти. И несколько раз по вечерам, закончив все дела, навещал меня. Боевых действий не было, но он принимал пополнение, проводил учения, много работал, и я ценил, что он вырывает для меня время.
Нет худа без добра. Говорить мне ангина мешала, а слушать нет. В эти вечера Утвенко много рассказывал о себе. Записывать я ничего не записывал меня ломала температура, но об услышанном не раз вспоминал и когда писал рассказ «Зрелость», главным героем которого был похожий на Утвенко полковник Проценко, и когда этот же человек стал командиром одной из сталинградских дивизий в книге «Дни и ночи».
Кстати, один из наших разговоров начался с того, что гнойная ангина хреновая штука и что он, Утвенко, это хорошо знает по себе, потому что брать Новочеркасск ему пришлось как раз когда он болел ангиной. Эта история про больного ангиной командира дивизии, которому все равно – вынь да положь надо брать город, и легла потом в основу моего напечатанного в «Красной звезде» рассказа.
Когда мне немножко полегчало, я перебрался машиной в штаб фронта с намерением лететь в Москву, но в дороге прибавил простуды и целую неделю добивал еще свою треклятую ангину в санчасти штаба фронта.
Рассказывая о Евгении Петрове, я уже упоминал, как лечивший меня врач Николай Алексеевич Лещ отдал мне сохраненный им листок с медицинским заключением о причинах смерти Е. П. Петрова.
Тогда же доктор Лещ рассказал запомнившуюся мне историю, связанную с именем покойного Сергея Семеновича Бирюзова, впоследствии маршала, а тогда начальника штаба Южного фронта.
Бирюзов был болен, ему надо было дать успокаивающее, обезболивающее средство. Тот врач, на долю которого это выпало, дал генералу лекарство и только потом вдруг обнаружил, что по нелепой оплошности дал, оказывается, совершенно другое лекарство, и притом в дозе, правильной для обезболивающего средства, а для этого чрезмерной и даже опасной для жизни.
Врач немедля принял меры и заявил начальству о происшедшем.
Больному было плохо и делалось все хуже, несмотря на срочные меры. Помогут ли они, было неизвестно. Врача арестовали. Оплошность носила такой характер, что ему грозил суд.
Бирюзов пришел в себя. Принятые меры в соединении с природным здоровьем спасли его. А врач сидел под следствием. Придя в сознание, Бирюзов приказал освободить врача из-под стражи и привести к себе. Поговорив с ним и услышав объяснения, как все это вышло, Бирюзов поверил ему и приказал закрыть дело. А врача оставили на том же месте, где он служил.
Бирюзову пробовали возражать, но он был не из тех, кого легко переспорить; поверив, он настоял на своем, не дал сломать человеческую судьбу.
И во время войны и после нее, когда я видел Бирюзова, я, глядя на него, молчаливо вспоминал историю с ним и с врачом.
Глава одиннадцатая
Долежав свое в санчасти фронта, я полетел в Москву.
В дневниках нет записей о многих куда более существенных днях, а об этом дне прилета в Москву есть.
…Бывает же так, что запоминается бледный, ничем не примечательный день. Так запомнился мне и этот день в Москве.
В редакции знали, что я должен на днях вернуться, но когда именно я сообщить не успел.
С аэродрома попутчики закинули меня в редакцию. Она к этому времени уже снова была на прежнем месте, на Малой Дмитровке, во дворе.
Зашел в редакцию. Никого. Воскресенье. Только вахтеры. Зашел в один из пустых кабинетов и стал звонить домой. Дома у меня жил один из моих довоенных друзей, военный корреспондент, недавно переженившийся и поэтому бездомный. Позвонил домой – молчат. То ли нет дома, то ли он уехал на фронт, а его жена съехала. Подождал, позвонил еще раз, опять не ответили.
Позвонил домой другому товарищу – он на фронте. Третьему – никто не ответил, тоже, наверное, на фронте. Четвертому – подошла его тетка, сказала: «На фронте».
Перебрал в уме всех, кому можно было бы позвонить. Оказалось, что некому: одни на фронте, другие в эвакуации, у остальных не знаю домашних телефонов – встречался за последние годы только на фронтах или в редакции, не приходило в голову записывать.
Пошел в кабинет редактора расспросить секретаря, когда завтра с утра будет редактор. Секретаря в «предбаннике» не оказалось, а в кабинете сидел сам редактор – парадный, в новенькой генеральской форме, при орденах и в особенно хорошо начищенных сапогах. Сидел и что-то проглядывал за столом.
Поздоровались, обнялись. Он был рад, что я вернулся, но, судя по всему, именно в этот вечер ему было не до меня.
– Что ты собираешься делать? – спросил он.
Я сказал, что не могу дозвониться домой, посижу пока редакции. И предложил ему посидеть вместе, закусить. У меня было кое-что с собой.
Он сказал, что рад бы, но сейчас должен идти в театр, в филиал Большого, на какую-то оперу или балет.
– Заехал сюда только бумаги проглядеть, нет ли чего срочного, мне уже надо ехать. А ты сиди. Если хочешь, можешь лечь поспать здесь на диване.
Он показал, где у него в кабинете спрятаны подушка и одеяло, и уехал. А я остался сидеть один.
Вышел во двор редакции. Моросит мокрый снег. Вернулся.
Так и просидел часов до одиннадцати вечера, пока наконец не ответил мой домашний телефон. Было ощущение какой-то пустоты и собственной ненужности здесь, в Москве, чувство, что нет такого человека, которому ты был бы сейчас необходим.
А ведь когда летел и была непогода, и летчик по дороге колебался, не сесть ли; заночевать, не долетая до Москвы, я буквально задрожал, боясь, что заночуем и я из-за этого не попаду в Москву именно сегодня…
Прочитав сейчас эту запись в дневнике, мне захотелось рассказать о той женщине, которая, как только я осенью сорок второго года получил квартиру, поселилась у меня и вела мое хозяйство, в ту пору холостяцкое. Это она и ответила мне в тот вечер в одиннадцать часов по телефону, и сказала, что ходила к соседям, слушала вместе с ними радио, но колонка стоит нагретая. Приеду, можно сразу помыться. Думала, что я вернусь еще позавчера, уже третий вечер греет колонку.
Покойная Мария Акимовна взялась у меня хозяйничать, когда ей было сорок лет. Возраст, по моим тогдашним понятиям, уже пожилой. Она была родом из Херсона и называла себя приютской, оставшись сиротой, воспитывалась до революции в приюте. Какие-то родичи у нее были, но тогда, во время войны, она о них почти не вспоминала. Между ними и ею лежала какая-то обида, может быть, потому, что они в молодости не приютили ее и она, оставшись старой девой, всю жизнь прожила потом, как она сама говорила, «в людях».
Хмурая, некрасивая, с поврежденной в детстве ключицей – одно плечо ниже другого, – она по первому впечатлению казалась людям недоброй. Однако на самом деле была человеком золотой души и бескорыстно отдавала свои заботы всем, кто нуждался в ее доброте и помощи. При этом, однако, о каждом из этих людей она имела собственное суждение, вполне определенное, непоколебимое и в большинстве случаев справедливое. И суждением этим имела привычку делиться со мною. К женщинам бывала строга, но при этом внимательно приглядывалась к ним, как мне несколько раз казалось, мысленно прикидывая: на ком бы мне стоило жениться, если к тому пойдет дело, и на ком жениться никак нельзя и не надо. Мужчины у нее делились на штатских и на военных. Штатские, по военному времени, у меня в доме бывали редко, и, если это были люди нестарые, Мария Акимовна обычно после их ухода говорила что-нибудь неодобрительное: «Чего это он опять пришел-то? Чего ему в Москве надо? Ехал бы на войну», – или что-нибудь другое в том же духе.
Всех одетых в военную форму она уважала за одно это и бывала озабочена, чтобы всех хоть чем-нибудь да накормить, сколько бы их и в каком бы часу дня и ночи ни заявилось в дом.
Она любила, чтобы они мылись и чтобы ночевали, хотя и то и другое доставляло ей много забот. Она любила чистоту и огорчалась, если двум гостям приходилось вытираться одним и же полотенцем и спать на одной и той же простыне. Полотенец и простынь у нас в хозяйстве было мало, и поэтому она только и делала, что стирала их.
Спешить она не любила, на часы не глядела и за временем вообще не наблюдала. Но когда бы ни явился в дом кто-нибудь из моих товарищей, одетых в военную форму, она с одинаковой готовностью начинала сразу собирать на стол.
Любила она их всех, но больше всех любила Алексея Александровича Суркова, за глаза называя его Алешей, и, когда его долго не бывало, скучала о нем и спрашивала меня: «Где же Алеша-то? Что-то его давно нету».
Когда я объяснял ей, что Сурков уехал на фронт, все равно оставалась недовольна: «Вы-то вот здесь, а он все там, пора б и ему…»
Во время своих приездов в Москву я обычно много и быстро работал. Кончив одно, спешил сразу начать другое. Исходя из этого, Мария Акимовна составила собственное представление, как следует работать людям нашей профессии. Когда в мое отсутствие у меня прожил около двух месяцев один мой товарищ, писавший все это время по заказу политуправления военный киносценарий, Мария Акимовна, потом рассказывая мне о нем, была очень недовольна его работой: «Спрашиваю его, как приехал: чего это вы делаете, Борис Романович? Говорит: сценарий пишу. Потом через месяц спрашиваю. Опять говорит: сценарий пишу. Уже перед тем, как вы приехали, спрашиваю: а теперь чего вы делаете, Борис Романович? А он все то же, про свой сценарий. Разве это дело? Столько времени все одно и то же писать. Разве это работа…»
Друзей моих она кормила чем могла и пускала ночевать и в мое отсутствие. Иногда пускала и тех, кого не знала, если у них была моя записка. Обычно так выходило в тех случаях, когда я оставался на фронте, а кто-то с фронта ехал в командировку или по вызову в Москву, не знал, где остановиться, и я давал ему на всякий случай записку к Марии Акимовне. Харчи, если было много народу, она делила справедливо, поровну. Но при этом всегда оставляла мне одному на утро тарелку супа и рюмку водки из какой-то своей вечной бутылки, которую она зажимала от всех, в том числе и от меня.
Истребить эту тарелку супа и рюмку водки накануне, с вечера, никому, в том числе и мне, не удавалось. Это был НЗ, который она железно оставляла мне на утро, как она выражалась, «для поправки», и объясняла: «Как же вы с утра работать будете, если горячего не похлебаете?»
Одинокая и бездетная, она в ту военную пору с поистине материнским бескорыстием поровну делила свою душу и свои заботы между всеми одетыми в военную форму людьми, надолго и ненадолго появлявшимися в моем доме.
И я вспоминаю сейчас о ней не только потому, что это часть моей собственной памяти о войне, но и часть общей памяти многих, теперь уже немолодых людей, до сих пор с благодарностью вспоминающих Марию Акимовну…
Вернувшись в середине апреля в Москву, я пробыл в ней не больше недели. Судя по одному попавшему мне сейчас на глаза документу того времени, после второй неудачной поездки на Южный фронт, из которой я привез всего-навсего один рассказ, редактор, раньше чем отправить в обещанный отпуск, решил все-таки сгонять меня накоротке еще в одну фронтовую командировку. Соотнося это намерение с характером редактора, думаю, что поездка предполагалась не в назидание, а для моей же пользы: наверное, он считал нужным, чтобы я перед длительным отпуском привез с фронта какой-нибудь оперативный материал. При наших дружеских отношениях, которых он, кстати, ни от кого не скрывал, редактор щепетильно соблюдал принцип: «Дружба – дружбой, а служба службой». Отсюда скорей всего и возникла идея поездки, почему-то потом отпавшая.
После трех с половиной месяцев сокрушительных для немцев неудач на юге, собравшись с силами и нанеся нам контрудар под Харьковом, они выдохлись и были остановлены на той линии фронта, которая без изменений продержалась до новых летних сражений. Нечеловеческое напряжение этой зимы постепенно затихало. И наконец, в двадцатых числах апреля везде, кроме Северо-Кавказского фронта, наступило почти трехмесячное, самое длинное и глубокое за всю войну затишье, как бы перерубившее ее на две половины: первую и вторую.
Ортенберг дал мне отпуск, и у меня в дневниках есть записи как именно это произошло.
…Я задумал писать повесть о Сталинграде, и Ортенберг отпустил меня в Алма-Ату.
– На сколько? – спросил я.
– Впредь до телеграммы, – сказал он. – Пока будет тихо, не трону. Пиши сколько влезет. Начнется шум, немедленно вылетай или приезжай, дам телеграмму…
В письме, отправленном в те же дни родителям, я писал, что собираюсь сесть в Алма-Ате за поэму о Сталинграде и что мне, наверное, удастся пробыть там месяц-полтора.
Не знаю, как объяснить это разноречие: с одной стороны, собирался писать повесть о Сталинграде, с другой стороны – поэму тоже о Сталинграде. Скорее всего собирался делать и то и другое одновременно. Месяц-полтора отпуска по тому времени был такой большой срок, что казалось, все успеешь сделать.
Видимо, перед отъездом из Москвы я сам себя убеждал, что, хотя со времени окончания событий в Сталинграде прошло меньше трех месяцев, писать об этом повесть уже можно и пора! Свидетельством того, как я хотел тогда утвердиться в этой своей уверенности, служит сохранившаяся у меня стенограмма беседы с корреспондентом какой-то американской газеты, какой не знаю, на копии стенограммы этого не написано. Хотя в беседе речь шла главным образом о «Русских людях», которых в то время ставили в Нью-Йорке, но думал я не столько о них, сколько о будущей работе.
«В о п р о с. Считается непреложной истиной, что произведения, отражающие события истории, можно создавать только после того, как событие это уже отошло в прошлое.
О т в е т. Возможно, конечно, что через десять лет я напишу об этом лучше, чем в «Русских людях», но у меня была необходимость писать именно сейчас, когда вопрос, который я ставлю, является вопросом дня, когда пьеса может повлиять на людей, которые ее сегодня посмотрят, а завтра пойдут на фронт. Для меня это интереснее и важней, чем если бы пьеса произвела впечатление на людей, для которых война будет уже в прошлом. Конечно, потом легче разобраться в последствиях войны, но когда находишься в гуще событий, то понимаешь их смысл лучше, чем когда находишься вдали от них. Я говорю не об общем философском смысле, а о конкретном смысле происходящего и о правде его.
В о п р о с. Вы надеетесь, что благодаря вашей пьесе ваши американские друзья лучше узнают природу русского человека?
О т в е т. Иностранными писателями и философами всегда бесконечно много говорилось о русской душе и об особенностях русского человека. Конечно, мне хотелось бы, чтобы американский зритель познакомился с особенностями русского человека. Но что до меня, то мне кажется, что все эти особенности сейчас сводятся к одной, свойственной пока на этой войне только русскому человеку: что он дерется не на жизнь, а на смерть. И я рад тому, что эта достойная подражания особенность будет перед глазами у американского зрителя.
В о п р о с. Над чем вы сейчас работаете?
О т в е т. Думаю написать повесть. Это будет моя первая крупная проза, и я отношусь к ней с некоторой робостью. Это будет повесть о штатском человеке, пришедшем в начале войны в армию, ставшем за войну заядлым воякой, но в глубине души продолжающем считать себя штатским человеком, ибо военным человеком он стал незаметно для самого себя».
Таким, судя по этому интервью, виделся мне перед началом работы главный герой повести «Дни и ночи» и так я пытался сформулировать тогда свое отношение к проблеме дистанции между тем, о чем ты пишешь, и тем, когда ты это пишешь.
Лежит на этом интервью и печать времени в более широком смысле. Это был конец апреля, впереди маячило третье лето войны, и я, наверное, как и всякий другой на моем месте, воспользовался возможностью еще раз напомнить американским читателям газеты, что мы ждем открытия второго фронта хотя бы на это, третье, лето!
С такими настроениями и мыслями я уезжал в Алма-Ату, где Столпер продолжал снимать «Жди меня», а Пудовкин, по слухам, не то заканчивал, не то уже закончил работу над фильмом «Русские люди».
Были у меня и личные причины поехать в отпуск именно в Алма-Ату, а не в какое-нибудь другое место.
Я не хочу ни здесь, ни в дальнейшем касаться этих причин. Все сколько-нибудь существенное, связанное с моей личной, в узком смысле этого слова, жизнью в те военные годы, сказано в тех из моих стихов этого времени и первых послевоенных лет, которые впоследствии соединились в цикл «С тобой и без тебя», в наиболее полном виде напечатанный в моей книге «Тридцать шестой – семьдесят первый». Желающих прочесть отсылаю к этой книге стихов, потому что ни дополнять их чем бы то ни было, ни комментировать их у меня давно уже нет ни причин, ни желания.
Приехав в Алма-Ату, я сразу засел за повесть «Дни и ночи» и сидел и писал ее с утра до вечера, запершись, почти никого не видя и страшно спеша, не зная, сколько времени мне отпустит на эту работу притихшая, но все равно стоявшая за плечами война.
Только изредка, вряд ли чаще, чем раз в неделю, я отрывался и заходил на эвакуированную в Алма-Ату московскую киностудию.
Весна в Алма-Ате стояла довольно холодная. В нетопленных, промерзших за зиму павильонах похудевший от систематического недоедания, как и все, кто был здесь, в тылу, Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал своего «Ивана Грозного».
Все фильмы снимались тогда в тяжелейших условиях бедности, нехватки буквально всего необходимого для съемок.
Но для «Ивана Грозного» были созданы все-таки сравнительно лучшие по тому времени условия.
Мне не приходила тогда в голову мысль, что Сталин мог интересоваться фигурой Ивана Грозного и искать в ней себе исторических параллелей и исторического самооправдания за некоторые из событий недавних, предвоенных лет. Мне, тогдашнему, приехавшему с фронта человеку, по правде говоря, просто-напросто казалось странным, зачем и для чего во время войны снимается эта картина.
Все остальные кинематографисты тоже много работали, снимали главным образом военные картины и находили в этой работе, которую практически можно было делать, конечно, только здесь, в тылу, нравственное оправдание тому, что они не на фронте.
Большинство писателей было на фронте, и третья часть их – больше трехсот человек – к тому времени уже погибла. Оказавшиеся в эвакуации чаще всего чувствовали себя виноватыми. Иногда без вины виноватыми. Некоторые говорили, что хотят уехать на фронт, некоторые действительно уезжали. И в этом был нравственный климат времени воевавшей не на жизнь, а на смерть страны.
Чем дальше длилось затишье на фронте, тем больше росло ощущение тревоги перед надвигающимся летом. Об этом мало говорили, но я чувствовал, что другие люди, так же как и я, думают о возможности нового летнего наступления немцев и в душе боятся его. Боятся, помня два первых страшных летних немецких наступления в два первых года войны. И вместе с тем от непривычности такого длинного затишья порой против всех доводов рассудка начинало казаться, что оно никогда не кончится.
О моем возвращении из Алма-Аты в Москву есть коротенькая запись в дневнике.
…В середине июня получил телеграмму: «Возвращайся». Вернулся в Москву, ожидая, что последует немедленный выезд куда-нибудь на фронт. Но оказалось, что телеграмма была дана без какой-нибудь особенной причины. Просто Ортенберг решил, что меня слишком долго нет в Москве, вдруг рассердился и послал телеграмму.
Я приехал и спросил, что делать.
– Ничего не делай. Продолжай, сиди пиши.
– Так чего же ты меня вызвал?
– А так, чтобы не говорили, что ты слишком долго в отпуску. Сиди здесь и пиши…
Я приехал в Москву накануне второй годовщины войны. К этой дате в парке культуры и отдыха была открыта выставка трофейной немецкой техники.
Халип сделал в день открытия один из лучших своих, полный внутреннего драматизма снимок: перед огромным, задранным к небу стволом захваченного нами немецкого дальнобойного орудия приехавшие на экскурсию из госпиталя бойцы в госпитальных халатах, на костылях.
На меня выставка тоже произвела сильное впечатление, и я написал о ней и в стихах, и в прозе, отдав и то и другое в «Красную звезду». Стихи – «Танк на выставке трофеев» – понравились больше и были напечатаны. Проза понравилась меньше и осталась в столе.
Но мне самому эта проза, наоборот, нравится больше стихов, и я приведу здесь две страницы из нее – те мысли о войне, которые приходили в голову накануне Курской дуги.
«…Того, кто видел дороги, по которым отступала немецкая армия под Москвой, того, кто видел поля сражений под Сталинградом, не удивит количество представленных на выставке трофеев.
Выставка эта – не склад разбитой немецкой техники, это только ее номенклатура. Но номенклатура такая подробная я точная, что она дает представление о всей мощи обрушившегося на нас удара, о всей продуманности его, о всей силе немецкой техники, о ее организации и взаимодействии. Когда проходишь по выставке, то думаешь о том, как хорошо (больше того – отлично) была налажена эта военная машина. Вот пикирующие бомбардировщики, обрушившиеся на нашу пехоту и стремившиеся прижать ее к земле. Вот танки и самоходные пушки, которые прорывались через нашу придавленную к земле пехоту. Вот транспортеры и мотоциклы, на которых стремительно двигалась вливавшаяся в пробитую танками брешь немецкая пехота. Вот орудия, при помощи которых немцы штурмовали окруженные и обойденные танками города. Вот прозванный на фронте «рамой» за свой странный, похожий на букву П хвост двухфюзеляжный немецкий корректировщик «фокке-вульф», который корректировал огонь этой артиллерии.
Вся эта вместе взятая могучая военная машина предназначена для одного для движения вперед и рассчитана на одно – на победу. Об этой машине нельзя говорить только как о прошлом, о ней нужно говорить сразу как о прошлом, как о настоящем и как о будущем. На этих трех этапах она встречает разное противодействие себе. Сначала ей учились сопротивляться, потом ее учились (и научились) бить, теперь ее предстоит разбить. Между словами «бить» и «разбить» есть большая разница. Это далеко не одно и то же. Немцы тоже нас били, и иногда били жестоко, но им не удалось и никогда не удастся нас разбить. Мы их били, нам предстоит их разбить во что бы то ни стало, и мы это сделаем. Выставка говорит о прошлом, но она прежде всего глядит в будущее.
Эти танки, разбитые и сожженные, эти пушки, искалеченные и захваченные целиком, эти самолеты, подбитые в воздухе и взятые на аэродромах, отнюдь не сняты с вооружения немецкой армии.
И если приятно вспоминать о том, что подбито и сожжено, то, может быть, менее приятно, но гораздо более важно помнить о том, что еще не подбито и не сожжено. И именно об этом прежде всего напоминает выставка.
Когда мы с радостью и гордостью вспоминаем о силе ударов, нанесенных нами немецкой армии и ее технике, то для того, чтобы правильно судить и правильно готовиться к победному, но суровому будущему, нужно помнить еще одно обстоятельство – нужно помнить о силе ударов, которые в свое время немцы наносили нам, и о том, как мы сумели перенести их, как мы сумели оправиться после них.
Нет никакой нужды проводить прямые параллели. Немцы одно, а мы другое. Мы сильнее их духом, мы сильнее их верой в победу, мы вообще сильнее их. Но следует помнить, что немецкая армия тоже сильная армия, что она тоже умеет оправляться от ударов, что она тоже стремится склонить военное счастье на свою сторону и делает для этого все возможное.
И потому все эти бесконечные типы танков, пушек, самолетов – все, что сосредоточено сейчас в парке культуры и отдыха, – это напоминание не о том, что нам угрожало, а прежде сего предупреждение о том, что немцы собираются угрожать вам впредь.
На выставке толпятся ребята. Они ходят вокруг самолетов, вокруг машин и с особенным удовольствием останавливаются не около целых, а около тех, которые избиты, продырявлены нашими снарядами. «Ух, как долбануло! – с восторгом говорят они – Ишь как раздраконили!» Как свойственно детям, они думают прежде всего о том, что видят, уже о поверженном. Но мы не дети, мы должны думать больше о предстоящем, чем о минувшем, мы должны думать о том, чтобы детям, которые сейчас стоят вокруг этих разбитых танков, не угрожали больше другие, такие же, еще не разбитые.
Разбить то, что показано на выставке, было трудно, и слава тем, кто это сделал. Но самое главное – окончательная победа – еще впереди. И именно об этом, прежде всего об этом нам напоминает выставка…»
О моих настроениях того времени говорит и письмо, отправленное родителям через две недели после приезда в Москву:
«…В Алма-Ате все время работал. Написал около десяти стихотворений, а главное, написал две трети романа о Сталинграде, который сейчас сижу здесь и заканчиваю.
Написал около пятисот страниц, осталось еще около двухсот, после чего из этого абсолютного черновика предстоит сделать более или менее окончательный текст романа. Это главное.
По приезде в Москву получил две медали – за Сталинград и Одессу.
А теперь о вашем приезде. Безусловно, то, что кругом едут, а вы не едете, кажется вам обидным и несправедливым, и даже, пожалуй, непонятным. Но я не могу не сказать вам о той злости, раздражении и удивлении, которые вызывает у меня нынешнее массовое паломничество в Москву. В самом разгаре тяжелейшая война. Она отнюдь еще не кончилась. Никакого договора о том, чтобы немцы больше не бомбили Москву, с ними не подписано и не будет подписано. И вообще война при нашей безусловной и окончательной победе чревата еще тяжелейшими испытаниями. Я абсолютно не понимаю, зачем реэвакуация в Москву семей проводится в таких размерах. В этом, на мой взгляд, много легкомыслия. Конечно, воля ваша! И если вы твердо решите и не послушаете меня, то я сделаю так, чтобы вы приехали и остались в Москве. Но взываю к вашему чувству благоразумия. Во всяком случае, до зимы или хотя бы до поздней осени этого ни в коем случае не надо делать, ни к чему. Мне так же, как и вам, очень хочется повидаться с вами. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, по получении этого письма и вложенных в него пропусков садитесь в поезд и езжайте. Не смущайтесь трудностями пути. Отсюда я отправлю вас в обратную дорогу как смогу лучше. Но вам не нужно ничего рвать и ломать с работой и следует взять с собой только то, что нужно, когда отправляешься в двухнедельную поездку.
Сейчас, когда наконец у нас есть возможность увидеться, когда она так близка и реальна, я особенно остро почувствовал, как соскучился. Но только приезжайте скорей. В связи с работой над романом у меня сейчас такое время, что я, очевидно, при всех обстоятельствах числа до 20 июля буду безвыездно в Москве…»
Глава двенадцатая
Мне казалось, что затишье еще продлится и я успею и дописать роман, и увидеться со своими стариками. Но вышло по-другому. Затишье кончилось раньше, чем они успели выехать в Москву; пришлось телеграфировать им на Урал, чтобы задержались, что я уехал на фронт.
О том, как все в один день перевернулось, есть запись в дневнике.
…Пятого июля я весь день писал, завалив телефон подушками. Кончил главу. Поздно вечером пришли поужинать несколько друзей. Вдруг в час ночи позвонил телефон.
– Соединяю с редактором! Редактор сказал без предисловий:
– Выезжай на Центральный фронт.
– Когда?
– Сейчас. Машина подготовлена, через два часа придет за тобой. Халип будет в машине. Твоя командировка у шофера.
– А куда там являться?
– Поезжай, минуя штаб фронта, прямо в 13-ю армию, к Пухову. Долго не задерживайся. Посмотришь первые события и возвращайся. Сдашь корреспонденции и поедешь опять.
– А что происходит?
– Как «что происходит»? Сегодня утром немцы перешли в наступление по всему Центральному и Воронежскому фронтам, по всей Курской дуге. Поезжай.
Слова редактора произвели на меня впечатление вновь начавшейся войны. В этом не было логики, но чувство было именно такое.
Через два часа я выехал с Халипом, и, сделав 450 километров, мы к вечеру уже были на командном пункте у командующего 13-й армией генерала Пухова в маленькой деревеньке в районе Малоархангельск – Поныри – Ольховатка, где немцы наносили свой основной удар с севера.
Поговорив ночью с Пуховым, уже перед рассветом поехали в 75-ю Сталинградскую дивизию генерала Горишного, которая вступила в бой вчера утром: была введена из второго эшелона после того, как стоявшая перед ней дивизия была оттеснена и разбита во время первого натиска немцев…
Вот и вся запись об этих днях, оставшаяся в дневнике. Я, очевидно, ничего не успевал передиктовывать из блокнотов. Но сами блокноты частично сохранились.
…Пухов. Николай Павлович. Сорок семь лет. Крупный, тяжелый, лысый, неправдоподобно спокойный. Первую мировую войну закончил прапорщиком. Гражданскую войну – начальником штаба дивизии. Эту войну начал командиром дивизии. Потом прямо с дивизии в командующие армией. Командует ею с января сорок второго.
Встретился со мной после ужина с солдатами-разведчиками, взявшими в ночь с 4-го на 5-е в плен немца сапера, рассказавшего о предстоящем наступлении.
Ужинал с разведчиками после их награждения. Рассказывал мне о них: «4-го в 23.30 группа разведчиков взяла сапера, разминировавшего минные поля перед наступлением. Наткнулись на девятнадцать саперов, шестнадцать убили ножами и гранатами, двое убежали, одного взяли.
Учитывая ситуацию, то, что немцы разминируют свои заграждения, стали допрашивать сапера уже по дороге. Он на ломаном русском языке сказал, что в 3 часа начало наступления. Узнав об этом, я во втором часу ночи доложил Рокоссовскому.
У меня уже давно по нескольким немецким рубежам была запланирована на случай наступления немцев артиллерийская контрподготовка – тысяча стволов. Сигнал «лев» – по одному сектору, сигнал «барс» – по другому, сигнал «солнце» – бью? все стволы.
Командующий фронтом разрешил начать артиллерийскую контрподготовку до предполагаемого удара немцев. Конечно, риск большой, если бы сведения не оправдались. Но не принять мер – еще больший риск.
Дали команду и обрушили весь огонь на сосредоточившегося перед наступлением противника. Когда он после нашего артиллерийского удара все-таки начал стрелять, то, по нашим расчетам, из его артиллерийских полков била только половина. И в атаку они пошли вместо трех в пять тридцать…»
…В 75-й гвардейской Сталинградской дивизии генерала Горишного. «Мы на данную минуту за эти дни 126 танков уничтожили, и это, учтите, только моя пехота и моя артиллерия. Я хлеб у танкистов отбивать не хочу, свой хлеб ем. Тут ко мне одна танковая бригада пришла в критическую минуту. Является командир, говорит: «Явился в ваше распоряжение». А у него танки большею частью легкие, Т-70, а тут на нас больше 200 немецких танков идет. Гак я отказался от его помощи, сказал ему: «Сиди пока, зачем зря губить бригаду. Обойдемся сами. Мы же все-таки государственные люди, одна легкая бригада уже и так погибла».
…По краю оврага, в склон которого врыт наш наблюдательный пункт, бьет немецкая артиллерия. «Целым дивизионом лупит. Ну-ка вызови начальника артиллерии, чтобы засек мне этот дивизион».
«Вот эти низинки впереди мы уже назвали оврагами смерти. Вчера немцы выдвинулись вперед по этим оврагам, залегли и ждут своих танков. А мы их танки задержали огнем, и их пехота лежит и ждет. А мы тем временем подвезли бригаду «катюш» и накрыли сплошняком все эти овраги».
Генералу дают трубку, и он говорит в нее начальнику артиллерии:
«Слушай, Далакашвили, что же ты, в самом деле, допускаешь, что меня немец на командном пункте 150-миллиметровыми снарядами беспокоит?»
Положив трубку, замечает мне о своем начальнике артиллерии:
«Ох хороший человек, и смелый, и исполнительный. Только одно нехорошо: грузинская деликатность к людям его подводит. Деликатный, боится человека обидеть, боится на слово не поверить. А у нас ведь деликатность не очень понимают».
Бой заметно разгорается. Артиллерия бьет и справа и слева, Горишный показывает мне по карте.
«Днем не будем трогать эту лощинку, пусть лезут в нее. Самый удобный подход к нам – по ней. Чем больше за день наползут, тем лучше. Не будем пока трогать ее. Будем ее беречь. А вечером жахнем по ней из «катюш».
Вы знаете, вчера под вечер немцы до того густо на вас пикировали, что один сбросил бомбу на другого. Тот рассыпался буквально в порошок, а сопровождавший истребитель от взрывной волны перевернулся в воздухе и врезался в землю».
Ему докладывают, что убили командира батальона. Спрашивает, вывезли ли тело.
«Ну что ж, памятник поставим».
«Только временный, товарищ генерал, фанерный, другого не поставишь».
«Ничего. Будем иметь возможность, и мраморный поставим. А пока обозначим хоть этим, чтобы было известно: погиб здесь в бою с немцами хороший человек».
Вдруг вспоминает о потерях первого дня:
«Я понес потери до 2000 человек и потерял 48 танков. Люди, я вам просто скажу, умирали за пушками, но, в свою очередь, 50 немецких танков набили».
Приходит ординарец, приносит котелок молока. Сам надоил где-то тут в кустах от брошенной коровы. Пьем молоко. Мимо командного пункта несут на носилках раненого капитана.
Сверху, из корпуса, сообщают, что через наш участок идет 200 наших самолетов бомбить немцев. И в самом деле скоро они появляются над нашими головами. Все небо над нами в разрывах немецких зениток. Немцы начинают бить заранее, еще над нашими позициями, и чтобы пораньше встретить огнем наши самолеты, и чтобы заставить их спутать, где истинный передний край, и отбомбиться по своим.
Вслед за нашим налетом – немецкий. Первый был в пять утра. Второй – в девять. Этот – третий.