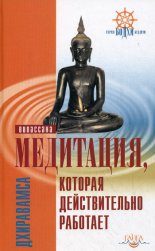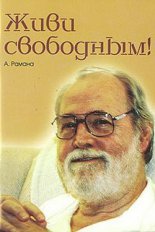Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы Симонов Константин
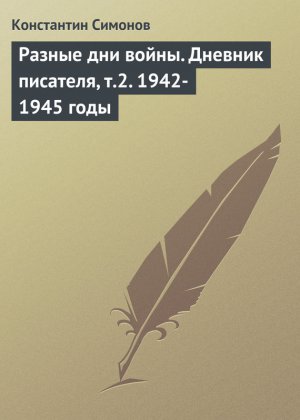
– Молодой, а службу знаешь, – говорит Петров. – Молодец!
– Разрешите идти?
– Иди.
В эту минуту появляется наш майор, и мы вновь едем куда-то дальше, сворачиваем еще один раз, потом другой. Останавливаемся снова у каких-то домов. Майор опять соскакивает с машины, чтобы узнать, где командир корпуса.
Как только он уходит, к нам подбегает молодой, хорошо сложенный старший лейтенант, одетый сугубо по форме, с обычным спутником офицеров связи планшетом, перевязанным крест-накрест красной резинкой. Он обращается к Петрову и говорит, что выслан генералом сюда, навстречу, на дорогу.
– А где генерал? – спрашивает Петров, не дав ему договорить.
– Недалеко отсюда, два километра, – говорит лейтенант.
– Ехать туда можно?
– Ехать нельзя, товарищ командующий, там потери, обстреливают.
– Что же, что обстреливают? – говорит Петров.
– Имеется много убитых, – говорит лейтенант. – Если меня убьют, это ничего, а вам нельзя ехать туда, товарищ командующий!
– Ну ладно, это не ваше дело, – миролюбиво говорит Петров и делает жест, чтобы водитель трогался.
Но в эту секунду возникает перед машиной наш майор с каким-то еще офицером, и выясняется, что произошло недоразумение. Командир корпуса, к которому мы едем, генерал Шмыго, здесь, в соседнем доме, а лейтенант, выскочивший нам навстречу на дороге, послан от командира другого, горнострелкового корпуса генерала Жукова.
Входим в избу. В окне выбито два стекла, но топится печка; мы раздеваемся и греем у нее руки.
Шмыго, небольшого роста, коренастый человек в генеральской папахе и рыжей куртке из американского брезента мехом внутрь, почему-то кажется мне знакомым. То ли я его встречал раньше, то ли мне почему-то кажутся знакомыми все такие же, как я, картавые люди.
Он спокойно и деловито докладывает о положении на участке его корпуса. Петров сидит над картой и проверяет по ней доклад. Выясняется, что за первые восемь часов наступления продвижение корпуса небольшое – от двух с половиной до трех километров. Но, как выражается Шмыго, в последний час он почувствовал у себя на левом фланге намечающийся успех и предлагает ввести там часть своих вторых эшелонов, чтобы развить продвижение.
– Где крепче всего держатся немцы? – спрашивает Петров.
Шмыго показывает по карте где.
– Вот здесь у них сплошные траншеи. Траншеи, траншеи и траншеи. А здесь артиллерийские позиции.
Петров берет карандаш и неожиданно проводит по карте линию от показанных Шмыго участков немецкой обороны на север, к окраине того леса, о боях за который все время шла речь на наблюдательном пункте у Москаленко.
– Ну вот, – уверенно говорит Петров, – теперь ясно, что основной рубеж проходит у них здесь, потом идет сюда, а отсюда выходит к опушке леса. Точно! – и спрашивает у Шмыго: – Сколько вы взяли пленных?
– Пока немного…
– А как ваше мнение, – спрашивает Петров, – вот этот рубеж, в который вы уперлись, здесь сосредоточены их резервы или это просто их вторая линия?
Шмыго колеблется.
– Думаю, что резервы, – говорит он, но в его голосе нет уверенности. Видимо, он еще не решается сделать тот неприятный и для него и для командующего фронтом вывод, что, в сущности, нами преодолена до конца только первая линия, на которой немцы держали меньшую часть войск. А вторая линия, на которую они успели до начала наступления отвести большую часть сил, хотя в какой-то мере и накрыта огнем во время нашей артподготовки, но не подавлена.
Выслушав Шмыго, Петров говорит несколько слов, из которых я понимаю, что он сам делает за командира корпуса этот неприятный вывод, договаривая до конца то, что Шмыго имел в виду, но не решился высказать.
Петров приказывает соединить его по телефону с командиром горнострелкового корпуса Жуковым. С вызовом что-то не получается. Лейтенант выходит выяснить, есть ли связь, и возвращается с известием, что где-то обрыв и нужно подождать, пока восстановят линию.
Мы ждем. Пробуем тем временем связаться кружным путем, через другие линии связи.
– Если связаться не удастся, пойдем туда пешком, – говорит Петров.
После предупреждения лейтенанта о том, что туда нельзя ехать на машине, много убитых, у меня нет особенного желания идти туда. В душе я хочу, чтобы Петрову поскорее удалось связаться с Жуковым по телефону.
Мы ждем минут десять. Как я понимаю, Петрову тоже хочется соединиться с командиром горнострелкового корпуса по телефону, но, наверно, по другим причинам, чем мне. Его не устраивает хождение туда и обратно по этой распутице; оно отнимает слишком много времени, а ему еще нужно, по его плану, заехать засветло к танкистам, а после них к Гречко.
Наконец нас все-таки связывают с начальником штаба горнострелкового корпуса, и Петров передает ему несколько приказаний по телефону.
Мы одеваемся, снова влезаем во все промокшее – ничего, конечно, не высохло, – садимся на «виллис» и едем через городок Струмень на его окраину, где нас должен ожидать выставленный танкистами маяк. Долго крутимся там, но маяка не находим, и Петров, плюнув, едет дальше вдоль стоящей на дороге танковой колонны, рассчитывая впереди, в следующей деревне, найти ее начальника.
Из какой-то полуразрушенной хаты вылезает нам навстречу майор командир мотострелкового батальона, судя по фамилии и по виду, азербайджанец.
Петров хочет поскорее связаться по рации с начальником штаба бригады. Майор поспешно говорит:
– Сейчас, так точно, – и быстро идет впереди машины вдоль бесконечной вереницы танков.
Мы довольно долго, медленно едем за ним, наконец куда-то сворачиваем. Петров спрашивает его на повороте:
– Так где же ваша рация?
– Там, – показывает он назад. – Там моя рация, в танке.
– Так куда же вы нас ведете?
– А я вас вел к начальнику штаба полка.
Оказывается, он от волнения все перепутал. Мы с трудом разворачиваемся и едем назад. И только уже у самой Струмени, почти вернувшись в нее, замечаем около полуразбитого сарая несколько «виллисов».
Выясняется, что командир бригады, он же начальник колонны, находится именно здесь.
В сарае стоят стол, три стула, и толпится вокруг них человек двадцать, если не больше. Начальник колонны – судя по его должности, наверно, полковник – еще совсем молод. Он в шлеме и в полушубке без погон. Выясняется, что он ждал нас на окраине Струмени, около костела, но мы проскочили мимо него.
– Я вам махал, – говорит он, – но вы не заметили.
– Не удивительно, что мы вас не заметили, – говорит Мехлис, показывая на его полушубок без погон.
– Только час назад надел полушубок, шинель вся вдрызг промокла.
Петров приказывает полковнику связаться с начальником штаба корпуса и передать ему, что командующий фронтом приказал свернуть всем танкам этой левой колонны с дороги и встать на ночь неподалеку отсюда, в треугольнике между тремя деревнями.
– Пусть люди отдохнут и немного обсушатся по домам.
Поясняя свое приказание, Петров говорит, что сегодня, по всей вероятности, корпус не будет введен в дело и, стало быть, людям незачем мокнуть.
Полковник, услышав это, просит разрешения подвезти кухни и накормить людей горячей пищей. Он объясняет, что вчера им было запрещено тащить с собой вперед все лишнее, в том числе и кухни.
– Конечно, было запрещено, – говорит Петров. – А сейчас, раз есть возможность накормить людей горячим, надо накормить.
От танкистов едем к Гречко. На повороте задерживаемся еще у одной пробки. Несколько минут стоим впритирку к грузовику, в кузове которого бойцы едят из котелков.
– Все каша да каша? – улыбнувшись, спрашивает их Петров.
– Так точно! Все каша да каша, – отвечает кто-то из солдат.
Свернув через два или три километра после Струмени на проселочную дорогу, мы скачем по чудовищным кочкам, переваливаем через почти непроходимую канаву и наконец застреваем. Второй «виллис» проскакивает вперед и начинает на тросе вытягивать первый.
Я присоединяюсь к общим усилиям автоматчиков и адъютантов, начинаю пихать застрявший «виллис». «Виллис» выскакивает из ямы, и меня, как это обычно со мной бывает, с ног до головы заляпывает грязью. Чтобы хоть немного от нее очиститься, приходится отойти в сторону и, легши на снег, проползти по нему несколько шагов сперва на брюхе, потом на спине. За мной на снегу остается такая огромная грязная полоса, что показавший мне этот прием толстый Кучеренко хохочет до слез!
Выбираемся из колдобин и быстро проскакиваем полупустой промежуток, один из тех, что почти неизбежно остаются на стыке двух больших хозяйств, даже когда они, казалось бы, стоят плотно друг к другу.
Едем вдоль железнодорожной насыпи. Врытые в землю так, что дула почти лежат на уровне насыпи, стоят противотанковые орудия. Людей не видно. Недалеко от одной из пушек торчит из-под снега кусок плащ-палатки. Очевидно, люди сидят в ямках и, накрывшись плащ-палатками, греются. Потом у самой дороги попадаются два окровавленных немецких трупа.
Наконец мы добираемся до разрушенного поселка с разбитой церковью и остатками железнодорожной будки. Там в точно назначенном месте нас ждут броневики и «виллис». Маяк от Гречко.
– Что, замерз, дожидаясь нас? – спрашивает Петров, называя по фамилии дожидавшегося нас здесь майора.
Я уже в который раз замечаю, что у командующего хорошая память на фамилии.
– Никак нет, не замерзли, – говорит майор.
Едем вслед за «виллисом» по шоссе вдоль железной дороги.
На путях неожиданно возникает синий спальный вагон с выбитыми стеклами. Он стоит одиноко и нелепо среди этого военного пейзажа. Слева лес, справа вдоль дороги изгородь свеженарубленных елок, воткнутых в землю для укрытия движения по дороге.
Въезжаем в лес, сворачиваем направо, потом еще раз направо. Мне начинает казаться на последних поворотах, что мы заехали в самую гущу леса. Наконец останавливаемся.
В лесу стоит несколько машин, поодаль пара пулеметов. Около одного из них разведен костер и греются солдаты. Пахнет вкусным смолистым дымом.
Оставив свои «виллисы» около других машин, мы идем еще шагов сто по лесу, и я, пока иду, недоумеваю, почему наблюдательный пункт Гречко расположен в такой глухомани.
Еще двадцать шагов, и я вижу между соснами несколько плоскокрыших деревянных домиков-скороспелок, похожих на те, что я когда-то видел на Мурманском направлении. За домиками начинается просвет.
Все правильно, это не глухомань никакая, а опушка леса, выходящая близко к противнику. Значит, я просто потерял ориентацию, пока мы несколько раз поворачивали в лесу!
Кроме домиков, за полсотни шагов от них успеваю заметить высокую свежевыстроенную наблюдательную вышку.
Петрова и Мехлиса встречает Гречко. Человек высокий, стройный, молодой или, во всяком случае, очень моложавый, со спокойным голосом и неторопливыми движениями.
Когда мы, уезжая от Москаленко, на скорую руку перекусывали, Мехлис угощал Петрова яблоками, которые его адъютант возил с собой в чемоданчике. Вспомнив об этом еще по дороге сюда, к Гречко, Петров сказал, поворотясь с переднего сиденья к Кучеренко:
– Вот если бы Лев Захарович вместо яблок нас водкой догадался угостить, сейчас бы как раз, по такой мокроте чарочку водки…
Кучеренко там, на дороге, услышав это, только сочувственно хмыкнул.
Теперь, когда мы вошли в домик Гречко и сняли вою верхнюю одежду, которую можно было уже просто-напросто выжимать, Петров сказал:
– Интересно, угостят ли нас у товарища Гречко?
Гречко сказал, что через пятнадцать минут все будет, и позвонил по телефону: «Привезите покушать», – не дав при этом никаких дополнительных объяснений, из чего я понял что все распоряжения отданы заранее.
Пока мы сидели, отогревались, Гречко знакомил Петрова с обстановкой. Как я понял из их разговора, хотя Гречко сегодня действовал меньшими силами, но в полосе его армии наступление развертывалось несколько более удачно, чем у Москаленко. Войска вышли к Висле и, кажется, переправились через нее.
Накануне Гречко вел разведку боем. Во время этого боя была истреблена немецкая рота, взят в плен офицер, и немцы в результате подтянули на первую линию обороны больше войск, чем у них было раньше. Поэтому и артподготовка оказалась более действенной, и продвижение встретило меньше препятствий.
Говоря обо всем этом, Гречко счел нужным подчеркнуть, что он наступал небольшими силами и до сих пор нигде не вводил в бой вторых эшелонов.
Петров спросил его о потерях.
– В одной дивизии триста человек убитых и раненых, в другой – четыреста пятьдесят, – сказал Гречко.
– Да, надо было и на правом фланге провести разведку боем, – сказал Петров. – Это наша ошибка! – И еще раз повторил: – Ошибка!
Мне понравилось, что он не старался из соображений престижа скрыть в разговоре с подчиненным то, что у него как у командующего фронтом сегодня пока не все получается так, как хотелось бы, не все в течение дня делалось наилучшим образом.
Гречко дважды сдержанно упомянул о том, что у него в резерве имеется несколько дивизий. И как я понял по одной из реплик Петрова, командарм подчеркнул это сознательно. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что он, в сущности, предлагал подумать о дальнейшем развитии успеха именно в полосе его армии.
И я отметил для себя показавшуюся мне совершенно очевидной, даже на первый взгляд, разницу в характерах двух командармов. Москаленко напористый, горячий, увлекающийся… Гречко – спокойный, основательный, хозяйственный, скупой; в нем, как мне показалось, есть нечто прижимистое, не в плохом, конечно, а в чисто военном смысле.
Потом уже, ночью, прощаясь со мной, о разнице между этими двумя людьми мне сказал сам Петров.
– Гречко – хозяин, – сказал он. – Скупо тратит, осторожно действует, бережет людей. Москаленко – весь порыв, всегда торопится вперед. Но мне по душе его непосредственность, он очень непосредственный человек!
Мы сидели в домике у Гречко, когда туда зашел член Военного совета армии генерал Исаев. Мехлис познакомил нас.
В первую минуту мы с Исаевым не узнали друг друга, а потом оба вспомнили, что уже дважды встречались. Сначала в политотделе 14-й армии в Мурманске, а потом в 60-й армии под Тарнополем.
Ровно через пятнадцать минут действительно появился полный обед, с закуской и даже с дикой, как выяснилось, застреленной в этом же лесу козой.
Мехлис с абсолютно неожиданной для меня ловкостью взял бутылку водки, обил о стену сургуч и, стукнув ладонью по дну, выбил пробку.
– По вашему методу, – сказал он Петрову.
– Но с нововведением, – сказал Петров, – о стенку сургуч – это уж вы сами.
Когда на столе появился обед, Мехлис сказал, что для экспромта это великолепно.
– У Гречко экспромтов не бывает, – усмехнувшись, сказал Петров.
За обедом говорили о посторонних вещах. Кто-то из командиров принес в домик белку с перевязанной бинтом лапкой. И говорили об этой белке, о фазане, которого подстрелил командарм, о том, что к домику подходило близко сразу восемь коз, но, пока схватились их стрелять, они уже убежали.
Петров сидел в углу, и, хотя он принимал участие в общем разговоре, мне казалось, что он все время при этом думает о чем-то другом, своем. Так, наверно, и было на самом деле. Во всяком случае, сразу, как только мы кончили обедать, он соединился по телефону с начальником штаба фронта, чтобы передать в мехкорпус отмену своего приказания о рассредоточении танков. Приказал оставить их там, где стоят.
– Если здесь у вас наметится более очевидный успех, – сказал он Гречко, – может быть, будем вводить у вас.
Мы вышли из домика. По-прежнему шел дождь со снегом ветер дул еще свирепее, чем раньше. Гречко собирался проводить командующего до машины, но Петров воспрепятствовал этому.
– Нет, нет, Андрей Антонович, и так прекрасно дойдем. У вас много дел и без этого. Прошу оставаться, желаю вам всего доброго.
Мы сели в машину и, выехав из лесу, свернули на какую-то показавшуюся мне странной дорогу. Она была хорошая, ровная, с чуть заметными бортиками по сторонам. Тут же рядом с дорогой и на одном уровне с ней с одной стороны бежала колея железной дороги.
– А вы знаете, что это за дорога, по которой мы едем? – спросил Петров.
– Нет.
– Мы с вами едем по железнодорожному полотну. Тут, на этом участке, была трехпутная колея. Два пути мы использовали – рельсы посередине сняли, оставили только по краям, а между ними посыпали гравий. И получилась превосходная дорога! У Гречко другого выхода не было, и вот нашелся…
Как раз в тот момент, когда Петров договорил это, мы проехали под оставшимся от железной дороги семафором. Сидевший рядом со мной автоматчик, задрав голову, смотрел в небо, по которому ходил длинный луч прожектора. И вдруг сказал мне:
– Поглядите, какие красивые облака несутся.
И в самом деле, по темному небу в луче прожектора с удивительной быстротой проносились гонимые ветром низкие маленькие облака.
Мы заехали на несколько минут на квартиру к Петрову и выпили там по стакану чаю. Я в последний раз за день влез в «виллис» и поехал ночевать в политотдел 38-й, в Пщину. Влез, не надевая ушанки, потом уже на ходу стал надевать ее. Она была мокрая, как лягушка. Такая мокрая, что, когда я стал выжимать ее, из нее полились струйки воды. Так и поехал без шапки, пригнувшись пониже за ветровым стеклом, все-таки лучше…
Лишь через много лет после войны, собирая материал для книги «Последнее лето», половина которой отведена рассказу о том, как армия готовится к наступлению, я впервые понял масштабы подготовительной работы, которая ведется перед началом крупной операции.
О том, как готовятся наступления, мне, военному корреспонденту, никогда за всю войну писать не поручали, да по условиям военного времени и не могли поручать.
Мое дело было – вовремя попасть в армию к началу наступления и написать о нем после того, как оно начнется.
Словом, вышло так, что я ни разу не видел своими глазами (и поездка на Четвертый Украинский фронт не была в этом смысле исключением) тех предшествующих наступлению напряженнейших недель и дней, когда все фронтовые и армейские органы – и военные советы, и политотделы, и штабы, и тылы делают все от них зависящее, чтобы заложить основы успеха, создать для него объективные условия.
А между тем эти, казалось бы, сухие слова «объективные условия» заключали в себя тогда очень многое; не только сосредоточение техники, боеприпасов, продовольствия, горючего, переправочных средств, не только проигрывание будущей операции на штабных картах, учебные стрельбы, пробные переправы, тренировку пехоты для броска за огневым валом; они заключали в себе и то, что в официальных документах мы называли политико-воспитательной работой: моральную подготовку людей, которым предстоит идти в огонь.
Последние месяцы войны, когда ее конечный результат был уже ясен для каждого солдата, люди, страстно желавшие победы, в то же время с особенной силой хотели увидеть ее своими глазами, дожить до нее в огне последних боев. Им так не хотелось умирать! Понять это нетрудно, и умалчивать об этом нет нужды. А в таких условиях моральная подготовка людей к предстоящему наступлению и к готовности вновь, в который уже раз за войну, пойти на необходимые для достижения успеха жертвы была особенно нелегким, но и особенно необходимым делом.
Многое из того, о чем я сейчас упомянул, так и не попало в мое поле зрения военного корреспондента, и я не могу задним числом добавить в свои записные книжки 1945 года того, что пропустил, не успел или не сумел увидеть тогда. Но читающим их сейчас хочу с порога напомнить, что жесткая требовательность людей, управлявших ходом боя с наблюдательных в командных пунктов армии, опиралась на сознание, что в ходе подготовки к операции если не все, то, во всяком случае, большая часть объективных условий, необходимых для достижения победы, были созданы. И стало быть, теперь дело в субъективных усилиях всех тех подчиненных им генералов и офицеров, которые перед началом доложили и о своей готовности к действию, и о своей уверенности в успехе и теперь в бою обязаны поступать так, чтобы слово не расходилось с делом.
Язык войны – жесткий язык. Перечитывая сейчас записанные мною тогда на командных и наблюдательных пунктах телефонные переговоры, я не стал смягчать задним числом ни их резкости, ни их жесткой требовательности. Такое смягчение нарушило бы правду той, ни с чем другим не сравнимой по своему нервному накалу атмосферы, в которой работали военные люди в периоды активных операций на фронте.
В разгар боев, когда за каждой оплошностью, за каждой упущенной минутой в конечном итоге всегда зримо или незримо присутствует ее цена – людские потери, – начальнику вообще редко хвалят своих подчиненных. Гораздо чаще проверяют, требуют, нажимают. Одобряют – коротко, благодарят – скупо, требуют – постоянно.
А хвалят и награждают потом, когда все, что приказано было сделать, сделано, когда все это уже позади…
Глава двадцать пятая
Записная книжка за 12 марта 1945 года.
…Утром, когда я был у Петрова, разрешившего заехать к нему познакомиться с обстановкой, мне показалось, что дело начинает идти на лад.
Сам Петров не говорил об этом, но это чувствовалось и по общему настроению, и по топу его голоса, когда он разговаривал при мне по телефону и настойчиво и приподнято спрашивал о разных пунктах: взят ли этот, взят ли тот?
После короткого разговора с Петровым мы с Альпертом сели на свой «виллис» и поехали в сторону фронта. Решили сначала заехать к Москаленко, а оттуда на его правый фланг – в 101-й корпус генерала Бондарева, где, судя по телефонным разговорам Петрова, сегодня намечался успех.
На том фольварке, где десятого марта был наблюдательный пункт 38-й и было тогда полным-полно народу, сейчас сидели только два или три человека из оперативного отдела. Все начальство уехало вперед, в Павловицы, деревню, расположенную на территории, отбитой за эти два дня у немцев; там помещался теперь наблюдательный пункт 101-го корпуса.
До Павловиц мы добрались сравнительно быстро, застряв только в одной пробке. Грунт промерз недостаточно, но погода была приличная, пожалуй, градуса два мороза. В том месте, до которого мы в прошлый раз дошли с Петровым пешком и остановились, теперь через огромную железнодорожную выемку был переброшен мост, а поодаль от него по краям выемки были сделаны косые пологие съезды, и по ним настелена дублировавшая мост, спускавшаяся на дно выемки жердяная дорога. И этот мост, и эта жердяная дорога уже почти ликвидировали пробки. Павловицы были сильно разбиты артиллерийским огнем, должно быть, и нашим, и немецким. Повсюду выбитые стекла, все улицы в воронках, степы домов, как шкура леопарда, испещрены черными пятнами от осколков.
К одной из таких испещренных осколками стен были прямо снаружи пристроены, очевидно, каким-то шутником большие дубовые стенные часы с гирями. Маятник исправно качался, а время было абсолютно точное.
Проходя мимо этих стенных часов, какой-то боец полез в карман, вынул свои часы и сверил их.
Посредине деревни наш «виллис» затерло в пробке. Мы оставили его и пошли пешком на южную окраину Павловиц. Там, сразу за окраиной, размещался штаб корпуса. Дом был грязный и полуразбитый снарядами, и в одном из его флигелей в уцелевшей небольшой угловой комнате был командный пункт Бондарева.
Самого Бондарева не было, но в комнате сидели его начальник артиллерии, Москаленко, Епишев, командующий артиллерией фронта генерал-лейтенант Кариофили и приехавший сюда, очевидно прямиком из штаба фронта, раньше нас Петров. – Ну и какие же там у немцев блиндажи? – спрашивал кого-то по телефону Москаленко в тот момент, когда я вошел. – Ах, вон как, даже с коврами? А немцев убитых много?
В это время Петров, продолжая начатый разговор, говорил Епишеву:
– Уверяю вас, что наши радисты и наши телефонисты порой лучше понимают серьезность обстановки, чем иные штабные офицеры. Во всяком случае, если не понимают, то чувствуют се иногда безошибочно.
По настроению всех сидевших в комнате мне показалось, что дело продолжает идти на лад.
Москаленко снова и снова брал трубку, разговаривал с командирами корпусов и дивизий.
– Здравствуйте! Что же это вы ночью хорошо действовали, а днем погано? Почему? Дневного света боитесь?
– Надо огнем ломать сопротивление, а не кровью.
– А вы откуда со мной говорите? Из лесу? Все из того же? Очень плохо. Я считал, что уже вчера вас оттуда выгнал, а сегодня приходится еще раз выгонять. Немедленно вперед, в Гурны!
– Дайте побольше огня по дорогам, ведущим к немцам из Ратиборы! Немцы оттуда тащат войска!
– Вот сегодня, по крайней мере по стрельбе, бой чувствуется, – положив трубку, говорит Москаленко, обращаясь к окружающим. – А то вчера артподготовка кончилась – и сразу настала гробовая тишина.
Ему звонят, и он снова берется за трубку, говорит со своим начальником штаба.
– А откуда движутся немецкие танки? Так. А где они утром были? Так. Ну, если они сейчас еще там, то будут здесь перед нами, не раньше, чем завтра утром. Нацеливайте на них и сегодня и завтра с утра авиацию, чтобы по возможности разбомбили их на подходе.
Очевидно, промежуточный телефонист, не успев соединиться с Москаленко, говорит про него кому-то, что он куда-то пропал.
– Я не пропал! – весело кричит по телефону Москаленко. – И никуда не пропаду, пока война не кончится!
– Плохо воюете! Плохо воюете! Скажите своему Первому, что он последние дни командует вашим хозяйством, если будет так, как сегодня, распускать слюни. Уговаривает там, понимаете, своих командиров бригад, – недовольно отрывается Москаленко от телефона, – вместо того, чтобы им приказать! Я вот возьму да передам сейчас его 103-ю бригаду Бондареву!
По другому телефону разговаривает полковник – командующий артиллерией корпуса, совершенно охрипший за эти дни и вдобавок немножко шепелявящий оттого, что у него нет нескольких передних зубов.
– Я думаю, что сегодня пройдем еще не особенно далеко, – говорит Петров. – Так я думаю. Вот здесь они попробуют задержаться, на этом рубеже. Сегодня надо напирать здесь, где уже пошли, развивать успех. А назавтра все равно придется готовить удар еще и в другом месте.
Москаленко говорит по телефону, должно быть, со своим командующим артиллерией.
– То есть как это у вас залпов нет? А вы скажите вашим эрэсовцам, что мы здесь присутствуем – и я, и командующий фронтом, – у них сразу найдутся и залпы и все!
Как только он положил трубку, возникает разговор о возможности использования эрэсов для стрельбы прямой наводкой.
– Ну и что ж, – говорит Москаленко, – какие у нас основания больше цацкаться с ними, чем с другими видами вооружения? Их тоже нужно при случае на прямую наводку использовать. Особенно при артподготовке – скрытно подвезти дивизион, скрытно его поставить и ударить с короткой дистанции. Впечатление страшное!
Кто-то замечает, что эрэсами можно бить даже с меньшего расстояния, чем километр.
– С меньшего нет! Для этого у них слишком большое рассеивание.
– Это хорошо, что они там уразумели, что надо не пузом брать, а огнем, – говорит Петров, выслушав доклад только что пешком добравшегося с передовой офицера связи, и, назвав его по фамилии, спрашивает: – Ну как, за эти дни много сапог стоптало?
– Порядочно.
– А новых командующий армией не дает?
– Пока не дает.
– Ладно, приходите ко мне, – улыбаясь, говорит Петров.
Москаленко приказывает командиру находящейся на марше артиллерийской бригады поскорее двигаться, чтобы не задержать идущих вслед танков.
– Если догонят, пропустите.
– Меня радует, – говорит Петров, – что за эти дни обозники стали подисциплинированнее. Их накачали перед боями, и они теперь сами без криков и напоминаний сворачивают с дороги.
– Танков боятся, – усмехается Москаленко. – Боятся, что раздавят и не заметят!
Заходит речь о том, чтобы очистить огнем какую-то рощу, в которой зацепились немцы. Епишев предлагает поставить на эту прочистку незанятую сейчас легкую зенитную артиллерию.
Москаленко соглашается и дает соответствующее приказание.
– Послушайте, Соколов, – говорит Епишев совсем потерявшему голос начальнику артиллерии корпуса, – если вы нам сегодня обеспечите на дорогах свободный проход танкистам, то я вам завтра же пришлю протезиста, чтобы срочно зубы отремонтировал.
– А я уже думал об этом, – говорит Соколов, – да боюсь, как бы мне после этого ремонта на целую неделю из строя не выбыть, пока привыкну.
– Да, – соглашается Епишев. – А все-таки как-никак после окончания операции придется. Вас, как я слышал, скоро с генералом будем поздравлять, надо, чтоб до этого с зубами порядок был, а то еще наклепают злые языки, скажут: узнали, что беззубый, и дали ему генерала по старости лет!
Москаленко доносят, что командир 42-й тяжелой танковой бригады ранен в ногу, причем тяжело.
– Храбрый был командир, – говорит Москаленко. И начинает звонить танкистам, начальнику штаба этой бригады. – Здравствуйте, Фарберов! Покажете себя хорошим командиром останетесь на бригаде после операции. Только ведите себя, Фарберов, осторожнее, чем предыдущий командир. Переживаю за него! Пошлите начальника политотдела, чтобы узнал, куда его эвакуировали, и доложите. Мне сообщили, что у вас там пробка возникла. Почему? Подорвавшийся танк поперек дороги стал? Так сбросьте его с дороги, этот подорвавшийся танк! А не можете, так взорвите его толом на куски и растащите. Время дороже! – И, уже положив трубку, добавляет: – Ну, подорвется на минах несколько танков, в конце концов оправдано, если этой ценой двести других протолкнем вперед. Скоро сумерки наступят, нам надо как можно скорее вырваться к Ястшембе. Тут дерзновение нужно и еще раз дерзновение!
Телефонистки на линии называют наблюдательные пункты «глазами». Про командиров, находящихся на наблюдательном, говорят, что «он на глазах». Шифр, кажется, первоначально родившийся без участия начальства, по собственной инициативе связистов.
Москаленко снова на телефоне.
– Терроризируйте его огнем в глубину и, самое главное, встречайте огнем его резервы на дорогах. Когда резервы противника получают хорошую пару снарядов под ноги еще на подходе, это сильнее их деморализует, чем когда они уже дойдут до передовой и только после этого начнешь их обстреливать.
Откуда-то с передовой передают донесение Бондарева, что взята Кындра.
– Кындра взята? – переспрашивает Москаленко и, счастливо улыбнувшись, даже незаметно для себя слегка подмигивает.
Петров уезжает. Перед его отъездом происходит небольшая, но характерная, с психологической точки зрения, сценка. Является подполковник, начальник штаба бригады, которая сегодня вводилась в бой в составе бондаревского корпуса. Судя по последнему разговору, за командиром этой бригады числятся какие-то грехи, и вообще она на дурном счету.
– По сути, в бою еще не были, – говорит Петров, выслушав доклад подполковника.
– Никак нет, – отвечает тот, – но сто двадцать человек потерь уже имеем.
– Вот, – обращаясь к нему, говорит Москаленко, – в бригаде у вас безобразие, действуете до сих пор плохо, никуда не годно! О командире вашем имею сведения самого скверного свойства, он виноват, но и вы, наверное, тоже. Яблочко недалеко от яблоньки… Идите теперь в бой и деритесь как следует – это вам проверка! Если не выполните задачи дня, поставлю о вас вопрос перед командующим фронтом, и ваш командир бригады, так и передайте ему, пойдет командовать батальоном, а вы пойдете к нему начальником штаба.
– Разрешите идти? – спрашивает начальник штаба бригады.
Но Петров его задерживает, видимо считая, что человеку, так или иначе идущему прямо сейчас в бой, нужно сказать непосредственно перед этим какие-то другие слова. В то же время Петрову не хочется, чтобы сказанное им выглядело поправкой к тому, что перед этим сказал Москаленко.
– Вы слышали, что вам сказал командующий армией! – говорит Петров. – Так вот, все, что у вас было до этого, все, что было плохо, все это сметется и забудется, если начнете хорошо действовать. Поймите, что ваши хорошие действия все это зачеркнут, так и передайте вашему командиру бригады. Желаю вам успеха.
Он подает начальнику штаба бригады руку, и тот выходит.
Через несколько минут Петров уезжает.
За всеми этими разговорами, связанными с непосредственными донесениями с поля боя, я все время чувствую у Москаленко стремление как можно скорее ввести в бой танкистов. Корпус уже третий день стоит на дорогах в полосе армии, забивая их, и пока что не только не помогает пехоте, а сильно мешает ей. В особенности тем, что в ряде случаев не дает возможности своевременно продвинуть вслед за пехотой артиллерию.
Мне кажется, сегодня, так же как и третьего дня, у командующего фронтом и командарма нет единого мнения о сроках использования мехкорпуса. По некоторым репликам Москаленко мне показалось, что он считал нужным двинуть этот мехкорпус сегодня еще с самого рассвета. А Петров, видимо, все еще берег его, хотя недавно приказал двинуть его по дорогам вперед и даже поставил перед танкистами частную задачу – запять вместе с пехотой несколько населенных пунктов, но, насколько я понимаю, решительного приказа о том, чтобы танкисты шли на прорыв, он все еще не дал.
Как мне представляется, сейчас вопрос сводится к выбору одного из двух решений: или с помощью мехкорпуса прорвать фронт там, где пехота его еще недопрорвала, или продолжать ждать, когда пехота окончательно прорвет фронт, и только тогда вводить мехкорпус в прорыв.
Кстати, за эти дни я уже несколько раз думал о психологии тех пехотных начальников, которых начинает раздражать долгое стояние танкистов в неподвижности за спиной у пехоты. В самом деле, наверное, психологически трудно наблюдать, как десятки стальных коробок стоят и ждут за спиной, боясь подорваться на минах или попасть под огонь артиллерии, в то время как не защищенные броней люди, пехотинцы, идут вперед сквозь эти мины и сквозь этот артиллерийский огонь. Наверно, если не входить в общий замысел операции, это просто по-человечески может казаться обидным. И пожалуй, нет ничего удивительного, что некоторые наши пехотные офицеры сгоряча выпаливают эту обиду, порой не желая сообразоваться ни с общими обстоятельствами, ни с дальнейшими задачами.
И все-таки, как ни трудно, со скрипом повертывается машина войны, за те два с половиной часа, что я провожу здесь, на КП, как будто начинает складываться ощущение назревающего успеха.
– Спасибо за гостеприимство, – поднимаясь со стула, говорит Москаленко. – В бою гостеприимство – это не стопка водки и не стакан чаю, а доклады о хороших действиях!
Но после этого прощания он все-таки остается еще здесь, в корпусе. Снова берет трубку и говорит по телефону:
– Это хорошо, что лес занят! Противник, естественно, бежит, раз теперь ваша пехота у него в тылу оказалась.
Я решаю проехать к Бондареву, который находится сейчас где-то в одной из своих дивизий. Но как раз в это время Москаленко раз за разом звонит, разыскивая его, и никак не может найти ни в одной из дивизий. Очевидно, тот или добирается сейчас из одной в другую, или находится на обратном пути сюда.
Тогда я решаю пройти к находящемуся где-то неподалеку отсюда, в этой же деревне, командиру мехкорпуса генералу Д. Меня интересует вопрос, тот ли это самый Д., с которым я когда-то несколько раз встречался на Халхин-Голе. Там он командовал мотострелковой бригадой и, насколько я помню, по тем временам отличался спокойствием и смелостью. В общем, как говорится, был на хорошем счету.
Мы с Альпертом вошли в дом, где расположились танкисты, через большие сени, полные людей. За сенями шел коридор, а в конце его была маленькая комната. Я вошел со света, и она мне показалась совсем темной. Окна с выбитыми стеклами были заколочены для тепла досками и заткнуты тряпками. Освещение составляли огарок свечи на столе да работавшая от аккумулятора крохотная лампочка под самым потолком.
Войдя, я сразу узнал Д. Это был именно тот, халхин-гольский Д. Он был одет в огромный американский рыжий комбинезон с меховым воротником и с «молниями» и своим горбоносым поджарым ястребиным лицом больше напоминал какого-нибудь золотоискателя или полярного исследователя, чем генерала. Рядом с ним сидел начальник политотдела, полковник, одетый в доходившие ему до половины груди меховые штаны. Под штанами была форменная гимнастерка, но штаны поверх погон были прихвачены подтяжками. Словом, налицо было то самое пресловутое нарушение формы одежды, которым при всяких обстоятельствах – и требующих этого, и не требующих – любят щегольнуть многие танкисты.
Тут же был и полковник, заместитель командующего бронетанковыми войсками фронта, которого я только что видел у Москаленко.
Не уверен, узнал ли Д. меня, но сделал вид, что узнал, и, пожав мне руку, сказал:
– Да, постарели вы, здорово постарели…
После традиционного возгласа – не то Миша, не то Гриша, принеси закусить! – мы с Д. начали вспоминать Халхин-Гол и халхингольцев. Он перечислил писателей, которые бывали у него там в бригаде, и стал спрашивать, что с кем.
Я ответил, что и Ставский, и Лапин, и Хацревин, и Розенфельд, все, кроме меня и Славина, убиты в эту войну.