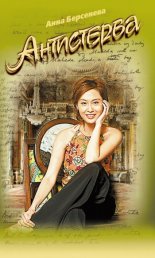Орфография Быков Дмитрий
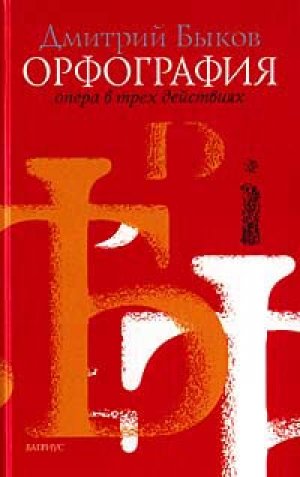
Это был металлический люк, вроде канализационного. Ять выполз наружу и оглянулся. Ход вывел его на Выборгскую сторону, к дерюгинскому сталелитейному заводу. Рядом поскрипывали распахнутые ворота, краснела фабричная труба с выложенными белым кирпичом цифрами 1912. Небо утратило лиловый оттенок и было теперь ровно-серым, низким и неподвижным. Ять не знал, долго ли он просидел на мостовой. Покрапал мелкий дождь. Надо было куда-то идти. Ять встал и, пошатываясь, толкнул люк на место. Потом неуверенно побрел прочь от островов, дальше и дальше. Вечером этого дня он кое-как дошел до лавки Клингенмайера, но не помнил ни того, где бродил весь день, ни того, как упал на пороге. Тиф часто начинается с беспамятства.
А Корабельников, как выяснилось, старался зря. Он сочинял всю ночь, с отвращением прислушиваясь к декламациям и песням, доносившимся с моста, под утро закончил цикл из двенадцати плакатов, прославляющих свободное правописание, и рухнул на свою жесткую, безупречно белую койку. Проснулся под вечер, по-прежнему один. Прошелся на всякий случай по этажам: пусто. Вот и сбылось предсказание Краминова: ты — последний. И впрямь последний. Все ушли, и никто не вернулся. Разумеется, все они теперь в Елагином дворце. И Чарнолуский, ренегат, тоже небось с ними. Тот, кто не любит революционного искусства, не любит и самой революции. О, конечно, теперь большевики быстро столкуются со старорежимной профессурой. Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом. Споются. Повоевали, и хватит. Такие, как он, никому не нужны, потому что никто не заинтересован в честном строительстве. Для честного строительства надо работать, а теперь не время работников. Теперь время прихлебателей. Сидят там, издеваются над ним. Наверняка. Ну ничего. В Петрограде больше делать нечего. Пора в Москву. Вот только отдать плакаты… Пойду сейчас в Смольный и скажу этому интеллигенту все, что думаю. И швырну ему в рожу последний заказ. Пусть попробует говорить со мной в этом прежнем тоне. Кретин, ничтожество. Сочинитель декадентских пьесёнок. Трибун в пенснэ-э. И — немедленно в Москву… а он пусть тут устраивает заповедник имени дяди Вани!
Собрался, вышел. На мосту — красная лужа: дрались, что ли, до крови? Принюхался: рвота. Упились до блева! Корабельников ненавидел пьянство. Он широко шагал по Елагину, мельком оглянулся на дворец: тихо, вокруг никого… Перепились, спят. Не хочу видеть ни те, ни эти рожи. На Зелениной навстречу — газетчик. Купить напоследок. Развернул под редким дождем. Выцепил глазом колонку в рамке на третьей странице. «Комиссия по орфографической реформе». Тряхнул головой, вчитываясь, пытаясь усвоить. Перечитал. Сплюнул.
Вместо вольной орфографии, о которой он всю ночь писал и которую считал главным завоеванием революции, вводился новый набор правил, куда более решительно ограничивающих свободу, чем царская орфография. Окончательный свод этих правил предполагалось выработать к сентябрю. Разумеется, новое закрепощение начиналось по просьбам сознательных, грамотных рабочих, которым, видите ли, неудобно читать статьи и листовки, написанные кое-как. Дело было, конечно, не в орфографии. Он давно чувствовал, что свобода кончится. Свобода нужна ему одному, художнику. Ради нее он готов есть пшенную кашу на зеленом машинном масле, пить морковный чай и спать на чурбаке. Но рабочий класс не для того все это затевал, чтобы спать на чурбаке. Тьфу. Да мне-то черта ли во всем этом? У меня, если хотите знать, вообще врожденная грамотность.
Он ввинтил папиросу в угол рта, вытащил листки с плакатными текстами, поджег и прикурил от них.
23 октября 1918 года реформа орфографии была проведена в жизнь, по типографиям проехались красные матросы, лично изымая еры и яти, фиты и ижицы, чтобы исключить возможность контрреволюционного написания. С ерами переусердствовали: там, где полагался твердый знак, некоторое время ставили апостроф. Традиция эта дожила до наших дней.
Только с октября Корабельников снова смог писать — период его временных расхождений с властью закончился, он смирил и взнуздал себя, потому что противники советской власти, как всегда, были еще хуже. Между двумя враждебными, давно уравнявшимися неправдами — тупой простотой большинства и гнилостным вырождением меньшинства — всякий выбор был ложен, ибо наступало время куда более страшных оппозиций; но то ли узкий ум Корабельникова отказывался их видеть, то ли больная душа отказывалась вмещать. Все его оппоненты не без помощи государства перестали существовать или перекочевали в загробное зарубежье. Воевать стало не с кем, и он ушел их догонять — в надежде доспорить. Хочешь не хочешь, а любой житель Крестовской коммуны рано или поздно вступает на Крестовский мост.
О дальнейшей судьбе Барцева и Ашхарумовой известно вот что. Проснувшись на рассвете, сером и скучном, как всякий рассвет после праздника, они бесцельно слонялись по квартире Соломина, сданной им на месяц, и оба чувствовали странную перемену: словно самый воздух за окном стал другим. Время переломилось, и в этом новом времени оба они чувствовали себя как рыбы, вытащенные из воды. Можно было научиться ползать по суше, но на это требовались годы. Ашхарумова сказала, что зайдет к подруге — надо вернуть ей серьги, одолженные на свадебный вечер; Барцев на всякий случай спросил адрес подруги и уселся сочинять. В шесть вечера Ашхарумовой все еще не было, он забеспокоился, отправился к подруге — и узнал, что Маша ушла пять минут назад; странно, что они разминулись. Впрочем, сказала подруга, она собиралась еще зайти к матери… Адреса матери Барцев не знал и вернулся домой, но по дороге его задержал патруль — выпустили только утром, дав здоровенного пинка; на соломинской квартире Маши не было, а была отчаянная испуганная записка — «Пашка, где ты?! Иду искать». Он узнал, что она искала его у Зайки и Льговского и собиралась даже на Елагин; Барцев кинулся на Елагин — пусто, дворец забили… да и в самом деле, не исчерпана ли была вся эта история с дворцами? На следующее утро был обнародован приказ о национализации Елагина дворца, а прилукинская дача сгорела неделю спустя, и поджигателя не нашли.
Барцев искал ее у всех друзей, но оказывалось, что она вышла полчаса назад; засел в засаду на соломинской квартире — но она не появилась; раздобыл у Зашей адрес ашхарумовской матушки — и там узнал, что матушка переехала к сыну, а соседи его адреса не знали. На Барцева страшно было смотреть. Марьи нигде не было и следа — они разминулись в городе и словно существовали с этого часа в разных измерениях.
В начале девятнадцатого его мобилизовали — поймали случайно, когда он навещал отца; вернувшись в двадцать первом, он узнал, что Марья буквально вчера уехала за границу. Зайка рассказала ему, что Марья в Берлине, и он с группой советских поэтов оказался там в двадцать четвертом году, через Вогау, мигом перезнакомившегося со всей эмиграцией, разыскал ее адрес в каком-то пансионе — но за день до того, как он ворвался туда, она уехала в Париж с каким-то историком Зуевым, черт его знает, откуда тут взялся историк Зуев… Кое-как умолив Чичерина, он на следующий год ринулся в Париж — но оттуда, как передали верные люди, она уже переехала в Мексику. Сам изумляясь, он попал и в Мексику — интерес к его стране был огромен, приглашали наперебой; в Мексике он встретил почерневшего, исхудавшего Корабельникова, уже не способного обрадоваться ни кактусам, ни пустыням, — и долго они смеялись, что двум русским мир тесен, никак не разминешься. О Марье Корабельников, слава Богу, не спросил — следы ее, как сообщили в консульстве, терялись в Америке.
А три года спустя он узнал, что она вернулась на Родину с мужем, американским коммунистом, и вместе с ним почти сразу была арестована; и Барцев попал в ту же лубянскую тюрьму, в которую и ее посадили, — но через полгода после того, как ее услали на этап. По лагерям шел о ней слух — она и в тридцать семь была красавицей; брались даже переправить ей письмо, и какое отчаянное письмо он написал ей! — но, конечно, в ответ не было ни слуху ни духу. Перед самой войной его выпустили, и в июне сорокового он узнал в Москве, что и она будто бы амнистирована, только без права жительства в десяти крупнейших городах; ее видели в Казани, он бросился в Казань — но она только что переехала в Самару, он в Самару — она в Вологду… а тут и война. Все это время альмекская флейта лежала в его коммунальной квартире — комнату после ареста отдали соседке, но вещи она сохранила. Уходя на войну, он взял мундштук с собой.
Его снова призвали — в редакцию армейской газеты; там он был быстро замечен и переведен в «Красную звезду». Следы Ашхарумовой затерялись в Германии — она пошла на фронт санитаркой, как же без нее, и оказалась в плену. После плена у нее хватило здравомыслия остаться в Англии, благо освободили ее англичане, — и скоро Барцев увидел ее портрет в американской газете: она издала книгу рассказов, в том числе и о революционном Петрограде. Вскоре он добился в спецхране и самой книги. Он узнал себя — она помнила; написал в «Random House» — но литературный агент сообщил, что она уже в Париже.
В Париж его выпустили. — Он прозябал на редакторской должности в «Иностранной литературе», опубликовал крошечную статейку — воспоминания о полусумасшедших друзьях-поэтах, — но желания писать у него не было, да и чего стоили его писания? Тем не менее группу переводчиков и редакторов отвезли в Париж; через друзей он нашел адрес, дрожащей рукой нажал кнопку звонка — уже зная, впрочем, что будет… И было: открыла компаньонка, сообщила, что вот только сейчас Мари отправилась на переговоры… вы должны подождать, она вернется! Он прождал восемь невыносимых часов и вышел в четыре утра, поняв, что с этим ничего не сделаешь. Он не знал, как это называлось.
Барцев оставил ей, конечно, письмо — не рассчитывая на ответ, ничего не ожидая, просто чтобы потом не корить себя. Из газет он узнал, что она попала под машину — отделалась, конечно, ушибами, но несколько дней провела в больнице. Газету он прочитал уже в СССР. И главное, на письмо она ответила — со всей нежностью и тоской, не смягченными временем; он узнал бы в этом письме ее голос — она всегда говорила так, словно прощалась с ним навсегда и заранее жалела. Милый, милый мой, ничего, ничего не поделаешь… Но Барцев переехал, и ответ затерялся. Письмо могло бы его догнать, но у почтальонши был маленький сын, собиравший иностранные марки; ничего, напишут еще. Барцев женился на сорокалетней вдове, просиживавшей стул в крошечном издательском кабинете напротив него; пять лет они вместе выходили курить — на лестнице, у подоконника с майонезной банкой, набитой окурками, он и сделал ей предложение. У нее был десятилетний сын, которого Барцев воспитал как своего. «Отвечает ирокез: я желал бы наотрез!» — скандировал мальчик, играя во дворе. Детям нравилось. Ему и досталась после барцевской смерти альмекская флейта — точнее, ее мундштук. Он лежит теперь на чердаке барцевской дачи, среди ненужных вещей, во втором мешке справа от входа: Кратово, улица Ворошилова, дом 17.
Ашхарумова, выпустив книгу воспоминаний «Подстрочные примечания» («The References»), вернулась в Штаты, преподавала, переводила и ненадолго приехала в Россию восьмидесятисемилетней старухой. Она не нашла о Барцеве никаких сведений, да и трудно было в ее возрасте что-то искать… Разумеется, она все еще прекрасно выглядела, и провела несколько встреч с читателями, и раздавала интервью — но спрашивали ее в основном о Казарине. Больше всего расспрашивали о его таинственных последних днях — но, увы, о них-то она ничего и не знала. Она умерла в начале девяностых, а альмекская флейта пропала еще в двадцатых. К сведению интересующихся, она и теперь лежит среди всякого хлама в мексиканском историческом музее древностей, куда ее сдал в надежде на вознаграждение слуга-мексиканец, убиравший гостиничный номер после поспешного бегства Ашхарумовой в Америку. Вознаграждения, конечно, никакого не дали. Таких непонятных экспонатов было в музее пруд пруди, и ее отправили в запасники. Так; что если кому-го еще хочется спасти этот не особенно удачный мир — привожу адрес музея: Мехико, улица Лоуренсио Дебальо, 23, со двора. Она лежит в комнате номер семь, в третьей витрине сверху, под инвентарным номером 1439052, между пуговицей видного борца за независимость Эстебано Камильо и пробитым цилиндром журналиста и авантюриста Хорхе Мариньехо. Так всегда и бывает после великого сдвига, когда уже нельзя быть вместе, милый, милый мой, ничего не поделаешь. Он за ней коршуном — она от него рыбой, он за ней рыбаком — она от него кобылицей, он за ней всадником — она от него облаком, он за ней ветром — она от него дождем.
Зачем буквы? Зачем вообще писать? Я прозревшая буква, постигшая наконец свою подлую роль — прикрывать вопль, обозначать звук удара, подло маскировать хруст костей; я буква, проклявшая азбуку, весь ее подлый порядок, прозванный алфавитным, раз и навсегда отведший место каждой из нас. И на пятый день его бред принял форму прощания с буквами: оно длилось три дня. Клингенмайер готовил отвар, слушал его бред и молчал: он никогда еще не слышал такого странного монолога и не чаял, что Ять выкарабкается.
Прощай, аз, я никогда не любил тебя. Я никогда не любил тебя уже за то, что с тебя все начинается: ааааа! — вот первый звук, с которым мы приходим сюда, крик боли, крик протеста, которому все равно никто не поверит. Акушерка от души радуется младенческому воплю, ибо этот вопль есть признак жизни; но этот же крик, обезумев от страха, издает падающий с крыши, со скалы — крик последнего напоминания «Аз есмь», но кому же какое дело. Был аз и нет — сюжет, к которому сводятся все прочие. И еще ты не нравился мне потому, что я слышал в тебе нечто ползучее, змеиное, что-то с раздвоенным жалом, с затаенной, звенящей злобой в полузакрытых изумрудных глазах: аззз… Прощай, аз, я не любил тебя, ибо все, начинающееся тобой, обмануло меня. Я не любил вас, буки и веди, неразлучная пара — Бог весть, отчего я вас объединил, но оба вы казались мне персонажами страшной, языческой русской сказки. Буки и веди, черный и белый охранники гурзуфской управы, Драйберг и Камышин, вечные русские двое из ларца: буки пугают, показывают буку, веди ухмыляются, словно ведая нечто сверхважное. Признайтесь, веди, вы ничего не знаете; признайтесь, буки, вы ничего не можете. Прощайте, буки и веди, прощайте, вехи и веды, веды, вини, вици… В «Вене» две девицы. Кто это написал? Измайлов, кажется. Прощай и ты, Измайлов.
Глаголь, глаголь — о, как я не любил тебя! Виселица, длинношеий гусь, мрачная, длинная, прямая фигура, половина распятия, указующий перст — указующий на что? — на смерть, естественно: иди туда! Но зачем ты стараешься: я и так туда иду, и какое счастье, что я там тебя не увижу… За одного только Грэма я простил бы тебя — за мечтателя Грэма, такого же длинного и узкого, как ты.
Добро; дошла очередь и до добра. Есть ли на свете что-нибудь, от чего я вытерпел больше? Ненавижу тебя, самозваное наглое добро, ненавижу тебя, самодовольство, воплощенное высокомерие, общественное служение, публичную благотворительность! А, вот и ваша очередь, живете и мыслете, — вам только кажется, что вы живете и мыслите; и как же вы ошибаетесь, бедные мои! Бежать из этого алфавита. Я не любил в нем даже своих, ненужных: ни фиту, ни ижицу. Мне никогда не нравились свои, но беда в том, что еще меньше нравились чужие. Мне не нравилась сознательная, гордая и вызывающая обреченность этих и гордая, наглая победительность тех. А в общем, я не любил буквы. Я любил чистые листы. Что делать, я вытеснен из этой азбуки. Вы-то все останетесь, но с вами случится худшее. Вам никто не будет верить, вас никто не будет принимать всерьез, и все, что будет написано вами, не будет уже иметь никакого смысла. И потому, в конце концов, мне еще повезло: я ухожу, не успев обесцениться. Из жизни исчезает то, что не образует звука. Я так живо, так ясно слышу обозначаемый мною пронзительный звук, звук альмекской флейты! Но больше его не услышит никто и никогда.
Иногда он принимался бунтовать. Да, убили, убили всех, — но чем виноват я? Неужели мне следовало разделить с ними смерть, как нехотя и напрасно я делил с ними жизнь? Ведь я не чувствую ни малейшего родства с ними, я не разделяю их взглядов, я чувствую мир тысячекратно тоньше, чем они, — кто гнал меня умирать, почему я должен непременно подтвердить свое право на жизнь своей смертью? Почему здесь правы только мертвые? Почему любой живой тут — предатель? Но тут к нему пришла Таня.
Он не удивился. В этом алфавите должна была найтись буква Таня. Если есть буква Ять — должна быть и буква Таня, как же без нее. Она вошла из дождливого июньского дня, вся в жемчуге дождя, в жемчужно-сером плаще, присела к нему на кровать, положила на лоб холодную руку и заплакала, но заплакала легко.
— Вот и живой, вот и слава тебе, Господи, — приговаривала она сквозь слезы и смотрела на его ввалившиеся щеки, отросшие усы и бритую голову.
— Как ты… откуда ты? — еле выговорил он.
— Я всегда, где ты; видишь, я и сейчас с тобой. Ты хотел сбежать, да я догнала.
— Ох, Таня, не будем сейчас спорить, кто сбежал… В дверь просунулась голова Клингенмайера:
— Ять, что вы стонете? Воды?
— Нет, нет, у меня сейчас Таня..
— Да уж я знаю, — хитро ответил Клингенмайер и втянулся за дверь. Вероятно, он тоже привиделся.
— Ять, Ять, — улыбаясь сквозь слезы, повторяла она — Этот Фридрих Иванович дивный, дивный… Если бы не он, я никогда не нашла бы тебя. И, конечно, Грэм. Зря ты не послушался его.
— Когда? Ах, да… Ты знаешь, Таня, ведь всех убили. Всех, всех!
— Не говори глупостей, несчастный. Как это может быть, чтобы убили всех? Никого не убили, все спокойно разошлись по домам, а ты заболел…
— Ах, не надо, я знаю, ты утешаешь меня. То есть какое — ты ведь теперь в Париже, и я сам утешаю себя…
— Какой Париж? Конечно, я не поехала с Зуевым. Неужели ты мог усомниться в этом? Маринелли все устроил, я уехала в Симферополь, но тебя уже нигде не было… Я только что вернулась и сразу нашла тебя. Разве нам можно друг без друга? Мы всегда вместе…
— Нет, нет, не надо… Я уже снова привык без тебя. И я знаю, что так честнее. Быть с тобой — значит быть с жизнью, а мне нельзя теперь быть с жизнью… Один раз я уже выбрал ее — и хуже этого предательства не могу вообразить. Проклятая кровь… а впрочем, и не в крови дело. Я нарочно переваливаю на предков, а ведь трусость была моя и подлость — моя… Но если ты пришла, значит, действительно конец, и, странно, я не боюсь. Все потому, что жар. Когда жар — не страшно. Если бы у меня всегда был жар!
— Ять, Ять! Ты все придумал, глупый, тебе привиделось, ты поправишься, и мы вместе пойдем на Елагин…
— Никогда, о, никогда. Я никогда больше не пойду на Елагин. Разве что после смерти слетаю туда ненадолго, для последнего прощания, — чтобы еще раз проклясть спасшую меня деревянную будку.
— Ты бредишь, я ничего не понимаю! — Она смотрела жалобно и растерянно. — Почему ты гонишь меня, Ять? Разве со мной тебе не было хорошо, так хорошо, как и должно быть всем в мире? Ведь и Бог сказал, что это хорошо! Разве со мной ты не благословлял мир и Бога?
— Благословлял, Таня, — с трудом выговорил Ять. — Но в том-то и ужас, что, благословляя Бога, я был дальше от него, чем когда-либо. Сын разошелся с отцом, Таня, сын никогда не найдет отца…
— Ты бредишь, — повторила она. — Но ты выздоровеешь, выздоровеешь… И мы увидимся, Ять, клянусь тебе, я еще приду…
— Не надо, Таня. Ты жизнь, а любить жизнь — последнее дело. Прощай, Таня.
Он не помнил, как она вышла, и на несколько часов провалился в забытье; когда очнулся, была уже ночь, и Клингенмайер отпаивал его кислым мексиканским чаем.
— Кризис как будто миновал, — говорил он важно, — и теперь я уж не сомневаюсь — вы по эту сторону.
— То-то и жаль. Скажите, приходила она?
— Даже если она за вами и приходила, — по-своему понял его Клингенмайер, — то на этот раз ушла без добычи. Как говорится, жизнь опять победила смерть неизвестным науке способом! Впрочем, наши травы и соли тоже кое-чего стоят, и этот волшебный чай… Пейте волшебный чай! Он так и не узнал никогда, приходила она или нет.
И тем не менее, словно действительно сама жизнь пришла к нему, чтобы против его воли вытащить с того света, — с июля он начал поправляться. Ять понимал теперь, что такое настоящее истощение и подлинная потеря рассудка. Он смутно помнил последний месяц перед тем, как слечь, — только чернело огромное пятно в памяти, и он сам предпочитал до поры не трогать его. Милосердный Клингенмайер упорно прерывал любые разговоры на эту тему: не знаю, помилуйте, о чем вы? Ять читал газеты — и не находил в них ничего; да и газеты были такие, что читать их он почти не мог. «Путь» закрыли, «Речь» не возобновляли, «Знамя труда» уничтожили после таинственных событий в Кронштадте, о которых он знал мало — да и никто не знал достоверно. Собственно, он и не жил в то холодное лето. Жило его тело, словно радовавшееся тому, что разум спит. Оно могло теперь вдоволь наслаждаться скупым теплом, лиственным шумом, чахлой зеленью, каждым куском черного хлеба с вкраплениями жмыха, — и если прежде солнце, еда, запах мокрой пыли будили его мысль и питали ее, то теперь, напротив, все поспешно восстанавливаемые силы уходили только на то, чтобы не помнить, не думать, замкнуть слух.
Теперь он вглядывался в дома, в узор ветвей, трещины коры, в блеклые городские левкои, в медленно разрушающуюся Петроградскую сторону, в ржавые трамваи, так и стоявшие без движения в своих тупиках; люди редко занимали его. Он ходил по городу, как тень, и чувствовал себя почти незаметным. И на него в самом деле никто не смотрел, а кто замечал — принимал за солдата. Едва отросшие волосы, обвисшие усы, черное пальто, явно слишком широкое для него, словно только что по возвращении с фронта купленное на Сенном, а то и снятое с позднего прохожего, — так; выглядели многие в Петрограде восемнадцатого года; и его не трогали потому, что все самое главное с ним было уже сделано. Так он чувствовал. Что-то, составлявшее собственно Ятя, что-то, отличавшее его от прочих и делавшее повсюду изгоем, во время болезни умерло. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно. Эти строчки он помнил, но о чем там речь — толком не понимал.
Дело было еще и в том, что он давно не писал, а сознавал себя, только когда исчезал мир вокруг и оставалось лишь его сознание, ничем не стесненное, хранящее в себе память обо всем, что было и будет; а быть может, это и не было его умом, ограниченным и робким, а неким вселенским разумом, приобщение к которому всякий раз наполняло его силой и счастьем. Но теперь писать было незачем, — а в самой темной глубине рассудка жила уверенность в том, что писать ему теперь почему-то нельзя, он лишился этого права и должен его заслужить заново.
Как все люди ограниченного ума, он сделался в эти летние месяцы необыкновенно хитер; эта хитрость подсказала ему, что надо пойти в свой прежний дом и попытаться устроиться на жительство, — теперь, когда что-то главное погибло в нем или по крайней мере затаилось, его могли и принять. И темная, подспудная догадка его не подвела: товарища Матухина сместили; Матухин поселил в третью квартиру толпу своей родни, без всяких оснований уплотнив хозяйку скромного притона мадам Чальскую. К Чальской хаживали не только матросы, но и кое-какие совслужащие и даже первый заместитель руководителя секретариата Смольного. Обо всем этом Ять узнал со слов дворничихи, вселившись в свою квартиру и поделив бывший кабинет с одиноким столяром. В самом деле, стеснять Клингенмайера он не имел больше никакого права — тот и так выхаживал его два месяца, как ребенка. Сам собой решился и вопрос о работе — в городе возникло бесчисленное количество канцелярий; Мироходов прислал за Ятем младшую дочь (слава Богу, он знал его адрес) и пристроил его в странную контору по учету свободного жилья. Таких контор возникало и лопалось бессчетное количество, и каждая умудрялась убедить Апфельбаума или его многочисленных замов в своей насущной необходимости; одна учитывала всех бродячих собак города, другая — бездомных питерцев, третья — больных. У истоков всех этих контор стояли безработные петроградские интеллигенты, торговавшие единственным своим товаром — умением пустить пыль в глаза, имитировать деятельность на пустом месте и составить наукообразный документ даже о состоянии городских мостовых.
В сентябре приват-доцент Зудов прислал к нему сестру милосердия с запиской, в которой содержалась просьба явиться для важного разговора, — речь идет не о здоровье матери, добавлял заботливый Зудов, но возможны некоторые перемены в судьбе Лазаревской больницы. Ять пошел, впервые с момента выздоровления всерьез занервничав; Зудов у себя в кабинете сообщил ему, что гельсингфорсская клиника, в благодарность за независимость, дарованную чухонцам, готова принять у себя несколько десятков лазаревских больных, да и ему обещана ординатура. Поскольку в Петрограде с продовольствием в любой момент может стать хуже, да и война подступает, целесообразнее перевезти больных туда, где наверняка сытнее и спокойнее; требовалось письменное согласие Ятя как единственного родственника, и он после недолгого колебания это согласие дал. А уже через неделю он на Финляндском вокзале провожал странный поезд, отправлявшийся в Гельсингфорс.
Это был единственный поезд, вышедший из Петрограда в Гельсингфорс осенью восемнадцатого года: дачный, с сидячими местами — желтыми деревянными скамейками, изрезанными вдоль и поперек: кто бранился, кто оставлял по себе единственную память, начертав имя, — но имена звучали как ругательства, а ругательства выглядели как имена. Кучка сумасшедших под дождем пугливо жалась на перроне, толстуху-жену провожал иссохший до прозрачности муж, который все встречался Ятю в коридорах, прочие уезжали без провожающих. Почти никто не понимал, зачем везут, куда везут, — только одна старуха вскрикивала по временам: «Маменька! Маменька!» Эта понурая толпа, не чувствовавшая перемены своей участи и потому не сопротивлявшаяся ей, что-то напомнила Ятю — но душа тотчас отдернулась, словно от ожога. Мать встретила Ятя равнодушно, спросила, как дела в «Глашатае», и лишь перед тем, как войти в вагон, обняла с неожиданной силой.
— Витечка, — прошептала она.
Но и после этого, проведя бессонную ночь, мучительно пытаясь вспомнить, в чем причина его нынешнего равнодушия и этой ледяной заторможенности, — Ять не приблизился к разгадке. Память вернулась к нему странным образом, в ноябре, когда отгремела и отгуляла демонстрация по случаю первой годовщины революции. Смотреть шествие на Невском он не пошел, а дворничихины дети рассказывали, что какие-то танцоры кружились, кружились — ажно голова кругом, — а потом еще какие-то плясали почти голыми, один срам, но завлекательно. Даром что холодрыга. Ять любил дворничихиных детей, рассказывал им о кораблях, о путешествиях — он кое-что помнил, да многое и перечитал, не без опаски беря книги из собственной библиотеки, словно и они давно были чужими. Эти-то дворничихины дети принесли однажды с улицы голодного котенка — Ять налил ему в блюдце кипятку, пробовал накормить хлебом, но тут явился столяр и заорал, что котов не потерпит, утопит в ведре сию же минуту, только котов ему и не хватало. Он и так непрерывно притеснял Ятя, отвратительно храпел, хамил, однако именно скандал из-за котенка оказался последней каплей: Ять, вместе с памятью утративший и всю интеллигентскую робость, взял столяра за грудки и пригрозил как следует отмутузить. Тот не поверил, и обещание пришлось сдержать: столяр оказался хлипкий, истощенный, а Ять, хоть и не силач, все-таки до тридцати трех лет питался прилично. С этого дня столяр притих, и через три дня котенок подох сам, без постороннего вмешательства.
Отчего-то это крошечное горе, вполне ничтожное на фоне революционных бурь и утрат, произвело на Ятя впечатление необычайно тяжелое: даже убив в себе что-то, отличавшее его от других, он так и не превратился в человека, с которым можно жить. Это касалось всех — женщин, детей, котов; все происходило из-за него — и смехотворная, выдуманная вина (плохо кормил, плохо обогревал) разбудила большую, настоящую. Он так перепугался, что даже закурил в кухне — раньше курил у себя дома, где хотел, но теперь приходилось выходить на лестницу: новые жильцы обожали порядок. Он понял, что с самого начала помнил все, — только не называл вслух, не решался признать; и прежний ужас накатил на него с новой силой. Он сжал свою несчастную голову, пытаясь снова заглушить память, — но теперь заглушить ее не смог бы никакой тиф, ни жар, ни самая бездарная работа, ни многочасовые шатания по опустевшему Питеру. Он был Иуда, предатель, отправивший мать к чужим людям, за границу, куда ему самому никогда не будет ходу; упустивший любимую, отдавший свой дом захватчикам, без боя сдавший страну… До утра он не сомкнул глаз, а утром, под ледяным дождем отправившись на службу в тайном намерении истязать себя до последнего, узнал, что контора их разогнана, — словно, вспомнив все и вернувшись к себе прежнему, он снова выпал из жизни и лишился места. Впрочем, в Питере уже образовался кружок интеллигентской взаимопомощи; если бы эти люди знали, какая он мерзкая тварь, никто не подал бы ему не то что руки помощи, но и просто руки. И потому он заплакал, когда к нему явился Коля Стрелкин и предложил вместе с ним поработать в очередном призрачном комитете.
— Что вы, Ять… Ну что вы, право, — донельзя смутился Коленька.
— Ах, Коля, не знаете вы, что я такое. Вы чистый, славный, вы так ко мне добры незаслуженно… Я всю жизнь презирал людей, делающих добро, а сейчас удерживаюсь на свете их милостью. Ведь они погибли, все погибли из-за меня — Алексеев, Горбунов, Долгушов, Лытаский… все Общество любителей словесности, черт бы ее побрал!
— Да что вы, что вы, Ять! — повторял Коленька.
— Казарин… Борисов… Один Хмелев уцелел, потому что не пошел…
— Про Хмелева ничего не знаю, а Борисова давеча видел, — со всей уверенностью, на какую был способен, сказал Стрелкин. — Шел по Невскому с барышней, рассказывал что-то занимательное…
Ять с последней надеждой поднял на него глаза, но тут же понял, что Коля врет.
— Ладно, не берите греха на душу. Меня утешать бессмысленно.
Но как ни ужасна была жизнь, на которую он себя обрек, надо было доживать, домаиваться бледным бесом; он попробовал поискать Хмелева — но Хмелев уехал из города. Показаться на глаза Ираиде, жене Казарина, было ему невыносимо стыдно — однако он пошел и услышал, что она о муже никаких сведений с декабря семнадцатого года не имеет и иметь не хочет. Алексеев жил один — Ять несколько раз бывал у него; теперь там развешивали бесконечное белье какие-то очередные дворничихи, знать не знавшие о бывшем жильце. Раз только показалось Ятю, что он видит в дальнем конце Караванной сгорбленную фигуру Фельдмана — но догонять было далеко… да и с чего он взял, что это Фельдман?
То, что в исторической литературе получило впоследствии название красного террора и гражданской войны, было никак не борьбой за власть, но отчаянным самоистреблением страны, испробовавшей самый радикальный вариант спасения империи и разочаровавшейся в нем. И когда не осталось ни белых, ни красных, а только выжившие, — страна готова была начинать с нуля.
Не сказать, чтобы в этой новой стране вовсе не было темных. Они были, но затаились, снова выжидая своего часа. Это время наступило нескоро, но спустя семьдесят лет пришло и оно.
Ничего хуже наступившей зимы не было в жизни Ятя: он по-прежнему ютился приживалом в собственной квартире, а на службе состоял в комиссии по учету беспризорных детей; первый приют для них в Петрограде организовали в трехэтажном доме фабриканта Зотикова. Ять сидел в канцелярии и записывал данные привозимых патрулями детей, втайне надеясь увидеть Петечку, — но дети все были чужие, незнакомые. В них не было почти ничего человеческого, они жестоко издевались над слабейшими — но и слабейшие не менее жестоко издевались над новичками. Почти все они сразу сбегали. Скоро приют в зотиковском доме закрылся, но с Ятем за это время успело произойти нечто важное: он перестал себя обвинять и начал оправдывать.
Это с неизбежностью должно было произойти — когда вокруг слишком отвратительно, всегда начинаешь искать в себе единственного убежища. В чем его вина, в конце концов? Он никого не убил, не ограбил, не предал. Он только не вышел умирать, когда все умирали, — но, может, в этом и был знак чудесного спасения? Может, его сохранили для чего-то — не случайно же он побрел ночью прятать рукопись несчастного Борисоглебского? Может, все дело в рукописи (хранившейся теперь у Клингенмайера), а может, в самом Яте? Ведь его присутствие никого бы не остановило. В душе он понимал, что этим самооправданиям грош цена, — однако рана его заживала.
Но тайный всезнающий голос все шептал ему, что места здесь ему теперь нет — все будет напоминать о предательстве; он тут же принимался возражать — с чего это я должен был умирать за то, что мне стало ненавистно?! — и тот же голос шептал: ни за что другое умереть нельзя, ибо того, что мы любим, здесь нет. И потому мы обязаны умирать за ненавистное нам — потому, что иначе умрем просто так, ни за что, смертью крысы и таракана, смертью, недостойной человека. Чем яснее видел Ять этот выбор, тем омерзительней он ему казался, — и тем ясней становилось, что другого не бывает. Так мысль о гибели начала вытесняться из его сознания мыслью о побеге. Выпускали неохотно, но щель оставалась; в городе становилось все голоднее, арестовывали кого ни попадя (выпускали редко), доходили страшные слухи о взятии заложников, о зверствах провинциальной Чеки, о расстрелах сотни гимназисток за одного большевика, раненного эсеровской бомбой (все это было, разумеется, преувеличено, а небольшевистских газет не осталось — но многому стоило верить, Ять чувствовал это). Каждый день казалось, что хуже быть не может — но могло, и надеяться, что эта жизнь когда-нибудь войдет в колею, он уже был неспособен. Точней, ему даже несложно было себе представить эту колею — но от одной мысли о ней хотелось зажмуриться и затрясти головой. Он мог приспособиться ко многому, но и его возможности были небесконечны.
Как-то ближе к марту, когда дикие морозы начала февраля девятнадцатого сменились короткой оттепелью, он встретил на улице Корнейчука. Корнейчук, как всегда, преувеличенно ему обрадовался, долго тряс руку, вспоминал какие-то древние его публикации, которых сам Ять не помнил, — и было ясно, что и встреча, и необходимость бурно радоваться ему в тягость, а обязанность эту он взвалил на себя по тем же соображениям, по каким Трифонов таскал камни.
— Ну, а вы как? — спросил Ять, когда корнейчуковские восторги иссякли.
Корнейчук принялся перечислят!): сейчас он бежит с лекции о Слепцове, которую читал матросам, на лекцию о Панаевой, которую будет читать солдатам; вечером у него лекция перед работниками пищевого цеха. — именно так, пищевого цеха! «А послезавтра я должен быть на открытии памятника Белинскому. Специально Чарнолуский приезжает. Хотите, поговорим с ним, и он вам что-нибудь подберет?»
— Чарнолуский приезжает? — в задумчивости переспросил Ять. — Где, вы говорите, открывается этот памятник?
— На Широкой. Белинский там сроду не жил — почему решили именно там? Видимо, как раз поэтому… Я должен буду говорить о его роли в формировании Герцена — представляете? Не знаю, кто будет слушать… Хорошо, если два-три обывателя остановятся… Но Чарнолуский готовит митинг, будет оркестр…
— Да-да, спасибо, — кивнул Ять. — Я обязательно буду.
Двадцатого февраля Ять отпросился с очередной своей службы (заключавшейся в переводе статей из английской и немецкой прессы для перепечатки в городских газетах — разумеется, никто их не перепечатывал. Начальница — бровастая и усатая сорокалетняя Залкинд — отпустила его с неохотой. Ять поюлил, поумолял и в результате успел на Широкую только к половине первого, когда Чарнолуский уже заканчивал свою речь. Он изменился мало — все та же добродушная хомяковатость, многословие советского трибуна, фанфарная пышность трагикомических метафор. Гипсовый бюст Белинского был водружен в распиленной ограде сквера: тут, вероятно, тоже не обошлось без метафоры — неистовый Виссарион как бы проламывал собою решетку, устремляясь к торжеству натуральной школы, этой повивальной бабки большевизма. Ять попал как раз на повивальную бабку — Чарнолуский обожал подобные сравнения. На нем была черная шапочка пирожком и вполне приличное пальто с енотовым воротником. Чуть поодаль — видимо, охраняя его, — стоял красноармеец в недавно введенном обмундировании: серая шинель и ужасный островерхий суконный шлем — рыцарь, но в посконном, суконном варианте.
— И вот сегодня, — говорил Чарнолуский с любимым ораторским жестом — словно выхватывая что-то из воздуха и резко прижимая к груди, снова отбрасывая и снова прижимая, — мы кричим тебе из нашего прекрасного далека: неистовый Виссарион, слышишь ли ты нас? Но нет, он нас не слышит! Он умирает от чахотки, этого бича русской мысли, и взрывная сила его имени такова, что еще двадцать лет о нем упоминают не иначе как шепотом. Мы тянем к нему руки, чтобы пожать его холодеющую руку, и говорим: Белинский, мы слышим, мы видим тебя! Твое дело не пропало! Ликующий народ-победитель называет твое имя одним из первых в пантеоне своих друзей, и сегодня твои памятник осенит собою город, каменные плиты которого сдавливали твою больную грудь!
Ликующий народ-победитель, состоявший из двух девок недвусмысленной наружности, трех толстых баб и стайки мальчишек, с любопытством рассматривавших военный оркестр, жидко похлопал. Проходили и останавливались вислоусые мужчины с внешностью мастеровых, вглядывались в гипсовый памятник и двигались дальше.
— Недолго простоит, — заметил один другому.
— Так то ж временный. Потом медный поставят.
— От ведь делать нечего, — покачал головой первый и плюнул.
Чарнолуский отступил в сторону, оркестр сыграл «Марсельезу», к памятнику вышел Корнейчук. Ять подошел к наркому и робко потянул его за рукав. Красноармеец тут же шагнул к ним; Чарнолуский повернулся к Ятю — и отшатнулся, словно перед ним стоял призрак.
— Вы? — в ужасе спросил он, белея.
Значит, он знает, промелькнуло в голове Ятя; значит, он знает все — и считает меня погибшим вместе с ними.
— Я, Александр Владимирович. Если можно, я просил бы вас… о короткой встрече, минут десять всего…
— Конечно, конечно, пожалуйста! — Чарнолуский постепенно приходил в себя. — Умоляю вас, без этих церемоний. То, что у меня пост, — это же не отменяет старой дружбы… Но что с вами? От вас половина осталась…
— Четверть, — усмехнулся Ять. — Дело мое несложное, я много времени не отниму.
— Да, но когда же? Завтра вечером я отбываю в Москву…
— Завтра днем я пришел бы, куда вы скажете.
— Ах, досада, — завтра я как раз принимаю депутацию от совета петроградских учащихся… Но ничего, ничего. — Тут важно было подчеркнуть свою занятость и при этом не переусердствовать: Чарнолуский ничего не жалел для друзей и не уставал напоминать об этом. — Завтра в три… да, пожалуй, в три. Только там теперь таких церберов выставили — вам, пожалуй что, просто так и не пройти… Я пришлю за вами автомобиль со своим шофером. Нет, нет, не возражайте — так будет удобнее и вам, и мне. Что ж машине простаивать. Куда за вами приехать? Ять назвал адрес.
— Завтра в три, — повторил Чарнолуский, и Ять вежливо отошел. Он еще немного послушал Корнейчука, а потом незаметно ретировался.
Он не верил, что автомобиль будет прислан, — но в половине третьего под окнами его дома на Зелениной зарычал черный лаковый красавец «студебеккер», такой же, какой ровно год назад увозил его на Николаевский вокзал. Водитель живо напомнил ему товарища Викентия — очевидно, большевистское начальство питало слабость к этому типу сознательного рабочего, напоминавшего о том, для кого закрутилась вся эта чехарда с террором, отменой азбуки и расстрелами гимназисток До Смольного домчались лихо; водитель молчал, и Ять не лез к нему с расспросами. Два красноармейца в своих шишаках пропустили машину во двор, в самом Смольном на вахте лежал пропуск, выписанный по всем правилам. В качестве удостоверения личности Ять предъявил билет обозревателя несуществующей «Речи», однако новая большевистская бюрократия бумажкам не верила; красноармеец по внутренней связи потребовал товарища Чарнолуского, объяснил, что к нему на прием явился товарищ без надлежащего удостоверения, и получил разрешение товарища пропустить.
— Четвертый этаж, — с неудовольствием буркнул охранник. В Смольном, во время недолгих наездов в Петербург, Чарнолуский занимал теперь скромный кабинет, в котором прежде обитал товарищ Воронов. Ять сразу узнал это жалкое квадратное помещение; секретаршу Чарнолуский немедленно услал. Он гостеприимно встал навстречу Ятю, однако нельзя было не заметить, что в его движениях и интонациях сильно прибавилось сановитости.
— Добрый день, добрый день. Ну что, где вы? Отчего так давно не обращались? — Прежде, конечно, он сказал бы «не заходили».
— Александр Владимирович, — стараясь не смотреть на него, сказал Ять. — Я пришел просить вас… о содействии. Не можете ли вы мне устроить… я понимаю, конечно, что не имею никакого права вас обременять, и все-таки — нельзя ли похлопотать о моем отъезде?
— Куда вы хотите выехать? — с готовностью поинтересовался Чарнолуский.
— Я хотел бы выехать за границу, — отважился наконец Ять и только после этого поднял глаза на наркома; пришел черед Чарнолуского отворачиваться и избегать прямого взгляда.
— Но почему же так сразу? Я понимаю, конечно, — Чарнолуский ткнул в окно, — что там много чего делается… не так, как хотелось бы. Вам бы в Москву перебраться, честное слово. Тут товарищ Апфельбуам… несколько переусердствовал в закрытии газет и раскрытии заговоров. — Он и тут не мог освободиться от привычки каламбурить в манере провинциального фельетониста. — Но нельзя же за гримасами не замечать… сегодня уже вполне очевидно, что большая часть интеллигенции работает с нами, что рано или поздно, как вот Ильич сказал недавно, — он не мог не подчеркнуть знакомства с Ильичём, — всех Архимедов перетянем и землю сдвинем… Подождите, вы где служите сейчас? Мы подыщем вам нормальную работу, я лично… в аппарате… нуждаюсь в пишущих людях… Надо заново ставить на крыло газетное дело, нам нужны публицисты старого закала, но свободные от предубеждений, — вы подходите идеально!
Чарнолуский собрался уже развернуть перед Ятем сверкающие перспективы нового газетно-журнального дела, однако Ять прервал его:
— Я хочу вам сразу сказать, Александр Владимирович, что воспевать новую жизнь не смогу. Я ни в чем не обвиняю вас лично и всю вашу власть, Боже упаси… но для меня эта новая жизнь началась с убийства двух десятков моих друзей и единомышленников. Это было сделано, конечно, не по чьему-либо приказу, но безнаказанность убийцам гарантировала именно та самая новая жизнь. — Он знал теперь, что надо сказать все; трусости в этом разговоре он уже никогда себе не простил бы. Чарнолуский уставился на него в крайнем изумлении.
— Виноват, вы о каком убийстве говорите? Если Кронштадт, то ведь там не мы стрелять начали…
— Вы прекрасно знаете, что Кронштадт тут совершенно ни при чем. Я говорю об убийстве двадцати человек из Елагинской коммуны, последних, кто там оставался пятнадцатого мая.
— Виноват, виноват, — забормотал Чарнолуский. — Какое убийство? Какой Елагинской коммуны? Елагинская коммуна, сколько помню, благополучно разошлась после неудачной демонстрации и этой… как же ее… свадьбы! Мне об этой свадьбе в свое время Хламида все уши прожужжал — вот, мол, прообраз будущего союза всех писателей, единение во имя культуры… Вы кого имеете в виду?
— Я имею в виду Казарина, — раздельно произнес Ять. — Я имею в виду Борисова, Алексеева, Льговского, Извольского, Краминова, Ловецкого, Горбунова, Долгушова… всех, кто там оставался к утру. Пришли вооруженные люди и положили всех. В коммуне ждали этих людей, но не ждали, что они придут с ножами. Думали — будет обыкновенный разгон.
— Какой разгон?! О каком разгоне вы говорите?! — Чарнолуский вскочил и забегал по кабинету. — Казарин, по моим сведениям, умер в июле от воспаления желчных протоков, в Семеновской больнице… я лично деньги на памятник выделял, не помню только, где именно похоронили. Льговский на фронте, Борисов в Гельсингфорсе, о Краминове сведений не имею, но смею вас уверить, что он целехонек. И потом, почему разгон?! С чего вы вообще взяли? Я не понимаю, как с вашим умом, верить всем этим домыслам! Никто никого не собирался разгонять! А вы знаете, кто вообще писал все эти доносы на Елагинскую коммуну? — Он хитро подмигнул Ятю. — Это умора, ни за что не поверите. Я ведь регулярно получал сообщения от некоего доброжелателя. Прямые доносы: что там вертеп и чуть ли не штаб восстания. А потом, вообразите, в августе месяце умирает профессор Хмелев, и все оставшиеся от него бумаги — в том числе проект нового курса русского языка, над которым он все работал перед революцией, — попадают ко мне же, в комиссариат образования. Специально из Питера доставили. Смотрю — и что же вижу?! Знакомые все лица! Он даже почерка не менял! Вообразите, каков иезуитский расчет: нарочно на своих же доносил, чтобы мы из берегов вышли!
— А Оскольцев? — спросил ошарашенный Ять. — А Працкевич?
— Какой Оскольцев? — переспросил Чарнолуский. — В коммуне не было никакого Оскольцева…
— Верно, не было. Это товарищ министра иностранных дел во Временном правительстве, он пришел на свадьбу.
— Всех министров и товарищей министров освободили в мае.
— Я знаю, но его там зарезали на моих глазах!
— Опомнитесь, голубчик! — Чарнолуский комически воздел к потолку короткие ручки. — Кто его там зарезал? Борисов?
— Пришли вооруженные люди, — упрямо повторял Ять. — Никаких сомнений относительно их намерений быть не могло. Они пришли, чтобы убить всех.
— Ну, не знаю, кого они там убили, только Працкевича я никакого не знаю и об Оскольцеве ничего не слышал. А вот господин Ловецкий подвизается теперь в газете «Воля России», которую издают при штабе генерала Краснова. Мне экземпляр прислали, в Москве имеется. Покажу, коли заинтересуетесь. Даже псевдонима не поменял — Арбузьев и Арбузьев. Все-таки двуличие неистребимо, не находите?
— Как же он туда попал?
— Ну, как уж он туда попал — не знаю. Однако вы видите теперь, что все эти разговоры о разгоне, о гибели. Хмелев — так и вовсе прямой провокатор… Ну что, раздумали вы уезжать?
— Нет, — помолчав, ответил Ять. — Я видел своими глазами… я не сошел еще с ума. Но если даже убитых было только двое, а остальные каким-то чудом и уцелели, — не знаю, я все-таки привык верить вам, — места в новой России я себе не вижу. Писать мне не для кого и не о чем, и вы сами убедились, что я плохой союзник. Я трус. Я не понимаю, зачем вы брали власть, никогда не полюблю Маркса и никогда не научусь говорить с вашими новыми людьми. Александр Владимирович! Ей-Богу, отпустите меня!
— Я вижу, вас теперь не уговоришь, — Чарнолуский подобрался и заговорил жестче. — Если человек так себя накрутил, его никакие аргументы не возьмут. Что же, если не хотите ко мне в Москву — все-таки подумайте еще недельку, потом известите меня письмом о своем окончательном решении, — не беспокойтесь, ко мне вся почта попадает сразу, — и если не передумаете, я дам вашему делу ход. Полного успеха не обещаю, но слово замолвлю. Тогда явитесь в министерство иностранных дел Северной коммуны — это на Миллионной, — и вам будет оформлен заграничный паспорт. Вы куда хотите ехать?
— Мне все равно куда.
— Ну, решим. Нас признают через пень-колоду, пока проще всего выехать в Гельсингфорс, а уж через Финляндию попадете, куда надумаете. Но все-таки неделю я вас прошу поразмыслить… согласны?
— Согласен, — встал Ять. — Только, прошу вас, помните обещание.
— Я обещаний не забываю, — сухо сказал Чарнолуский, однако руку на прощание подал. Потом он выставил лихую закорючку на изнанке пропуска и демонстративно погрузился в чтение толстой папки, лежавшей у него на столе.
Ять вышел из кабинета. Домой он шел пешком, его пошатывало. Оттепельный воздух распирал легкие. Никогда еще такой, камень не падал с его души. Никто не погиб. Погибли Оскольцев и Працкевич, но все остальные живы, Казарин умер своей смертью, Хмелев доносил на елагинцев и провоцировал раскол… Он, Ять, ни в чем не был виноват! Это не отменяло и не извиняло, конечно, его позорной трусости. Но темные никого не убивали, а может, и темных не было?
Но если так, то с чего мне убегать? Может быть, мне действительно остаться? Он шел к себе на Петроградскую, влюбленными глазами оглядывая полупустые дома, забитые двери, размокшие ветки, редких прохожих, попадавшихся навстречу… Один из них остановился и внимательно поглядел ему в лицо. Ять выдержал этот взгляд, но радость его мгновенно погасла. Жить с этими людьми он не мог. Убили елагинских или не убили, а ехать надо. В конце концов, жизнь не кончена в тридцать шесть лет. Еще не поздно попробовать заново, эмигрировав в другую азбуку.
Сразу после того, как он вышел от Чарнолуского, нарком отложил толстую папку. Некоторое время он просидел в задумчивости, потом вскочил и бегом спустился к Апфельбауму на третий этаж. Чарнолуский вошел к нему без разрешения, испуганная секретарша вбежала следом. Председатель Петросовета обедал, к нему в это время никого не велено было пускать.
— Оставьте нас, — резко сказал Чарнолуский. Секретаршу сдуло.
— А ты, Григорий, послушай меня. Что тут было в ночь на пятнадцатое мая? А?! Апфельбаум доложил куриную ногу на тарелку.
— А-а, — сказал он нагло. — Начинается сеанс пролетарского гуманизма.
— Дилетантизм во всем хорош, — почти ласково сказал Чарнолуский. — Только вот палач-дилетант — это худо. Мучиться дольше.
— Не забывай, с кем разговариваешь! — прикрикнул Апфельбаум.
— Я знаю, с кем разговариваю, — усмехнулся Чарнолуский. — Говори: ты вооружал людей?
— Что значит — вооружал? Люди и так были вооружены, бесхозного оружия в городе тьма…
— Ты натравливал своих бандитов на Елагинскую коммуну?
— Что значит — натравливал?! Пролетарский праведный гаев привел людей к очагу контрреволюции…
— А свидетелей они зачем оставляли, твои праведные люди?!
— Какие свидетели? — насторожился Апфельбаум. — Ты можешь предъявить свидетелей?
— Надо будет — предъявлю. А теперь говори: за каким чертом ты мне врал, что они сами разошлись?
— Кто, старцы твои? Так они и разошлись! Мои люди взяли только тех, кто там ночью пьянствовал. Подержали немного в кутузке и отпустили на все четыре стороны.
Чарнолуский посмотрел в непроницаемо наглые глаза Апфельбаума и понял все. Он понял, куда делись обитатели Елагина дворца, о которых он только что вдохновенно врал Ятю. Понял, кто приказал громить небольшевистские издания и стрелять без предупреждения при попытке сопротивления; и догадался, кроме того, почему его восемнадцатого мая вызвали наконец в Москву. Вероятно, там считали, что елагинскую проблему помогал решать и он. Некоторое время он еще постоял, глядя на председателя Петросовета, потом вышел и больше никогда не заговорил с ним. При редких встречах они не здоровались. Попав в опалу восемь лет спустя, Апфельбаум умолял Чарнолуского о заступничестве, но тот не принял его. Впрочем, не сказать, чтобы в двадцать седьмом году для этого требовалось большое мужество.
Хотя не в Апфельбауме было дело: Апфельбаум никак не мог принять такое в одиночку. Судьбу елагинцев решила директива товарища Воронова, отправленная из Москвы еще до всякого примирения, — разумеется, в обход либерального наркома. От Апфельбаума требовалось только отвести подозрения от власти и для этой цели привлечь к решению задачи не солдат или матросов, но массы; и в выборе исполнителя он в самом деле не ошибся. Этим исполнителям не надо было платить: они получали удовольствие от процесса. Два месяца низовой элемент расчищал город, после чего вернулся в обычное деклассированное состояние. Возможно, Апфельбаум опирался при этом на Луазона, утверждавшего, что уголовный, или так называемый «придонный», элемент в условиях разгула свободы установит железный порядок быстрее всякой реакции, после чего по обыкновению самоистребится. Однако едва ли самонадеянный сын провинциального сапожника, вдобавок упивавшийся властью, находил время для чтения Луазона. А вороновская резолюция о расчистке Елагина острова была опубликована еще при жизни Чарнолуского — в сборнике документов «ВЧК и памятники культуры» (серия «Десять лет Чрезвычайной комиссии»). Товарищ Воронов поморщился, и составители сборника, так ничего и не поняв, в свой срок за публикацию поплатились, — читатели же, ничего не знавшие о елагинских событиях, не обратили на резолюцию никакого внимания. Чарнолуский, писавший восторженную вступительную статью к этому сборнику, сопоставил даты и схватился за голову, но писать прошение об отставке уже не стал. Он завязал с этим делом после переезда в Москву.
Однако чего у него было не отнять, так это честности. Он если что обещал, то делал. В Москве Чарнолуский первым делом пошел в секретариат министерства иностранных дел и добился для Ятя иностранного паспорта. Очень ему был нужен в Петрограде свидетель уничтожения Елагинской коммуны. Черт его знает, как еще все повернется. За границей пусть врет, что хочет, — всем эмигрантским бредням одна цена.
Ять отправил прошение о выезде, как приказали, через неделю и еще раз, внятно и по пунктам, изложил в нем свои аргументы: пользы Советской республике принести не могу, к физическому труду стал после болезни малопригоден, заниматься умственным не вижу возможности, в Гельсингфорсе на лечении находится моя мать (он сходил даже в Лазаревскую, добыл справку), прошу дать мне возможность выехать за границу, обещаю ни в какие антироссийские организации не вступать и к антисоветским организациям не примыкать. Но в письме необходимости не было — все и так уже крутилось, и пятого апреля 1919 года на его адрес пришла повестка:
«Назначено вам 7 апреля сево года пребыть в заявительный отдел Министерства иностранных дел Северной комуны к 13 часам дня».
Безграмотность этой повестки странным образом успокаивала; стало быть, новая орфография, уже общеобязательная, насаждалась пока не под угрозой расстрела. В частном письме безграмотность выглядит отталкивающе, но в государственном документе она даже трогательна. Министерство иностранных дел, оно же и управление внутренних, оно же и здание Петроградской Чеки, вплотную примыкало к зданию Генерального штаба, которое снилось Ятю в ночь переворота. Вот о чем думал Ять, входя в желтое здание, а никак не об убийстве Урицкого, которого в этом самом здании уложили восемь месяцев назад. Об отчаянном поступке Каннегисера Ять, конечно, знал и считал его образцом бессмысленного злодейства: за убийство одного малоприятного, но далеко не самого зверского чекиста расстреляли, по слухам, всех, кто к этому моменту сидел. Впрочем, в августе восемнадцатого Ять еще плохо понимал, что происходит вокруг, — а в сентябре, по обыкновению, слишком был поглощен самоуничижением. На входе его долго проверяли, досматривали, ощупывали на предмет оружия; оружия не оказалось, и началось странствие по кругам бюрократического ада, в раннесоветскую эпоху для многих еще нового. Тот факт, что за Ятя просил лично нарком Чарнолуский, придал делу некоторое ускорение, но по пути из Москвы в Петроград оно почти уничтожилось — так что выезду предшествовала долгая карусель, к которой Ять, впрочем, отнесся весьма благодушно. Он ко всему теперь относился благодушно — грех с его души был снят, разрешение на выезд получено, и впереди было еще тридцать пять лет жизни. Малую часть их можно было потратить и на хождения.
Все это время, вспоминавшееся ему потом как блаженное, весна решительно брала свое, даром что подзадержалась: в марте было, пожалуй, еще и похолодней, чем в январе, — но в апреле все принялось блистать и таять, и Ятю виделся в этом добрый знак. Он ходил на работу, где Залкинд терзала его все яростней, изумляясь, почему его ничто не берет, — рассеянно улыбался в ответ: давай, давай, милая, скоро я буду далеко. Нет ничего слаще тайного ехидства беглеца, который еще ТУТ и не знает пока толком, как ТАМ, — хотя, что скрывать, Ять с пристрастным интересом читал теперь немецкие и французские газеты; пресса, впрочем, была все больше красная или розовая, тошнотворно-скучная, — однако попадались и мнения врагов, прелестные, писанные живым человеческим языком; в них не было русского злорадства, с каким иные враги режима встречали новости о голоде, разрухе и самоубийствах. Англичане умудрялись даже и сострадать бывшим союзникам, ввергшим себя в этакую выгребную яму. Отвратительны, пожалуй, были одни американцы, умудрявшиеся с энтузиазмом приветствовать новую свободную Россию; не сказать, чтоб они лицемерили и на деле радовались упадку конкурента, — скорей им приятно было любое масштабное зрелище, и не может же в самом деле быть плохо людям, которые на наших глазах так красиво взлетают на воздух! С непробиваемой жизнерадостностью этой публики ничего нельзя было сделать, и утешало только то, что американский пролетариат точно так же здоров и жизнерадостен: нет в его среде ни отважных самопожертвователей, ни героических одиночек, а есть простые и честные тред-юнионисты, более всего озабоченные своим кошельком.
А впрочем, Ять и не задумывался особенно, как он будет ТАМ. Он радовался только, что не будет больше ЗДЕСЬ; Чарнолуский, великодушно подаривший ему право на жизнь и снявший грех с души, представлялся ангелом-избавителем. Он прошел в петроградскую службу учета трудящихся, где ему должны были выдать абсурдную справку о том, что он не является ценным работником (там над ним долго смеялись — обычно приходили вымаливать справку ровно противоположного содержания, чтобы избавиться от уплотнения или спасти хоть часть мебели). Как раз перед ним за такой справкой явился престарелый беллетрист Яроцкий, автор бесчисленных и неотличимых романов из купеческого быта.
— Ведь это черт знает что! — говорил он, воздевая руки. Яроцкий был писатель старого закала, живописный, с длинными седыми космами, раздвоенной бородой, в длинном пальто, похожем на рясу. — Ну хорошо, я все понимаю, товарищ Лабазников — руководящий, ответственный элемент. Но кресло, кресло мое зачем ему? На что ему три кресла?
— А вам зачем?
— Я пишу в нем!
— На стуле будете писать…
— Ну хорошо, хорошо! Но зачем ему канапе?
— Что?
— Канапе — это… это, если хотите, диванчик…
— Мы — ничего не хотим, — как младенцу, объяснял ему широкоплечий юноша с усталым и надменным видом — пролетарский Байрон, уставший от людского ничтожества. — Это вы хотите, а нам — ничего не надо…
Они все теперь были Байроны, презирающие ничтожных противников. Говорили — гидра… а тут несколько сотен больных запуганных людей, цепляющихся за свою рухлядь. Презрение победителей к побежденным было характернейшей особенностью первых лет русской революции — все получилось слишком легко, без должного сопротивления, вдобавок побежденные готовно и с опережением оправдывали любые действия победителей — и оттого победители, робкие поначалу, все больше наглели, глумились и красовались. В Карташевке, ребенком, Ять видел раз мальчика-ровесника, оторвавшего мухе крылья и упрекавшего ее в слабости духа: «Что, не летаешь? Не летаешь?!»
— Так зачем ему диванчик?!
— А вам зачем?
— Я могу прилечь на него… после того, как попишу…
Желая выказать себя полезным членом общества, Яроцкий упирал на процесс письма, старался привязать к нему всю свою мебель, — даже бамбуковая ширма была ему нужна, чтобы отгородиться от бездны, которую он все время ощущает рядом с собой во время писания… Какой бездны? — бездны горя народного, разумеется! Беллетриста отпустили со справкой об ограниченной полезности, так что на канапе он еще мог надеяться, но с ширмой, видимо, стоило проститься. Теперь ею будет отгораживаться от бездны товарищ Лабазников — если, конечно, товарищу Лабазникову зияют бездны.
Но и справка о бесполезности, наглядно удостоверявшая принадлежность Ятя к племени лишних людей, была получена, и народная милиция выдала свидетельство, что Ять с 1917 года не арестовывался и в розыске не появлялся. Добродушный архивист с Миллионной подтвердил, что Чека Ятем не интересовалась. Даже из архива охранки пришлось извлечь справку о том, что и там на Ятя нет ни единого дела, — и нашего героя немало повеселил тот факт, что Чека интересуется благонадежностью горожан в глазах охранки и считает именно это серьезным критерием. Тут открывалась замечательная перспектива — разумеется, переняв все методы ненавистного самодержавия, от цензуры до запрета на публичные сборища, новая власть обязана была прислушиваться к мнению охранки относительно благонамеренности тех или иных лиц; Ять еще не знал того, что писатель Яроцкий был добровольным осведомителем при обоих режимах, в первом случае надеясь приобрести обстановку, а во втором — вернуть. Не знал он, однако, и того, что обобщение его было хоть и верно, а преждевременно: далеко не со всякого выезжающего требовали справку из архивов охранки, а просто в коридорах власти, как всегда, шла подспудная борьба — и если бы отъезд Ятя никем не тормозился, он уехал бы уже через неделю, как и выезжали обычно протеже народных комиссаров; однако дело происходило в Петрограде, где Чарнолуского с некоторых пор терпеть не могли. Апфельбаум считал его личным врагом. Дело Ятя тормозили изо всех сил, и чиновник, который им ведал, получил указание измысливать любые предлоги, чтобы задержать наркомовского прихвостня. Ятю еще повезло, что мучитель оказался недостаточно изобретателен. Так иногда тайные векторы истории совпадают с силовыми линиями подковерной борьбы, и весь вопрос в точке зрения историка; одному, как Ятю, свойственно думать, что большевизм окончательно смыкается с царизмом, а другому — что Апфельбаум окончательно ссорится с Чарнолуским. Все наши споры и есть, в сущности, вопрос о точке зрения на очевидные факты — в этом залог полной бессмысленности всякой полемики, но только бессмысленное и интересно. Вот почему люди по-прежнему делятся на тех, кто повсюду отыскивает Божий вектор, и тех, кто копается в фальшивых авизо, полагая, что приближается таким образом к истине. Любопытно, что выводы, к которым приходят обе группы, часто одинаковы, но это почему-то их не примиряет. Вероятно, для обеих слишком огорчительна мысль о том, что Божественная воля может осуществляться через фальшивые авизо.
Но и вся эта мельтешня теперь не угнетала Ятя, он покорно наматывал круги по весеннему Петрограду, радуясь солнцу и блеску, — и лишь изредка задумывался: почему в прежней России его с ума свела бы подобная волокита, а в нынешней только забавляет? Вскоре ему явился простой ответ: прежнюю Россию он худо-бедно воспринимал как свою страну, мучился ее муками и болел ее бедами; ему обидны были ее военные поражения и внутренние глупости. Нынешняя — особенно в перспективе отъезда — была уже вовсе не его, свершилась предсказанная Льговским эмансипация от родины, и хорошо бы поговорить об этом с Льговским, когда он наконец вернется с фронта… не может же быть, чтобы Чарнолуский так спокойно солгал!
Отделение от родины позволило рассматривать ее без прежней ненависти, с ироническим состраданием, с каким в лучших британских газетах писали о превращениях Московского Кремля, ставшего резиденцией Ленина. Живя в этой новой и совершенно чужой стране (прежняя, видать, окончательно исчезла невыносимой зимой девятнадцатого), Ять с любопытством туриста присматривался к пресловутой вобле, к тухлой селедке, которую давали в пайках вместе с полутухлой, к детям с их звероватыми играми, к суконным рыцарям в шишаках… Так, верно, смотрел бы на нас марсианин; жить без родины оказалось очень приятно. Впрочем, не сказать, чтобы он жил вовсе без родины; просто ею оказалась не Россия, и он сам дивился ложному отождествлению, в которое слепо верил все свои первые тридцать пять лет. Бедный Стечин, зачем было спорить с ним — ведь он с самого начала был прав, и пришел к этому всего-то в двадцать лет! Почему мы ненавидим людей только за то, что они страдали меньше нашего? Ведь мои страдания на пути к этому блаженному освобождению отнюдь еще не значат, что мой путь лучший… Бывают счастливцы, рождающиеся без Родины вообще. Интересно, есть ли дети у ходунов?
Наконец ему осталась последняя инстанция — на этот раз настоящая, через которую проходили все отъезжающие за границу: это был отдел по выдаче виз, размещенный в бывшей торсуновской гимназии, где преподавал когда-то Комаров-Пемза. Ять тут же вспомнил это — и словно облако наползло на его душу; как назло, и швейцар у входа был древний, старой закалки — наверняка еще из тех, что караулили тут гимназический гардероб. Прежде швейцар, вероятно, был строг, — а ныне жалок и кроток и на всякого человека из гимназического прошлого смотрел с собачьей преданностью, как Захар на Штольца; по правде сказать, старше немного выжил из ума Ять заподозрил это, но на всякий случай все равно спросил — нет ли каких сведений о словеснике Комарове?
— Как же, были-с, — закивал старик, — вот только позавчера и были-с…
— Как, когда?! — вскричал Ять.
Старик, ответивший машинально, не задумываясь, испугался, что ляпнул что-то не то, и принялся извиняться: не помню-с, толком ничего теперь не помню-с, но заходили, были… бы-ва-ли… Конечно, он не помнил никакого Комарова; показали бы портрет — узнал бы, а так — нет. Но для Ятя все было утешением: стало быть, Пемза жив — значит, и все живы…
Он поднялся на второй этаж; в пустом и гулком гимназическом здании, в рекреациях, насквозь просвеченных весенним солнцем, в желтых стенах, в желтом паркете — во всем была радость, та грустная радость, с каким выпускник гимназии осматривается в ней двадцать лет спустя. Ять, впрочем, заканчивал не торсунов-скую, а пятнадцатую, что на Литейном. Заходить он туда избегал. Все визы в Петрограде девятнадцатого года выдавались централизованно — новая власть старалась не допускать прямых контактов между иностранными дипломатами и рядовыми гражданами; выездной паспорт Ятю уже изготовили — требовалось сдать его в кабинет тридцать шестой. Было тринадцатое апреля, Ять пришел к одиннадцати, постучал — и еще до того, как услышать «Войдите!», знал, кого увидит в бывшем кабинете словесности. Он таинственно знал об этом еще с утра, а потому в душе его, вместо обычного иронического благодушия, билось тревожное счастье; счастье прежде всего — даже после всего, что было. Он убеждал себя, разумеется, что предчувствия — вздор, что этак можно поверить чему угодно — но лишний раз понял, что предчувствию надо верить тем сильней, чем оно на первый взгляд невероятней. Таня вскочила, увидев его, и замерла у доски, как гимназистка.
Класс был пуст, на стенах еще красовались Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Достоевский, а над доской висел лично изготовленный Пемзой плакатик с аккуратно выписанными исключениями на «ять». На время диктанта табличка переворачивалась. Звезда, гнездо, седло, брести, цвести, приобрести… Ночная крымская дорога: шары омелы в ветках, похожие на гнезда; над нами звезды, под нами седла… Я брел долго, цвел недолго и бессмысленно, и вот что я приобрел.
— Здравствуй, Таня, — севшим голосом сказал он.
Она не бросилась его обнимать, — чай, не Гурзуф; он был теперь никто, а она как-никак уполномоченная по связям с иностранными представительствами, с благодарностью от самого наркоминдела. Главное же — она не ждала его; он давно уже должен был исчезнуть, как и вся прежняя жизнь, — оказаться за границей, в ссылке, Бог весть где еще… Странно было думать, что когда-то он столько для нее значил, чудной, ничего вокруг не желавший понимать… Теперь ей было уже двадцать три года. Она любила взрослого человека.
— Ять! Откуда? — выдохнула она.
— Это ты мне скажи откуда. Я-то не уезжал… Разрешите присесть, товарищ Поленова?
— Лосева, — поправила она.
— О, — протянул он. — Но хорошо хоть не Зуева.
— Ять, Господи! — она не выдержала, закрыла лицо руками и всхлипнула.
— Оставь, пожалуйста. Все, что связано с тобой, я прекрасно помню. Ну, расскажи мне, как ты не попала в Париж.
— Да самым обыкновенным образом. — Она отняла руки, и он увидел, что глаза ее сухи. — Передумала в Ялте, посмотрела как следует на Зуева, поговорила с Маринелли и осталась… При немцах там появилось даже что-то вроде порядка, а когда их выбили — пошли поезда; я и вернулась.
— Минуту, минуту! — Ять наморщил лоб, силясь что-то припомнить. — Скажи, а настоящая фамилия Маринелли, часом, не Лосев? Честное слово, будь он твоим новым мужем, я бы не ревновал.
— Лосев, — сухо сказала Таня, — оформлял тебе паспорт. Ять вспомнил сухощавого, желчного очкастого коммуниста, выписывавшего ему документы, и подумал, что неуловимое сходство с Зуевым, пожалуй, все-таки есть.
— Должно быть, человек надежный, — серьезно кивнул он.
— Надежный, — с вызовом ответила Таня.
— Я ненадежный человек, Таня, и почти не существую, — снова кивнул Ять. — Вот справки о том, что я не представляю никакой ценности, вот паспорт, вот разрешение на выезд — прошу тебя, не затягивай с решением.
— Но где ты был все это время? Я думала, ты давно…
— Жив, жив, — успокоительно сказал он.
— Я не о том! Ять, — у нее жалобно скривился рот, — Ять, почему мы встретились как враги? Что случилось? Ведь я та же самая, я всегда была такой, и если ты приписывал мне что-то другое — разве это моя вина, Ять?
Она и в самом деле не изменилась — та же стройность, легкость, живость, разве что на все это словно лег тончайший слой пыли — тут же ложившийся, впрочем, на все, становившееся советским; конечно, и товарищ Лосев недолго удержит ее в этсм поле, а может, и сам что-нибудь поймет, он человек неглупый.
— Ты ни в чем не виновата, Боже упаси. Слушай, миллион мужчин до меня говорили женщине эту роковую фразу — «Ты ни в чем не виновата», и всегда с одной и той же интонацией. Все любовные диалоги множество раз уже проговорены, и всегда с одной и той же интонацией: «Чем я виновата?» — «Ты ни в чем не виновата». Каждый мужчина старается сказать женщине то, что она хочет услышать, а каждая женщина хочет услышать только то, что она ни в чем не виновата… опера, одно слово! — При слове «опера» он отчего-то почувствовал во рту жирный, мыльный вкус.
— Ты так говоришь, словно это я оставила тебя в Гурзуфе.
Удивительно, как она умела все обернуть — и как теперь это умиляло, а не раздражало его.
— Да, конечно, — подтвердил он. — Но ведь обида твоя не столь сильна, чтобы отказать мне в выезде?
— Резолюция есть, паспорт тебе выдан — значит, я сделаю, что должна сделать. У нас произвола нет.
Он отметил это «у нас».
— Но скажи — ведь спросить тебя я имею право? — почему ты едешь и почему именно сейчас? Я поняла бы тебя, допустим, в восемнадцатом — но сейчас, когда погнали Деникина, когда скоро раздавят Колчака?
— Знаешь, мне почти ничего не говорят эти фамилии. Я знаю, что есть какие-то Деникин и Колчак и что они хотели взять Питер и чуть было не взяли его, — но, веришь ли, мое решение никак с ними не связано.
— А с чем же, позволь узнать, оно связано?
— Оно связано с тем, что я устал выбирать из двух, а в России это единственный вариант. Поверь, Таня, я хорошо подумал. И позволь заметить, что я старше тебя на тринадцать лет.
— Это-то и плохо, — натянуто усмехнулась она — Это-то и мешает тебе увидеть нашу правду.
— Таня, я уже видел вашу правду во всех ее вариантах. В том числе и в Гурзуфе. Разумеется, все вы чудные, чудные люди, как ты любила говорить о товарище Трубникове, — но места себе я тут не нахожу, а потому позволь мне связать остаток жизни с другой страной. Ведь и я тебе не нужен больше?
— Ты мне всегда будешь нужен, — почти беззвучно проговорила она, не глядя на него. — Это проклятие, и я ненавидеть тебя готова.
— Я тоже очень люблю тебя, — честно сказал Ять.
— Но почему, почему, Ять? Почему ты не хочешь остаться?
— А почему ты удерживаешь меня?
— Не знаю, — она опустила глаза. — Честно, Ять, не знаю. Ты вправе, конечно, подумать, что мне выдают отдельный паек за то, что я уговариваю отъезжающих.
— Ну, этого-то я не подумаю никогда. Я не Казарин.