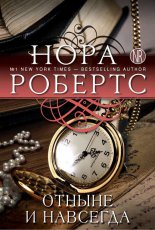Щегол Тартт Донна

Он снова рассмеялся, как будто бы я это вслух произнес.
— Эй, дурацкое ведь правило, что нельзя в автобус с собакой, — сказал он, заглотнув еще «Ред Булла». — То есть вот тебе-то что делать? Бросить его у обочины?
— А вы что, фокусник, да?
Он засмеялся.
— А как ты догадался? Я выступаю с карточными фокусами в одном баре при «Орлеане» — если б тебе лет хватало, я б тебе посоветовал как-нибудь заглянуть. Ну, в общем, вот он весь секрет — всегда отвлекай внимание зрителей от места, где проворачиваешь фокус. Это первый закон магии, Очкастик. Помни об этом.
21
Юта. Возвышенность Сан-Рафаэль под восходящим солнцем раскрывалась нечеловеческими марсианскими видами: песчаник и сланец, узкие ущелья и нагие ржаво-красные пустоши. Спать я почти не мог, отчасти из-за наркотиков, отчасти потому, что боялся, вдруг Поппер заворочается или заскулит, но, пока мы петляли по горным дорогам, он и звука не издал, сидел себе тихонечко в сумке, которая стояла рядом со мной на сиденье, поближе к окну. Оказалось, что чемодан у меня небольшой и его можно пронести в автобус, чему я очень радовался сразу по нескольким причинам: там у меня был свитер, «Ветер, песок и звезды» и, самое главное, картина, которая, даже будучи спрятанной, спеленутой, казалась мне талисманом, иконой, что берет с собой в битву крестоносец. Если не считать застенчивой латиноамериканской парочки с горкой пластиковых контейнеров на коленках и старого пьянчужки, который разговаривал сам с собой, на задних сиденьях больше никого и не было, и мы прекрасно проехали по горному серпантину через всю Юту до самого Гранд-Джанкшен, штат Колорадо, где стояли пятьдесят минут. Я запер чемодан на монетку в камере хранения и выгулял Поппера за автовокзалом, подальше от глаз шофера, потом купил нам пару гамбургеров в «Бургер Кинге» и дал ему попить водички из крышки от пластиковой коробки, которую нашел в мусорке. От Гранд-Джанкшен я проспал до самого Денвера, где мы стояли час и шестнадцать минут, как раз на самом закате — там мы с Поппером бегали, бегали, просто радуясь тому, что вышли из автобуса, и по сумеречным незнакомым улицам убежали так далеко, что я уж испугался было, не заблудились ли мы, но зато обрадовался, наткнувшись на хипповскую кофейню с приветливыми и молодыми кассирами («Заходите оба! — крикнула стоявшая за прилавком девушка с фиолетовыми волосами, когда увидела привязанного у порога Поппера, — мы собак любим!»), и купил там не только два сэндвича с индейкой (один себе, один ему), но еще и веганский брауни и домашнее вегетарианское собачье печенье в промасленном бумажном пакете.
Я читал допоздна, молочная бумага желтела в кружке слабого света, а мимо проносилась незнакомая темнота, мы переехали Континентальный водораздел и миновали Скалистые горы, Поппер, досыта набегавшись по Денверу, счастливо посапывал в сумке.
В какой-то момент я уснул, потом проснулся и почитал еще. В два часа ночи, как раз когда Сент-Экзюпери рассказывал, что его самолет упал в пустыне, мы въехали в Салину, штат Канзас («Перекресток Америки») — двадцатиминутная стоянка под облепленной мотыльками натриевой лампой, где мы с Поппером носились кругами в темноте вокруг заброшенной бензоколонки, и книга все не шла у меня из головы, и меня переполняло диковинностью того, что я в первый раз в жизни был в штате, откуда мама родом — а доводилось ли ей во время долгих перегонов с ее отцом проезжать через этот городок: «ДЕВЯТАЯ УЛИЦА, СЪЕЗД НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ АВТОСТРАДУ», подсвеченные зернохранилища будто космические корабли маячат в пустоте на многие мили вокруг? В автобусе мы с Попчиком — сонные, грязные, измотанные, замерзшие — проспали от Салины до Топеки, и от Топеки до Канзас-Сити, штат Миссури, куда мы въехали как раз на рассвете.
Мама часто рассказывала мне, что там, где она выросла, все — одна сплошная равнина, так все плоско, что в прериях за мили видно, как вихрь приближается — но я все никак не мог поверить в эту ширь, в это однообразное небо, такое громадное, что тебя так и давит, так и сжимает его бесконечностью. Около полудня мы были в Сент-Луисе, где стояли полтора часа (Поппер смог как следует нагуляться, мы пообедали ужасными сэндвичами с ростбифом, местность выглядела стремно и к прогулкам не располагала), а потом пересели в другой автобус. И тут — всего-то час или два спустя — я проснулся от того, что остановился автобус, и увидел, что Поппер осторожно тянет нос из сумки, а чернокожая дама средних лет с ярко-розовой помадой на губах нависла надо мной и грохочет:
— В автобус с собаками нельзя!
Я растерянно уставился на нее. И тут с ужасом понял, что она не просто какая-то пассажирка, а водитель — в фуражке, в униформе.
— Слышал, что говорю? — повторила она, разъяренно дергая туда-сюда головой. Она была размером с тяжеловеса, на внушительной груди висел бейджик: «Дениза». — В этот автобус с собаками нельзя!
И она нетерпеливо замахала рукой, будто говоря: «Да убери ты ее в сумку, с глаз долой!»
Я его прикрыл — Поппер не протестовал — и сидел на своем месте, чувствуя, как внутри у меня все стремительно съеживается. Мы остановились в городке Эффингам, штат Иллинойс: домики как с картин Эдварда Хоппера, театрального вида здание суда, вручную намалеванная перетяжка «Перекрестки судьбы!».
Водитель тыкала во все стороны указательным пальцем.
— Так, тут кому-нибудь это животное мешает?
Остальные пассажиры, сидевшие в хвосте автобуса (неопрятный мужик с усами-щеточкой, взрослая дама с брекетами, чернокожая мама-наседка с дочкой-младшеклассницей, старикан, похожий на У.С. Филдса, с трубками в носу и кислородным баллоном — все от изумления, казалось, и рта не могли раскрыть, девочка, правда, округлив глаза, еле заметно помотала головой: нет).
Водитель выжидала. Огляделась. Потом снова повернулась ко мне:
— Так. Повезло вам с пупсиком, малый. Но если, — она пригрозила мне пальцем, — если хоть кто-то из пассажиров пожалуется на то, что в автобусе едет животное, хоть когда угодно — я тебя высажу. Ясно?
Так она меня не вышвырнет? Я заморгал, уставившись не нее, боясь пошевельнуться или вымолвить хоть слово.
— Тебе ясно? — еще более грозным тоном повторила она.
— Спасибо…
Она слегка воинственно замотала головой:
— Э, нет. Не благодари меня, малый. Одна жалоба — и я тебя выкину отсюда. Одна-единственная жалоба.
Она прошагала обратно и завела двигатель — меня всего трясло. Когда мы выезжали со стоянки, я боялся даже поднять глаза на других пассажиров, хотя чувствовал, что все они смотрят на меня.
Возле моей коленки Поппер тихонько вздохнул, улегся поудобнее. Я, конечно, любил Поппера, жалел его, но никогда не считал его особенно интересной или умной собакой. Вместо этого я часто хотел, чтобы он был псом покруче, бордер-колли, например, лабрадором или даже собакой из приюта — а что, каким-нибудь прикольным привязчивым литовским метисом или взъерошенной дворнягой, которая носится за мячиками и кидается на людей — да кем угодно, только не тем, чем был он: девчоночьей собачкой, игрушкой, гей-аксессуаром, с которым и на улицу было выйти стыдно. Уродцем Поппер, конечно, не был, как раз наоборот, он был таким крошечным пушистым попрыгунчиком, которые многим нравились — ну, мне, может, не очень, но какая-нибудь маленькая девочка, вроде той, что сидела через проход, уж точно подобрала бы такого возле дороги, отнесла домой и навязала ему в шерстку ленточек.
Я сидел, закостенев, снова и снова переживая пронзивший меня ужас: лицо водителя, мой шок. Страшнее всего было то, что если теперь она прикажет мне ссадить Поппера, то и мне придется сойти с автобуса вместе с ним (и что потом?), даже если за окном будет какая-нибудь иллинойская глушь. Дождь, кукурузные поля, и я стою один посреди дороги. Как же это я умудрился прикипеть к такому нелепому животному? К болонке, которую завела Ксандра?
Покачиваясь, я не смыкал глаз весь Иллинойс и Индиану — так боялся уснуть. Деревья стояли голые, на ступеньках домов догнивали хэллоуиновские тыквы. В соседнем ряду мать приобняла дочку и тихонько напевала ей: «Солнышко ты мое». Всей еды у меня было — крошево чипсов, которые мне дал таксист, мерзкий соленый привкус во рту, промышленные пейзажи, катятся мимо маленькие пустые места городков — глядя на унылые поля за окном, я чувствовал себя жалко, зябко и вспоминал песни, которые мне давным-давно пела мама. Ту-ту-тутси, тутси, прощай, ту-ту-тутси, только не рыдай… Наконец в Огайо, когда стемнело и в грустных маленьких редких домиках начали зажигаться огни — я решился задремать, раскачиваясь во сне туда-сюда, и проспал до холодного, залитого белым светом Кливленда, где в два часа ночи я пересел в другой автобус. Я побоялся долго выгуливать Поппера, хоть и знал, что ему это нужно, опасаясь того, что нас кто-нибудь увидит (а тогда что делать, если нас застукают? Остаться в Кливленде жить?). Но пес, похоже, и сам перепугался, и мы с ним минут десять, дрожа, проторчали на углу — наконец я дал ему попить, усадил в сумку и отправился на станцию, садиться в автобус.
На дворе была ночь, все были полусонные, и от этого пересадка прошла полегче, и на следующий день, в полдень — еще одна пересадка, в Буффало, где на станции автобусу пришлось с хрустом пробираться через сугробы мокрого снега. Ветер кусался — остро, влажновато, за два года в пустыне я и забыл, какая она ноющая и сырая — эта настоящая зима. Борис не ответил мне ни одну эсэмэску, логично, наверное, ведь я слал их на номер Котку, но я все равно отправил еще одну: «В БУФФАЛО, В Н-Й СГДН ВЕЧЕРОМ, ТЫ ОК? ЧТО С КС?»
От Буффало до Нью-Йорка порядочно ехать, но — кроме осоловелой, горячечной стоянки в Сиракузах, где я выгулял Поппера и купил нам по булочке с сыром, потому что ничего другого не было — я почти всю дорогу умудрился проспать, я проспал Батавию и Рочестер, Сиракузы и Бингэмтон, привалившись щекой к оконному стеклу — из щели задувал холодный воздух, а тряска переносила меня к «Ветру, песку и звездам», в одинокую кабину пилота высоко над пустыней.
Я, похоже, с самой остановки в Кливленде потихоньку заболевал, но вечером, когда я наконец сошел с автобуса на городском автовокзале Порт-Аторити, меня уже трясло в лихорадке. Меня знобило, колени подкашивались, а город, который я так рьяно желал увидеть, казался чужим, шумным, холодным — выхлопные газы, мусор, несутся мимо меня во все стороны чужие люди.
Автовокзал кишел копами. Куда ни гляну — везде плакаты с адресами приютов для бездомных, номера горячих линий для сбежавших из дома подростков, одна тетенька-коп подозрительно на меня покосилась, когда я торопливо шел к выходу — проведя в автобусах шестьдесят с лишком часов, я был грязный, усталый и понимал, что на образцового гражданина не тяну, но меня никто не остановил, а я оглянулся только когда от вокзала отошел подальше.
Какие-то мужики разного возраста и национальности окликали меня на улице, вкрадчивые голоса раздавались со всех сторон («Эй, братишка, куда путь держишь? Подвезти?»), и хотя, например, один рыжеволосый парень показался мне особенно симпатичным и нормальным и на вид он был не сильно старше меня — прямо потенциальный друг, но я достаточно прожил в Нью-Йорке и потому проигнорировал его бодрое приветствие, не сбавляя шага, так, будто знал, куда иду.
Я-то думал, Поппер сойдет с ума от радости, что можно вылезти из коробки и пройтись, но когда я спустил его на тротуар, Восьмая авеню оказалась ему не по зубам, и он так перепугался, что сумел одолеть от силы квартал; он никогда раньше не был в большом городе, его все ужасало (машины, гудки клаксонов, ноги прохожих, пустые пакеты, которые несло ветром по дороге), и он рвался вперед, метался к «зебре», прыгал туда, прыгал сюда, в панике прятался за меня, обвив мне поводком ноги, так что я поскользнулся и чуть не вывалился под фургон, который несся, чтобы успеть на зеленый.
Я подхватил перебиравшего лапками пса и сунул его обратно в сумку (он покопался там, сердито попыхтел и затих) и застыл посреди вечерней толпы, пытаясь немного сориентироваться. Все казалось куда грязнее и враждебнее, чем мне помнилось, — и еще холоднее, улицы были серыми, как старая газета. Que faire? как любила говорить мама. Я почти услышал, как она это произносит — легким, беспечным голосом.
Я все спрашивал себя, когда отец метался на кухне, хлопая дверцами шкафчиков и жалуясь, что ему хочется выпить, а как это — «хотеть выпить», каково оно, жаждать алкоголя и только алкоголя, не воды, не «Пепси», ничего другого. Теперь знаю, уныло подумал я. Я умирал — хотел пива, но понимал, что в магазин не стоит и соваться — попросят удостоверение личности. Я с нежностью припомнил водку мистера Павликовского, дневной заряд теплоты, который я принимал как должное.
И кроме того, я умирал с голоду. В паре домов от меня была какая-то хипстерская кафешка с капкейками, я так проголодался, что заскочил туда и купил первый попавшийся (оказалось, со вкусом зеленого чая и какой-то ванильной начинкой, чудной, но все равно вкуснейшей). От сладкого мне практически сразу стало лучше, я ел, слизывая крем с пальцев, и с изумлением разглядывал целеустремленную толпу. Уезжая из Вегаса, я был гораздо спокойнее насчет того, как все обернется. Сообщит ли миссис Барбур в соцслужбу, что я к ним приехал? Поначалу я думал, что нет, но теперь вот задался вопросом. Плюс еще немаленькая проблемка с Поппером, потому что у Энди (вдобавок к молочным продуктам, орехам, лейкопластырю, горчице и еще двадцати пяти самым распространенным в хозяйстве вещам) была дикая аллергия на собак — и не только на собак, а еще на кошек, лошадей, зверей в цирке и школьную морскую свинку («Хрюна Ньютона»), которая у нас была во втором классе — поэтому-то у Барбуров в доме не было ни одного домашнего животного. Отчего-то в Вегасе мне это не казалось таким уж непреодолимым препятствием, а теперь, когда я в сумерках на холоде торчал посреди Восьмой авеню — показалось.
Не зная, что еще делать, я пошел на восток, в сторону Парк-авеню. Ветер влажно хлестал меня по лицу, от запаха дождя в воздухе я разволновался. Небо над Нью-Йорком казалось куда ниже и увесистее западного — грязные облака, будто растертые ластиком следы карандаша на шершавой бумаге. Такое ощущение, что пустыня, вся ее ширь, перенастроила мне зрение. Все казалось промозглым, приземистым.
Ходьба помогла мне унять дрожь в ногах. Я прошел на восток, до библиотеки (Львы! На секунду я застыл, словно вернувшийся с войны солдат, который завидел вдалеке родной дом), а потом свернул на Пятую авеню — горели фонари, на улицах еще было порядочно народу, хотя они уже пустели к ночи — и дошел до самой южной стороны Центрального парка. Хоть я и устал, но сердце у меня при виде парка все равно сжалось, и я рванул через Пятьдесят седьмую (Улицу радости!) в шелестящую темноту. От запахов, теней, даже от пятнистых белесых стволов платанов я воспрянул духом, но чувство было такое, будто под осязаемым парком я вижу еще один, призрачный, почерневший от памяти, с картой прошлого, со школьными экскурсиями и давнишними походами в зоопарк. Я шел по тротуару со стороны Пятой авеню, заглядывал в парк, и дорожки там были затенены деревьями, осияны светом фонарей, загадочные, манящие, будто лес из книжки про «Льва, колдунью и платяной шкаф». А если повернуть, если пройти по такой подсвеченной дорожке, выведет ли она меня в другой год, может, даже в другое будущее, где немного растрепанная мама, только что вернувшись с работы, будет ждать меня на скамейке (на нашей скамейке) у Пруда: вот она прячет телефон, встает, целует меня: Привет, щенуля, как там школа, что на ужин есть будешь?
Вдруг внезапно я остановился. Смутно знакомый человек в деловом костюме обогнул меня, зашагал впереди по тротуару. В темноте сияла копна всклокоченных белых волос, белых волос, которые выглядели так, словно обычно их отпускают подлиннее, перевязывают лентой; вид у него был задумчивый, и сам он был весь какой-то помятый, сильнее обычного, но я все равно сразу же его узнал — слабый отголосок Энди в наклоне головы: мистер Барбур, с портфелем и всем прочим, возвращается домой с работы.
Я побежал за ним.
— Мистер Барбур? — позвал я.
Он разговаривал сам с собой, но что он говорил, я не слышал.
— Мистер Барбур, это Тео, — громко сказал я, поймав его за рукав.
С поразительным бешенством он развернулся и стряхнул мою руку. Да, это был мистер Барбур, я б его где угодно узнал. Но глаза на меня глядели совсем чужие — яркие, неласковые, презрительные.
— Милостыню не подаю! — фальцетом выкрикнул он. — Отстань от меня!
Мне бы сразу тогда распознать одержимость. Передо мной было гипертрофированное выражение отцовского лица, какое у него бывало перед матчем, или, раз уж на то пошло, его лица, когда он размахнулся и меня ударил. Раньше мне не доводилось общаться с мистером Барбуром, когда он слезал с таблеток (Энди, как это ему было свойственно, довольно скупо описывал отцовские «порывы», и я ничего не знал ни о том, как он пытался дозвониться госсекретарю, ни о том, как ходил в пижаме на работу); и ярость эта была настолько нетипичной для мечтательного и рассеянного мистера Барбура, что я пристыженно отшатнулся. Он окинул меня долгим злобным взглядом, отряхнул рукав (как будто я был грязный, как будто я осквернил его одним прикосновением) и пошел дальше.
— Ты что, денег у него просил? — спросил какой-то мужик, вынырнув буквально из ниоткуда, пока я ошеломленно стоял посреди дороги. — Просил, да? — настойчивее повторил он, когда я отвернулся.
Он был рыхлый, в безликом офисном костюме и с женато-детным лицом, от его лузерского вида меня передернуло. Я попытался его обогнуть, но он загородил мне дорогу и цапнул тяжелой рукой за плечо — я вывернулся и, запаниковав, кинулся в парк.
Я побежал к Пруду, по желтым, чавкающим палой листвой тропинкам, а оттуда — на автомате пошел прямиком к Месту Встречи (как мы с мамой звали нашу скамейку) и, весь дрожа, уселся там. Невозможная ведь, невероятная удача — вот так вот повстречать на улице мистера Барбура; я даже секунд пять где-то верил, что, смешавшись, растерявшись поначалу, он радостно меня поприветствует, спросит что-нибудь — а, неважно, неважно, потом поговорим — и отведет домой. Ну и ну, вот так история! А уж Энди-то как тебе обрадуется!
Господи, думал я, проводя рукой по волосам — я все никак не мог оправиться от потрясения. В идеальном мире именно с мистером Барбуром я бы больше всего хотел столкнуться на улице — больше, чем с Энди, и уж точно больше, чем с его сестрой или с кем-нибудь из братьев, больше даже, чем с миссис Барбур и этими ее ледяными паузами, непонятными для меня правилами поведения и светскими любезностями, ее холодным, непроницаемым взглядом.
По привычке я в стотысячный раз проверил телефон и, несмотря на все, слегка повеселел, увидев наконец сообщение — с незнакомого номера, но кому же это еще быть, как не Борису, «ПРИВ! ОТЖЫГАЕТЕ ТАМ? НЕ БЫЧИШ? НАБЕРИ КС, ОНА МЕНЯ ЗАИПАЛА».
Я попробовал перезвонить, в дороге я ему раз пятьдесят писал — но трубку никто не снял, а с Коткиного номера переадресация шла прямиком на голосовую почту. Подождет Ксандра. Мы с Поппером вернулись на южную сторону, у уличного торговца, который как раз сворачивался на ночь, я купил три хот-дога (один Попперу, два себе) и, пока мы ели, сидя на укромной лавочке за Воротами Ученых, я прикидывал, что делать дальше.
Когда я, сидя в пустыне, рисовал себе Нью-Йорк, то иногда в моих извращенных фантазиях мы с Борисом жили на улице, где-нибудь в районе Сент-Маркс-плейс или Томпкинс-сквер, даже, наверное, стучали кружками для милостыни, стоя рядом с теми самыми скейтерами, которые в свое время свистели нам с Энди вслед, когда мы шли мимо в своих школьных пиджачках. Но в реальности, когда в одиночестве торчишь с температурой на ноябрьском холоде, перспектива заночевать на улице оказалась куда менее привлекательной.
И самая-то жуть: я был в каких-то пяти кварталах от дома Энди. Я подумал, не позвонить ли ему, может, попросить ко мне выйти — и решил, что не стоит. Конечно, если положение станет совсем отчаянным, можно и позвонить, уж он-то охотно выскользнет из дому, притащит мне чистой одежды, стянутых из мамашиного кошелька денег и — а что, кто знает — может, и горку недоеденных канапе с крабами или соленого арахиса, который вечно жевали Барбуры.
Но меня так и ошпарило этим словом — «милостыня». Энди мне, конечно, нравился, но ведь два года прошло. И я никак не мог позабыть, каким взглядом меня окинул мистер Барбур. Очевидно же, что-то случилось, что-то очень нехорошее, только я не слишком понимал, что именно — знал только, это я каким-то образом виноват в том, что источаю гнилостные пары стыда, ничтожности и постылости, от которых никак не избавиться.
Сам того не желая — я тупо пялился в пространство, — я нечаянно встретился глазами с каким-то мужиком, сидевшим на скамейке напротив. Я быстро отвел взгляд, но было поздно: он встал, подошел.
— Славный какой песик, — сказал он, нагнувшись, чтобы погладить Поппера, а потом, когда я ничего на это не ответил, спросил: — А тебя как зовут? Можно я тут с тобой присяду?
Он был тощий, маленький, но крепкий с виду, и от него воняло. Я встал, стараясь не смотреть ему в глаза, но стоило мне развернуться, чтобы уйти, как он ухватил меня за запястье.
— Ты чего? — недобро спросил он. — Я тебе что, не нравлюсь?
Я вывернулся и кинулся бежать — Поппер помчался за мной, на улицу, слишком все быстро, поток машин, ему непривычно — я едва успел его подхватить и рванул через Пятую авеню к «Пьеру». На моего преследователя, которого сменившийся сигнал светофора задержал на другой стороне, уже начали косо поглядывать пешеходы, но когда я еще раз оглянулся, стоя в безопасности в круге света, лившемся из теплого, ярко освещенного входа в отель (парочки в дорогих нарядах, швейцар высвистывает такси) — то увидел, что он снова исчез в парке.
Улицы были куда более шумными, чем мне помнилось — и куда более вонючими. Я стоял на углу, возле A La Vieille Russie[47], и меня захлестнуло знакомым, застарелым мидтаунским зловонием: лошадиный пот, автобусные выхлопы, духи и моча. Я так долго считал Вегас чем-то временным, что настоящая моя жизнь — в Нью-Йорке, но так ли это? Больше нет, угрюмо подумал я, оглядывая редеющий поток пешеходов, несущийся мимо «Бергдорфа».
Все тело у меня ныло, меня снова зазнобило от лихорадки, но я прошагал еще с десяток кварталов, пытаясь избавиться от гудящей слабости в ногах, от настойчивой автобусной дрожи. Но холод наконец меня одолел, и я поймал такси; и на автобусе можно было без проблем добраться — всего-то за полчаса, прямиком по Пятой и до самого Виллиджа, да вот только после трех суток в автобусе и думать не хотелось о том, что придется в нем трястись пусть даже еще минуту.
Идея заявиться к Хоби без предупреждения меня не радовала — совсем не радовала, потому что на какое-то время мы с ним потеряли связь, и не по его вине, а по моей — я просто перестал ему отвечать и всё. Вполне естественно, с одной стороны, с другой — небрежный Борисов вопрос («старый педик?») меня слегка отпугнул, и я оставил без ответа два или три его письма.
Мне было плохо, мне было хуже некуда. Ехать было недалеко, но я, похоже, вырубился на заднем сиденье, потому что, когда таксист остановился и спросил:«Сюда, верно?» — я, вздрогнув, очнулся и пару секунд ошалело пытался вспомнить, где я вообще нахожусь.
Когда такси уехало, я увидел, что магазин закрыт и что там темно, как будто все то время, пока меня не было в Нью-Йорке, его и не открывали вовсе. Окна зачернели от копоти, а заглянув внутрь, я увидел, что мебель кое-где затянута чехлами. Больше ничего не изменилось, разве что все старые книги и безделушки — мраморные какаду, обелиски — покрылись еще более густым слоем пыли.
Сердце у меня сжалось. Я долгих минуты две стоял на улице, пока наконец не набрался храбрости, чтобы позвонить в звонок. Я, казалось, целую вечность вслушивался в его эхо, хотя времени, наверное, прошло всего ничего, я уже почти убедил себя, что никого нет дома (и что мне тогда было делать? Ехать обратно на Таймс-сквер, искать где-то отель подешевле, сдаваться службам по делам несовершеннолетних?), как вдруг дверь распахнулась и я увидел совсем не Хоби, а девочку своих лет.
Это была она — Пиппа. Такая же маленькая (я так ее перерос) и худая, хотя на вид поздоровее, чем была, когда мы с ней последний раз виделись, лицо у нее округлилось, проступили веснушки, и волосы тоже отросли другие — поменяли цвет, структуру, перестали быть пшенично-рыжими, потемнели, ушли в ржавчину, стали чуть повзъерошеннее, как у ее тетки Маргарет. Одета она была, как мальчишка — ботинок нету, одни носки, штаны в рубчик, свитер на несколько размеров больше и безумный шарф в розовую и оранжевую полоску, какие носят разве что чокнутые бабули. Наморщив лоб, вежливо, но не слишком приветливо глянула на меня безучастным коричнево-золотым взглядом: вы кто?
— Чем могу помочь? — спросила она.
Она меня забыла, с ужасом подумал я. Ну а с чего бы ей меня помнить? Времени прошло много, да и выглядел я теперь по-другому. Это как увидеть кого-то, кого считал умершим.
И тут — протопав по ступенькам, за ее спиной, в заляпанных краской слаксах и кардигане с протертыми локтями — возник Хоби. Моей первой мыслью было: он подстригся — волосы у него стали заметно короче и заметно поседели. Лицо у него было слегка недовольное, и целый ухнувший в сердце миг я думал, что и он меня не узнал, но вдруг:
— Господи боже, — внезапно выговорил он и отшатнулся.
— Это я, — выпалил я. Я боялся, что он захлопнет дверь у меня перед носом. — Теодор Декер. Узнаете?
Пиппа быстро глянула на него — даже если она не помнила меня, имя она явно вспомнила, — и меня до того ошеломила дружеская радость на их лицах, что я расплакался.
— Тео, — он обнял меня крепко, по-родительски и так порывисто, что я разревелся еще сильнее.
Потом — рука у меня на плече, увесистая рука-якорь, рука-безопасность, рука-сила, и он завел меня в дом, провел через мастерскую, сквозь тусклую позолоту и густые древесные ароматы, которые мне снились, и дальше — вверх по лестнице, в утраченную когда-то гостиную, к бархату, вазам-урнам, бронзе.
— Как же чудесно тебя снова увидеть, — говорил он, и: — Вид у тебя измученный, — и: — Ты когда приехал? — и: — Господи, ну ты и вымахал! — и: — А волосы-то, волосы! Прямо Маугли! — и (уже с беспокойством): — Тебе не душновато? Может, окно открыть? — и, когда Поппер высунул голову из сумки: — Ах-ха! А это у нас кто?
Пиппа, смеясь, вытащила его из коробки, прижала к себе. От лихорадки у меня кружилась голова, мне казалось, что я весь раскалился и свечусь, будто решетка электрокамина, и меня до того отпустило, что я даже слез не стыдился. Я ощущал только облегчение, что наконец сюда добрался, только свое саднящее, переполненное сердце.
В кухне меня накормили грибным супом — есть особенно не хотелось, но суп был горячим, а я до смерти закоченел, и пока ел (Пиппа, скрестив ноги, сидела на полу и играла с Попчиком — вертела у него под носом помпоном этого своего бабушкиного шарфа, Поппер/Пиппа — и как же я раньше не замечал сродство их имен?), я скупо, урывками рассказывал Хоби о смерти отца и о том, что случилось. Он слушал с донельзя обеспокоенным лицом, скрестив на груди руки, и все сильнее и сильнее хмурил упрямый лоб.
— Тебе надо ей позвонить, — сказал он. — Жене отца.
— Никакая она ему не жена! Просто подружка! И на меня ей наплевать!
Но он решительно покачал головой.
— Неважно. Позвонишь ей и скажешь, что с тобой все в порядке. Позвонишь-позвонишь, — прервал он меня, когда я попытался возразить. — И никаких «но». Прямо сейчас. Сию секунду. Пипс, — на стене в кухне висел старомодный телефонный аппарат, — пойдем-ка, очистим ненадолго помещение.
Сейчас мне меньше всего на свете хотелось говорить с Ксандрой — еще бы, я же рылся у нее в вещах и украл ее чаевые, но я был до того рад оказаться у Хоби, что выполнил бы любую его просьбу. Набирая номер, я пытался уверить себя, что она просто не снимет трубку (ведь нам постоянно названивали то юристы, то кредиторы, и она никогда не отвечала на звонки с незнакомых номеров). И потому здорово удивился, когда она ответила после первого гудка.
— Ты дверь оставил открытой, — практически сразу набросилась она на меня.
— Чего?
— Собаку выпустил. Он сбежал, не могу его найти нигде. С ним, наверное, случилось что-то, машина сбила.
— Нет, — я уставился в черноту вымощенного кирпичом дворика. За окном лило, капли с грохотом барабанили по подоконникам — впервые за два года я видел настоящий дождь. — Он со мной.
— А… — в голосе у нее послышалось облегчение. И — резким тоном: — Ты где? С Борисом, наверное?
— Нет.
— Я с ним говорила — он, похоже, был укурен в хлам. Так и не сказал мне, где ты. А я-то знаю, он знает. — Там еще было раннее утро, но голос у нее был осипший, как будто она пила или плакала. — Мне бы на тебя копов натравить, Тео. Я ведь знаю, это ты и деньги украл, и все остальное.
— Да, так же как ты украла мамины серьги.
— Что…
— Те, с изумрудами. Они были еще бабушкины.
— Я их не крала, — вот теперь она разозлилась. — Да как ты смеешь! Мне их Ларри подарил, подарил, когда…
— Ага. Когда у матери моей их украл.
— Эээ, ты уж прости, но твоя мать умерла.
— Да, но украл-то он их, когда она еще жива была. За год где-то до ее смерти. Она написала заявление в страховую компанию, — перекрикивал я ее, — и в полицию обратилась тоже!
Насчет полиции я, правда, точно не знал, но — а что, вполне ведь возможно.
— Ты, похоже, не знаешь, что есть такая вещь, как совместно нажитое в браке имущество.
— Угу, конечно. А ты, похоже, не знаешь, что такое — семейная реликвия. Да вы с отцом даже женаты не были! Он не имел права их тебе отдавать.
Молчание. Я услышал, как на другом конце провода щелкнула зажигалка, раздался усталый выдох.
— Слушай, малый. Можно, я тебе кое-что скажу? Не про деньги, честно. И не про наркоту. Хотя, уж поверь мне, я в твои годы ни о чем таком даже и не думала. Ты, наверное, считаешь себя очень умным, да, в принципе, так оно и есть, но ты пошел по дурной дорожке, и ты, и этот — как его там. Да, да, — добавила она, повысив голос, — он мне тоже нравится, но парень этот — компания плохая.
— Ну, уж тебе-то лучше знать.
Она угрюмо хохотнула.
— Да, малыш, а ты как думаешь? Я и сама пару раз оступалась, так что да, уж я-то знаю. Этому едва восемнадцать стукнет, как он в тюрьму загремит, и, бьюсь об заклад, ты сядешь с ним на пару. Ну, то есть тебя-то я не виню, — сказала она, снова повысив голос, — отца твоего я любила, но толку от него было мало, и, судя по его рассказам, от матери твоей толку было тоже немного.
— Так. Все. Ты сука, — меня аж затрясло от ярости. — Я вешаю трубку.
— Нет, стой! Стой. Прости. Не надо было мне так про твою маму. Я не потому с тобой хотела поговорить. Пожалуйста. Подожди секунду.
— Секунда.
— Во-первых, если тебя это волнует — отца твоего я буду кремировать. Не возражаешь?
— Делай что хочешь.
— Тебе до него особо никогда дела не было, правда?
— У тебя все?
— Еще вот что. Где ты там, меня, честно говоря, не волнует. Но мне нужен твой адрес, чтобы я в случае чего могла с тобой связаться.
— Это еще зачем?
— Не умничай. Скоро из школы твоей кто-нибудь позвонит или еще откуда…
— Не надейся.
— …и мне нужно, ну не знаю, что-то типа объяснения, куда ты подевался. Ты же не хочешь, чтобы копы начали шлепать твой портрет на картонки с молоком.
— Думаю, это маловероятно.
— Маловер-роятно, — передразнила она меня рокочущим, издевательским тоном. — Ну, может быть. Но все равно, оставь мне адрес, и на этом разойдемся. Слушай, — добавила она, когда я ничего ей не ответил, — я тебе честно скажу, мне все равно, где ты находишься. Я просто не хочу одна тут ничего расхлебывать, если вдруг начнутся какие-то проблемы, а я не смогу с тобой связаться.
— Свяжись с юристом в Нью-Йорке. Его зовут Брайсгердл. Джордж Брайсгердл.
— А номер дашь?
— В справочнике найдешь, — сказал я.
На кухню зашла Пиппа — налить воды собаке, и я неуклюже, так, чтобы не встретиться с ней взглядом, отвернулся к стене.
— Брысь Гердл? — переспросила Ксандра. — Как это пишется? Что это за имя вообще?
— Мне кажется, ты сумеешь его найти.
Молчание.
Потом Ксандра сказала:
— Знаешь что?
— Что?
— Это твой отец умер. Твой родной отец. А ты ведешь себя так, ну, не знаю, как будто я тебе про собаку говорю, хотя что там — про собаку. Уж собаку ты бы пожалел, если б ее машиной сбило, ну — наверное.
— Скажем, я веду себя так же, как он себя со мной вел.
— Тогда вот что я тебе скажу. У вас с отцом куда больше общего, чем ты думаешь. Да уж, ты его сынок, это видно, — его точная копия.
— А ты — лживая тварь, — ответил я после краткой презрительной паузы и, как мне показалось, прекрасно подытожив этой фразой весь наш разговор.
Но потом, уже после того, как я повесил трубку, после того, как посидел, чихая и поеживаясь, в горячей ванне, и еще позже, в ярком тумане (проглотив аспирин, который выдал мне Хоби, пройдя вслед за ним в затхлую гостевую комнату — да ты с ног валишься, запасные одеяла в сундуке, всё, всё, ни слова больше, ну, я пошел), когда я уткнулся лицом в пышную подушку с чужим запахом, ее прощальный упрек снова и снова проносился у меня в голове. Это все вранье, как и то, что она сказала про маму. От одного ее сухого, сиплого голоса в телефоне, от одного воспоминания о нем я как в грязи вывалялся. Да пошла она, сонно подумал я. Она вообще за миллион километров отсюда. Но хоть я и смертельно устал — смертельнее смертельного — и не помнил кровати мягче, чем та расшатанная латунная кровать, в которой я лежал, слова ее всю ночь омерзительной струйкой просачивались в каждый мой сон.
Часть III
Мы так привыкли притворяться перед другими, что в конце концов начинаем притворяться перед собою.
ФРАНСУА ЛАРОШФУКО
Глава седьмая
Магазин в магазине
1
Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев в камине, к которому примешивались слабенькие, но неувядающие нотки скипидара, смолы и лака.
Так я пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул прямо в одежде, которая была грязной донельзя. Наконец — меня подкинуло приступом чихания — я сел, натянул свитер поверх рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы у меня ссохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать, и даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова, один клок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами, которые отыскал в шкафчике.
Господи, подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть. Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал: на челюсти синяк, на подбородке — россыпь прыщей, из-за простуды лицо отекло и раздулось — даже глаза опухли, набрякли сонно веки: лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника. Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, вытащили его, сожмуренного, из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком.
Я заспался: было уже девять. Выходя из комнаты, я расслышал звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кёхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон-плейс. Хоби сидел с книгой за столом на кухне.
Но он не читал — уставился в другой конец комнаты. Увидев меня, вздрогнул.
— А, вот и ты, — он вскочил, неуклюже сгребая в сторону гору писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской — в вельветовые штаны с пузырями на коленях и старый суглинисто-коричневый побитый молью свитер в дырах, а залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим на обложку учебника латыни Хэдли — грузный мраморный сенатор с оголившимися висками. — Ну, как самочувствие?
— Нормально, спасибо, — голос был сиплый, скрипучий.
Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня.
— Господи боже, — сказал он, — да ты у нас нынче, как ворон, каркаешь.
Это он к чему? Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который он для меня расчистил — стесняясь даже глаза на него поднять, и потому уставился на книгу: растрескавшаяся кожа, «Жизнеописание и письма» лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет, все очень печально.
Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост — и чуть не подавился: горло драло так, что и куска нельзя было проглотить. Я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть и неуклюже кинулся вытирать.
— Нет, нет, да ладно тебе, вот…
Салфетка моя промокла насквозь, я не знал, что с ней делать, растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза под очками.
— Простите, — выпалил я.
— Простить? — он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место. — Ой, да ну что ты…
— Пожалуйста, не выгоняйте меня.
— Это еще что? Тебя — выгнать? Куда я тебя выгоню? — Он сдвинул очки-половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекол. — Ну-ка, не глупи, — сказал он веселым и слегка раздраженным тоном. — Если тебя куда и надо выгнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил.
Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо.
— А, да, — сказал Хоби, когда заметил, что я смотрю в пустой угол. — Да. Видишь вот. И ведь уже глухой был как пень, и по три-четыре приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтоб он жил вечно. Я рассопливился тогда, как ребенок. Если б мне кто сказал, что Космо переживет Велти… а он полжизни протаскал этого пса по ветеринарам. Слушай-ка, — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне, жалкому, онемевшему, в глаза. — Ну, ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом думать. Вид у тебя убитый — да, да, именно такой, — твердо прибавил он. — Убитый и, прости Господи, — он слегка поморщился, — уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся, все нормально. Иди-ка, поспи еще, давай, правда, а потом мы все с тобой обговорим.
— Я знаю, но… — я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. — Мне некуда идти.
Он откинулся на спинку стула: деликатный, осторожный, чуток пропыленный.
— Тео, — он забарабанил пальцем по нижней губе, — сколько тебе лет?
— Пятнадцать. Пятнадцать с половиной.
— И, — казалось, он пытается понять, как бы это половчее спросить, — что там с твоим дедушкой?
— А-а, — беспомощно отозвался я, помолчав.
— Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?
— Ой, пизд… — это само вырвалось, Хоби поднял руку, все нормально, мол, — вы не понимаете. Ну, то есть не знаю, Альцгеймер у него там или что, но когда ему позвонили, он даже не попросил меня к телефону позвать.
— И, — Хоби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто скептически настроенный препод, — ты с ним так и не поговорил?
— Нет, ну то есть лично — нет, там была одна тетенька, помогала нам…
Лиза, Ксандрина подружка (участливая такая, все таскалась за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала на то, что надо известить «семью»), в какой-то момент устроилась в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал — и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась.
— Тетенька? — переспросил Хоби в наступившей тишине, таким голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно отсталыми.
— Ну да. То есть, — я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были слишком уж яркими, голова у меня кружилась, держался я с трудом, — Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа такая — «щас, подождите», никаких тебе: «О нет!», или «Да как же это случилось?», или там «Ужас какой!», просто: «Ща, секунду, я его позову», а потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию, он выслушал и говорит: ясно, очень жалко, но таким, знаете, тоном, как Лиза сказала. Никаких там: «Чем мы можем помочь?», ни «Когда похороны?», ничего подобного. Просто, типа, спасибо вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока. Ну, то есть я бы это и так ей сказал, — взволнованно прибавил я, когда Хоби промолчал и ничего не ответил. — Потому что, ну правда, отца-то они не любили — на самом деле не любили: Дороти ему мачеха, они друг друга с самого первого дня возненавидели, а с дедом Декером он вообще никогда не ладил…
— Ясно, ясно. Тише, тише…
— …и да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное, потому он с ним так — его арестовывали, не знаю, правда, за что, честно, не знаю почему, но они вообще, сколько я себя помню, знать его не желали и меня тоже…
— Да успокойся ты! Я же не говорю, что…
— … потому что, вот честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда, я совсем их не знаю, но у них же нет никаких причин меня ненавидеть, хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька, отцу от него здорово доставалось…
— Шшшш, ну-ну, хватит! Я вовсе не стараюсь на тебя надавить, просто хотел узнать… нет, вот что, слушай, — сказал он, когда я попытался перебить его, он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху.
— Юрист моей матери здесь. Здесь, в городе. Вы сходите со мной к нему? Нет, — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул брови, — не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует? Я с ним по телефону говорил. Перед отъездом.
— Так, — вошла Пиппа — хохоча, разрумянившись от холода, — да что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?
Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка, увидеть ее вот так, при свете дня — как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка приволакивала ногу, это у нее, скорее всего, со взрыва осталось, но то была легкость кузнечика, диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры, и на ней было наверчено столько слоев теплой одежды, что она вся была как крохотный цветастый кокон на ножках.
— Он мяукал, как кошка, — сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов, Попчик пританцовывал у ее ног, закусив поводок. — А он всегда так чудно пищит? Представляете, такси проедет, и он — ввууух! Аж взлетает! Парусил на поводке, как воздушный змей! Все просто со смеху покатывались. Да-да, — она нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове, — а кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец? — спросила она, глянув на меня.
Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтоб не чихнуть.
— Я люблю собак. — Я едва слышал, что она там говорит, так заворожило меня то, что она глядит прямо мне в глаза. — У меня есть книжка про собак, и я выучила все-все породы. Если бы у меня была большая собака, то ньюфаундленд, как Нэна в «Питере Пэне», а если маленькая — не знаю даже, никак не могу определиться. Мне нравятся все маленькие терьерчики — особенно джек-расселы, на улице они всегда самые общительные и забавные. Но я вот еще знаю одного очень славного басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный, но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы. Очень древняя порода.
— Мальтийцы тоже древние, — просипел я, радуясь, что могу ввернуть интересный факт. — Эта порода еще в Древней Греции была известна.
— Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?
— Эхммм… — я давился кашлем.
Она что-то еще стала говорить — не мне, собаке, но меня скрутил очередной приступ, чихания. Хоби быстро нашарил первое, что под руку попалось — полотняную салфетку со стола, — и сунул ее мне.
— Так, ну хватит, — сказал он. — Марш обратно в кровать. Не надо, не надо, — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку, — оставь себе. И скажи-ка, — он оглядел мою жалкую тарелку: пролитый чай и разбухший тост, — что тебе приготовить на завтрак?
В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в Борисовом духе передернул плечами: да что угодно.
— Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для горла полегче. А носков у тебя, что, нет?
— Эээ… — Пиппа — горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы — была поглощена собакой, и цвета ее смешивались и мешались с яркими красками кухни: сияют в желтой миске полосатые яблоки, посверкивает игольчатым серебром жестянка из-под кофе, куда Хоби ставит кисти.
— А пижама? — спрашивал Хоби. — Тоже нет? Ладно, поищем что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу. Так, иди, давай-ка, — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул.
— Я…
— Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу, все будет хорошо.
2
Дрожа, с гудящей головой, я прошагал обратно по темному коридору и залез под тяжелые ледяные одеяла. В комнате пахло сыростью, и хотя там было на что посмотреть — пара терракотовых грифонов, викторианские вышивки стеклярусом и даже хрустальный шар, — темно-коричневые стены и их глубокая, сухая, будто какао-порошок, гладь до краев пропитали меня памятью о голосе Хоби и еще — о Велти; радушная коричневость, которая просочилась в меня до самого нутра и обращалась ко мне любезным старомодным тоном, так что, пока меня носило по свинцовым волнам лихорадки, само присутствие этих стен обволакивало меня, успокаивало, и еще Пиппа — Пиппа отбрасывала собственный переменчивый, разноцветный отсверк, и у себя в голове я мешал рдяные листья со взлетающими во тьму искрами костра и примерял к этому мою картину — как она будет смотреться на таком густом, мрачном, скрадывающем свет фоне. Желтые перья. Вспышки багряного. Блестящие черные глазки.
Дернувшись, я проснулся, засучил в панике ногами, руками — я снова ехал в автобусе, а кто-то тянул картину у меня из рюкзака — и увидел, как Пиппа поднимает на руки сонного пса и волосы у нее ярче всего, что есть в комнате.
— Извини, просто его надо выгулять, — сказала она. — Смотри, не чихни на меня.
Я задвигал локтями, приподнялся.
— Прости, привет, — как дурак, сказал я, мазнув по лицу рукой, и потом добавил: — Мне уже получше.
Ее тревожащие коричнево-золотые глаза оглядывали комнату.
— Скучно тебе? Хочешь, принесу цветных карандашей?