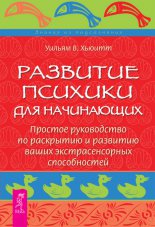Спасти Кремль! «Белая Гвардия, путь твой высок!» Романов Герман

Закрыты были большие верфи, кроме одной, простаивали многочисленные мелкие предприятия и фабрики. Пролетариат на собственной шкуре познал прелести советской власти с ее пайком из ржавой селедки, надоевшей до смерти перловой кашей, с принудительной мобилизацией и внушавшими панический ужас ревтройками.
Четыре страшные зимы пережил город, население которого за это время сократилось чуть ли не вдвое. Голод и холод, тиф, холера и другие болезни выкашивали людей, как в чумной год.
Отсутствие нефти и угля парализовало всю городскую инфраструктуру, почти не работали электростанции, давая только самую малость тока, а значит, останавливались заводы и фабрики, не работал водопровод и канализация, не дребезжали по улицам знаменитые петербургские трамваи.
Правда, большевики пытались кое-что наладить из ими же порушенного. На принудительные заготовки дров и торфа выгоняли «бывших», в категорию которых попадали все, кто до революции имел хоть какой-то достаток, – интеллигенцию, буржуазию, мещан, торговцев, бывших чиновников и служащих. Те работали хоть и неумело, но старательно, ибо смерть от голода казалась им еще горше.
Именно за нищенский паек, дававший возможность хоть как-то выжить и накормить голодающих детишек, большевикам удалось заставить население признать их власть и работать на нее. Продовольственные карточки служили тем регулятором, что отделяли живых от мертвых. Совершенно прав был Владимир Ленин, когда говорил, что тот, кто контролирует и выделяет хлеб, тот и держит власть. Потому паек давался не всем – часть «бывших» обрекли на жуткую голодную смерть.
Даже престарелая дочь Пушкина, Мария Александровна, что пришла просить хлеб к наркому просвещения Луначарскому, не получила заветные карточки.
Нет, нарком-сибарит ее не выгнал, чай, не прежний режим, – лениво пожевывая осетрину, оставшуюся от плотного обеда, он, весело поблескивая стеклами очков, созвал всех ответственных работников, дабы они вживую полюбовались на уцелевшую картинку старого мира, легенду, так сказать. А потом выпроводили старуху на улицу, не дав куска хлеба, – та просто не пережила зиму…
Но принимаемые большевиками меры были паллиативом – торф и дрова плохая замена углю и нефти, а заморенные лошадки конки совсем не чета трамваю, что ходил на электричестве. А без последнего и заводы едва теплились, работая, в лучшем случае, на одну десятую часть своих отнюдь не малых мощностей.
Диктатура пролетариата, у большей части столичных рабочих сейчас вызывала резкое отторжение. Всеобщая уравниловка, когда чернорабочий и квалифицированный токарь получали один и тот же паек, вызывала ожесточенное неприятие у той части мастеровых, которую Ленин называл «рабочей аристократией» и «прислужниками буржуазии».
Маргиналы и люмпены, массово вброшенные в годы войны в ряды настоящих пролетариев, были полностью лояльны к большевистскому режиму, ибо тот осуществил их самые заветные чаяния – работать поменьше, а лучше совсем не трудиться, зато получать побольше.
И правильно – разница всегда есть, согласно диалектическому материализму: или быть в чистой одежде, с хлебушком ситным на обед, с «наганом» в кобуре, числясь в заводском комитете, или пахать у станка, на перловке, сваренной в воде, без капли жира…
Ташкент
– Салям алейкум, почтенный! Вот так встреча – два сибиряка и снова посредине жары, только не в пустыне, а в городе!
– И тебе не хворать! Надо же – не думал, что все дороги ведут в Ташкент! Гляжу, опять русским офицером стал, а не местным курбаши, как я. И куда теперь дальше пошлют, Миша?
Вощилло усмехнулся, крепко обнимая за плечи Гордеева, обмундированного уже не в халат, а в униформу бронетанковых частей, в каковых числились и команды «БМВ» и бронепоездов.
– Прицеплю своего «Буйного» к паровозу, и потащит он нас до славного города Оренбурга!
– Так сгонял бы сам, твоя бронированная лохань по рельсам как птичка порхает! Намного быстрее бы дошел…
– Моторесурс и так не ахти, чего движки зазря гробить – в бою нужда часто припирает переменный ход применять. Ты же не будешь перелеты устраивать, свои «Либерти» напрасно гонять? На платформы «этажерки» потихоньку погрузишь и поедешь в классном вагоне, с комфортом, вино потягивая, любуясь местными окрестностями.
– С вином ты не ошибся, – засмеялся Вощилло, – с удовольствием напьемся, победа как-никак! А вот насчет аэропланов прогадал – последний исправный, как и всю матчасть, в другой авиаотряд передал. Так что налегке возвращаемся, три вагона завтра подадут. И любоваться пустынями не будем, обрыдло все, и жара, и аксакалы с саксаулами, и эти гребаные пески, век бы их не видеть!
– Вижу, достало тебя все! – Гордеев засмеялся, но, склонившись к плечу приятеля, заговорщицки зашептал: – Отдохнуть не надейся! Поступила радиограмма – идем бить большевиков… До самой Москвы!
– Да ты что?!
Вощилло выдохнул воздух, не в силах поверить услышанному – три года он не был на Волге и вот, наконец, сможет вернуться домой. Пролететь над маленьким волжским городком, разбудив его сон гулом мотора, к великой радости местной детворы.
– Ну дай бог, заждались!
– Да, время пришло, дружище! Надеюсь увидеть нашу Белокаменную без этих красных тряпок!
Командир бронемотовагона с неприкрытой ненавистью в глазах кивнул на обрывки кумачового транспаранта, свисающие с испещренной пулями водонапорной башни.
– Местных большевиков мы извели, а тех, кто разбежался, эмир передушит, как хорь курей, да на кольях рассадит и в кипятке сварит! Да и семиреченские казаки ему помогут, уж больно сильно им местный совдеп в Верном кровушку выцедил!
Вощилло скривил губы в злой гримасе. Подполковник только здесь, в Туркестане понял, насколько жестокой может быть гражданская война, когда все дерутся против всех без всякой жалости. Когда крестьяне-новоселы насмерть режутся со старожилами, избивая целыми аулами инородцев, сжигая казачьи станицы вместе с жителями. И в отместку им устраивают кровавую бойню – Восток не знает жалости, это не Россия, и жестокость в здешних местах обыденное явление.
Воспоминания нахлынули такой горькой и страшной волною, что перед глазами пошла мутная пелена. Из нее выныривали перед глазами ужасные сцены – много он здесь повидал казненных! Да еще так изуверски замученных людей, что нормальный человек чуть ли с ума не сходил. И летчик выругался, не в силах скинуть с души чудовищный груз:
– Пусть будет проклята эта война!
Петроград
Политика советской власти с самых первых дней вызвала серьезное недовольство квалифицированных мастеровых, так называемой «рабочей аристократии», вот только за чернорабочими стояли большевики. И крови они не боялись, уже в ноябре 1917 года разогнав пулеметным огнем рабочие демонстрации в поддержку Учредительного Собрания.
Дальше – больше!
Рабочих, не желающих трудиться на диктатуру пролетариата бесплатно, в порядке революционной сознательности, в затянувшемся на годы «военного коммунизма» бесконечном субботнике, просто заставили встать к своим станкам открытым террором.
Ведь всякая революция – это война, которая ненасытно требует патронов и снарядов, винтовок и пулеметов, сапог, револьверов и орудийных лафетов!
А где их взять прикажете, если все царские склады за три года советской власти порядком опустошили?!
Потому большевики учредили революционные тройки из ответственного партийца, члена трибунала и чекиста, которые, не утруждаясь даже видимостью «социалистической законности», выносили расстрельные приговоры злостным «саботажникам и лодырям». Других же просто мобилизовали и приставили обратно к станкам, но уже под угрозой смертной казни за попытку побега с предприятия.
«Рабочей аристократии», столь ненавистной Ленину, хорошо пустили кровь осенью 1919 года, когда войска генерала Юденича шли на Петроград. А заодно «почистили» город от тех, кто, притаившись, ждал прихода белых.
Расстреливали по нескольку сотен человек в день, кладя из пулеметов бывших офицеров, чиновников, профессоров и умелых мастеровых. Последних перебили бы всех – уж слишком «несознательные», но ведь кто-то должен трудиться в городе. Ведь слишком много в нем тех, кто не работает, но кушать хочет хорошо, – от партийных товарищей, совслужащих и «социально близких» до откровенной уголовщины, что все эти годы буквально процветала, как сорняк на куче навоза.
Перебить не перебили, но запугали всех изрядно, да так, что на полтора года все недовольные притаились. Но пересуды и контрреволюционные разговорчики никуда не делись, несмотря на все усилия коммунистической пропаганды.
Да и как бы они исчезли, если сама жизнь давала наглядные примеры совсем иной агитации?
Ведь как ни крути, но теперь петроградские мастеровые ни в грош не ставили все клятвенные обещания советской власти, на собственном печальном опыте убедившись, что они напоминают ледышку – сожмешь покрепче, и потечет меж пальцев грязная водица.
Вот и ходили по рукам многократно перечитываемые газеты, особенно «Беломорский вестник», благо до белой Карелии рукой было подать. Читали их рабочие и сравнивали, огорченно кряхтя. В Петрограде на двадцать миллионов рублей можно было купить на черном рынке несколько фунтов житного да с полфунта сала – но разве можно этим целый месяц кормить семью из пяти голодных ртов?! На неделю растягивали, не больше, и то по маленькому кусочку.
А в том же Петрозаводске умелые мастеровые по семьдесят целковых жалованья получали, и не бумажных, а золотом и серебром. И это при ценах 6 копеек фунт хлеба, 17 – мяса, а рыба так вообще идет задарма, благо озера и реки кругом.
Нет, отнюдь не бедствовали на белых территориях люди, всего было у них в достатке, и еды, и одежды, только лишь у большевиков всегда и везде царил голод.
Верили «вражеской агитации» почти все пролетарии, несмотря на усилия Смольного, ибо пример наглядный был перед глазами. На Адмиралтейской верфи всю зиму ремонтировали крейсер «Адмирал Макаров», эсминец «Изяслав» и подводную лодку «Гепард», отбирая у города чуть ли не половину электричества и угля.
Корабли передавались белой флотилии на Мурмане, потому с питерскими рабочими рядом работали инженеры и мастера, прибывшие с Николаевских верфей.
Трудились вместе, несмотря на строгий пригляд чекистов, вели разговоры по душам. И хотя рабочим не перепало ни капли с того золота, что большевикам заплатили за корабли, но зато кормежка тех, кто ремонтировал их, была не просто знатной. С одного котла с белыми наделялись, три раза в день, с мясом, макаронами и свежими овощами, что поставлялись поездом из Финляндии. Даже шоколад с настоящим чаем, фрукты и английские консервы давали, и пакеты для семьи раз в неделю собирали. Так какая тут нужна пропаганда?!
…И вот рабочие снова поднялись супротив большевиков, в третий раз, аккурат в Первомай. Петроград забурлил от пролетарских окраин, готовясь по-своему встретить пролетарский праздник. Заводы, на ладан дышащие и без того работавшие чуть-чуть, окончательно встали, парализованные всеобщей стачкой.
В городе ощутимо запахло грозою…
Кронштадт
– Полундра, мы за что боролись?!
Расхристанный матрос в стареньком, многократно чиненном бушлате напрасно задавал чисто риторический вопрос, поднявшись на газетную тумбу. Площадь, бурлящая тысячами голосов, заранее знала на него ответ, выразившийся во всеобщем вопле, потрясшем даже величественный купол Морского собора:
– Долой коммунистов!!!
Те из притаившихся и запуганных обывателей, что видели приснопамятный семнадцатый год, не могли поверить собственным глазам и ушам – «краса и гордость революции», а именно так называл председатель РВС товарищ Троцкий мятежных балтийских моряков, дружно поднялись против советской власти.
Кронштадт мая 1921 года разительно отличался от самого себя четырехлетней давности. В голодающем городе давно поели все запасы, заодно истребив ворон и кошек на предмет жаркого.
Матросы пережили зиму в холодных и нетопленых кубриках. Давились обычной пайковой перловкой с куском ржавой, без рассола селедки. Вприкуску с черным заплесневелым сухарем, размоченным в кипятке, ибо иначе в рот не лез. Чая, пусть даже морковного, нельзя было найти днем с огнем.
Масла в растущий огонь недовольства подливали рассказы старослужащих унтеров и кондукторов, которых на флоте раньше именовали «шкурами», но без служения которых любой корабль превращается в кучу дорогостоящего железа. Так что большевики, убедившись в 1919 году, когда на Балтике английские корабли и катера натворили балтийцам множество пакостей, в полезности и даже необходимости этого «пережитка» царского флота, оставили старослужащих на кораблях.
А зря!
Ибо матросы были совсем не те…
«Пассионарные» балтийцы еще в 1918 году убрались из кубриков, покинув корабли, как зачумленные дома. Их душу манил сухопутный фронт, возможность пограбить богатеньких буржуев в провинции, ибо столица давно была обчищена всеми желающими, начиная от чекистов и матросни и заканчивая безыдейным криминалом. Оставшихся «сознательных» списали на берег, дав в руки винтовки, в сентябре 1919 года, когда белые подошли чуть ли не к окраинам Петрограда.
Из многих десятков боевых кораблей царского флота едва наскребли дюжину тех, кто с разбитыми механизмами и машинами мог передвигаться по заливу между Кронштадтом и Петроградом, презрительно называемому «Маркизовой лужей».
Впрочем, действующий отряд кораблей Балтфлота повоевал недолго и неудачно. Два эсминца под командованием бывшего мичмана Ильина, взявшего «революционную» фамилию Раскольникова (того самого героя Достоевского, что с помощью топора отправил в «расход» старуху и присвоил нажитые неправедным путем богатства), спустили флаги, оказавшись в окружении англичан.
Еще три эсминца трагически погибли на собственном минном заграждении, а крейсер «Олег», переживший Цусиму, был утоплен торпедой, выпущенной английским катером.
Раздрай, царящий среди балтийцев, помог британцам напасть на сам Кронштадт – торпеды угодили в старый линкор «Андрей Первозванный» и в совсем ветхий крейсер «Память Азова».
Справедливости ради нужно отметить, что и наглым налетчикам досталось с брандвахтенного эсминца «Гавриил», уполовинившего огнем своих пушек английский отряд.
Ничем не проявил себя ДОТ и во время подавления мятежей на фортах «Серая лошадь» и «Красная горка» – линкоры несколько часов артподготовки стреляли из рук вон плохо.
С прошлого года на флот большевики стали направлять пополнения из мобилизованных крестьян, направляя новобранцев подальше от родных волостей, охваченных огнем восстаний против свирепствующей продразверстки.
Служить они толком не служили, ибо не было ни угля, ни нефти и котлы требовали капитального ремонта, а, забившись по холодным кубрикам, кое-как одетые, тихо злобствовали на советскую власть, что загнала их к морю да впроголодь держит, в холоде и голоде и без женской ласки, не то что при царе, ибо все проститутки давным-давно сбежали из Кронштадта. Это те, кто поумнее, почувствовав исчезновение платежеспособного элемента, ну а глупых расстреляли чекисты в профилактических целях ради сдерживания роста венерических заболеваний и «контрреволюционного разложения».
Вот тут разговоры «шкур» о тех временах, когда на столы ставили пламенеющий борщ, когда матросу полагалось три фунта ситного прибора, да фунт мяса, сахара, да прочего всякого, не перловки поганой, а макарон. А на обед и ужин выдавалось от царя-батюшки по целой чарке чистой как слеза, очищенной казенной водки.
И, словно в подтверждение, поздней осенью на «Гавриил», что на особицу в Минной гавани поставлен был для передачи на Мурман, как наиболее пригодный, команда черноморцев из Севастополя прибыла, с офицерами. И хотя им отдельный дом для проживания выделили и охрану из чекистов поставили, чтобы вредительские разговоры пресечь, но на что людям глаза даны?
Всю зиму «беляки» в тепле провели, целый транспорт уголь и нефть доставил, с припасами разными. Службу вели как по часам, каждое утро с торжественного развода, ибо Андреевский флаг большевики категорически запретили поднимать. И с мастеровыми рядом трудились, машины перебирая да ремонт производя, а потому разговоры по всему Кронштадту пошли, будто волны прибоя. Кормили «гостей» как на убой, запахи одуряющие разносились на всю округу, подтверждая этим рассказы «шкур».
И кто тут устоит перед таким соблазном, ведь недаром считают, что ностальгия, память короче, имеет сильнейшее воздействие на психику. Так что взрывоопасный материал на стоящих у стенок кораблях, ощетинившихся башнями с длинными орудиями, копился всю зиму.
И оказалось достаточно только одной искры, чтобы вспыхнуло восстание. А ею послужило сообщение о том, что в Петрограде началась всеобщая стачка и большевистские заправилы из Смольного отдали приказ подавить выступления рабочих свинцом и штыком…
Москва
– У меня такое ощущение, Глеб, что мы сидим на пороховой бочке, а фитиль уже догорает! И скоро рванет…
– Ты меня удивляешь, Лев! – Бокий чмокнул губами, демонстрируя недоверие, и с горячностью заговорил: – А по мне, дела идут не просто хорошо, отлично! О лучшем и мечтать нельзя!
– Ну-ну! – хмыкнул Мойзес, изуродованные губы открыли жуткий оскал, на который невозможно было смотреть без содрогания – Бокий снова не выдержал и отвел глаза в сторону, хотя уже попривык за эти годы к облику и манерам своего подчиненного.
Но это официально – на самом деле начальник давно попал под влияние, и тут он нисколько не обольщался, страшного товарища, что играл в их тесном кругу первую скрипку. Связываться с ним, тем более попытаться открыто конфликтовать Бокий зарекся – колдун наводил на него тихий ужас до дрожи в коленях.
– Слушай, я тебя не узнаю! Ты объездил весь юг, привез точные сведения, в которых сам же начал теперь сомневаться. Да что с тобою?!
– Маята сплошная! – угрюмо произнес Мойзес. – Ныне четвертый Первомай уже встречаем, на улице тепло, солнце светит, транспаранты кумачовые везде… А вернулся в кабинет, словно в склепе оказался!
Бокий с интересом осмотрелся, будто увидел свое рабочее помещение в первый раз. Грязные, давно не мытые окна, прикрытые плотными шторами, забитыми пылью, добротная, но поцарапанная мебель, на столешнице бурые разводы, да еще покарябанный пол с разбросанными окурками – все это действительно наводило уныние. Да еще затхлость воздуха, что чувствовалась с порога – непередаваемая смесь табачного дыма, вони, крови и навечно слившегося со стенами животного страха.
– Да, помыть бы не помешало! – Бокий сморщился лицом от омерзения. – Нынче баб пришлю, пусть моют и чистят наши Авгиевы конюшни. Весна пришла, пусть и здесь будет светло. Загадили мы с тобой помещение, смердит дрянью из всех углов…
– Ничего страшного! – усмехнулся Мойзес. – Еще один французский король однажды сказал, что ничто не пахнет так хорошо, как труп предателя и врага. Не обращай внимания, это все мелочи, а для буржуев безразлично, где их в расход выводить будут.
– Тебя не поймешь, Лев, – то одно не нравится, то другое! – Бокий резко наклонился над столом. – Я вчера был в Полевом штабе – там меня уверили, что никаких серьезных приготовлений к наступлению белые уже не ведут. И это согласуется с имеющимися у меня сведениями, как и данными агентурной разведки. Более того – стрелковые дивизии на юге и в Сибири едва укомплектованы на треть! А чтобы воевать с нами, нужно их вначале отмобилизовать. Ведь так?!
– Верно! – Мойзес весело оскалился. – Я и сам смогу тебе доказать, что наступления в мае или даже в начале июня не будет! Фомин не лгал, я бы это сразу заметил. Но тут дело в ином…
– Так в чем?! Что тебя беспокоит?!
– Когда все слишком хорошо, то это уже не хорошо! – жутко осклабился Мойзес, его единственный глаз сверкнул адским пламенем так, что Бокий отшатнулся на спинку стула и, скрывая страх, закурил папиросу.
– Смотри, что получается, – беляки корпуса к демаркационной линии пододвинули. Но назначенные на 5 мая сборы запасных, что само по себе является скрытой мобилизацией, не просто отменили, но еще объявили, что в этом году проводить не будут, дабы провести спокойно и посевную, и уборочную. И вот это уже интересно…
– Еще как! – хмыкнул Бокий, весело глядя на нахмурившегося собеседника. – Это одно говорит о том, что воевать они не станут. Да, дивизии свои пододвинули, но так французскую помощь и отмененные займы отрабатывать надо. Вот и давят на нас угрозой нападения, видно, думают, что убоимся мы, с запада войска обратно перебрасывать начнем. А на самом деле выходит полный пшик!
– Ты дальше доводы свои приводи, а я подумаю над ними… – пробормотал Мойзес, задумчиво постукивая пальцами по столешнице.
Бокий воодушевился и заговорил напористо, для большей убедительности даже хлопая себя ладонью по груди:
– Если нападут, то сами сорвут свою же мобилизацию – их крестьяне и даже казаки воевать не станут, да и у царька репутация в их глазах станет изрядно подмоченной. Они верить Михаилу перестанут! И еще одно – свадьба императора назначена на август – так?! И что же будет с ней?! Далее – у нас два миллиона бойцов, у них всего двести тысяч, пусть и лучше вооруженных. И как они без мобилизации воевать с нами будут?
– Убедительно, ничего не скажешь. Помолвка была, теперь свадьба, после нее «медовый месяц» – когда воевать прикажете?! А Франция… Да черт с ней, как мне говорил Арчегов. Похоже на то, что они оставили ее на растерзание, как французы с англичанами не помогли царю Николаю в пятнадцатом году. Но если долг платежом красен, тогда зачем столь демонстративно перебрасывать на север неукомплектованные дивизии и при этом громогласно отказываться от мобилизации? Что, в Париже и Лондоне одни набитые дураки сидят и до сих пор не поймут, что их за нос водят, чиня разные отсрочки и пустые отговорки?
Мойзес прикусил нижнюю губу, зубы оскалились, как у вампира, но чекист замолчал, продолжая так же задумчиво барабанить по столу. Этот звук раздражал Бокия, но он решил не обращать внимания и стал так же напористо приводить другие аргументы:
– Да так оно и есть, Лев! Ты газеты иностранные читаешь, а там много чего интересного почерпнуть можно! Где их ударники и гвардия? В Молдавии, от румын ее прикрывают! Еще «цветные» на Кавказе против турок воюют! И за бухарского хана кто дерется, я тебя спрашиваю?! Жаль, телеграфной связи с Ташкентом нет, но в английских газетах написали, что бухарцы разбиты нашими под Самаркандом, а турки Кемаля хорошо потрепали кавказских стрелков Юденича и даже отбили Эрзерум. Так что насчет того, что белые стали сильны, сомнения большие имеются!
– Нет, что-то здесь не так…
– Согласен, но ведь странно как-то выходит насчет их будущего наступления на Москву! Вместо того чтобы силы в единый кулак собрать да по нашему южному фронту ударить, они, словно голодные собаки, куски рвут совсем в других местах, торопятся так, словно боятся, что потом им ничего не дадут сделать! Да что ты такой хмурый?
– Слишком все просто выходит! – пробормотал Мойзес, угрюмо зыркнув глазом. – Такое ощущение, что кругом тишь и благодать, угрозы нет ни малейшей, все кругом успокоились. Хорошо как – конармия Буденного ворота в Париж проломила, войска Егорова в Вене биваки разбили, скоро в Италию ворвутся да в Венгрию. У Фрунзе два миллиона бойцов под рукою, сила несметная, чтобы сломить ее, не меньше нужно штыков. А белые крохоборством занимаются, войска разбросали, границы империи расширяют… Слишком просто, а потому и тревожно!
– Чего нам тревожиться? – вскинулся Бокий. – Они нам даже не мешают восстание на Тамбовщине гасить, а кулацкие бунты мы, почитай, везде подавили. Мировая революция идет, Лев, не это ли энтузиазм пролетариев возбуждает постоянно. Боятся они нас, вот и не дергаются, ждут, когда силы растратим в походе на запад, и лишь после этого воевать начнут. Не раньше осени, скорее под зиму! А до того даже не дернутся!
– Не дернутся… – Мойзес отозвался эхом, его взгляд растерянно блуждал по комнате, не останавливаясь ни на чем. Казалось, что своими мыслями чекист ушел далеко вглубь и не скоро вынырнет из размышлений.
Бокий успокоился, закурил и, развалившись в кресле, почувствовал приятную расслабленность. А потому разъяренное шипение Мойзеса буквально подбросило его из мягкого сиденья, и волосы тут же стали дыбом.
– Все правильно, все верно – тишь и благодать! Опасности ведь никакой, ведь так?! Все успокоились, расслабились… А ты знаешь, когда полное затишье наступает?
– Что ты хочешь сказать?
– Затишье бывает перед бурей! Белые уже нынче нападут, с Первомаем нас поздравят! Ну Арчегов, ну бестия, – несмотря на злобу, в голосе слышалось восхищение, причем искреннее, – обманул нас и все предусмотрел! В марте взвел нам нервы, в апреле отбой дал – провел за нос! Обманул их превосходительство, а я ему в последние дни поверил! Это – наш страшный враг, он генерал иного времени, потому воюет по-своему…
– Ты чудишь, Лев, какое нападение?! – Бокий оторопело взирал на побагровевшее лицо Мойзеса. – Ведь мобилизацию провести вначале нужно, и лишь потом…
– Потом суп с котом есть с тобой будем. – Глаз Мойзеса вспыхнул угрозой. – Белым не нужно проводить мобилизацию, ее провели за них! И знаешь кто? Да мы сами!
Кронштадт
– Братишки, что же это мы?! Спокойно смотреть будем, как комиссары юшку рабочим пускают?!
Очередной выкрик лег на уже подготовленную почву, матросы замахали руками, а потом единодушно выкрикнули:
– Долой коммунию!!!
Стравив пар, площадь снова забурлила, как котел с варевом, поставленный на открытый огонь. Выкрики и предложения летели с разных сторон, сопровождаемые солеными словечками, до которых на флоте всегда находились мастера.
– Мы за советскую власть, мужики!
– Она ныне народная! Но без большевиков!
– К бисовой матери коммунистов!
– На клюз их надеть!
– Гы…
Залезший на тумбу степенный матрос имел бороду, которая говорила о том, что сей «пенитель морей» недавно пахал землю.
– Мы все за советскую власть, ибо она народная. Но без коммунистов, что присвоили себе все. За шкварку комиссаров да об пенек. Не нужны они нам, хватит, наслушались сладких песен! Мы гнилую солому с крыш скоро есть начнем!
– Правильно!
– Верно!
– Но буржуев нам не нать!
– Коммунистам пряники, а нам сухари червивые?! Не надоть такой власти, против хлеборобов она!
– Без царя жить тяжело. – Степенный бородач старался перекрыть крики матросской массы. – Вона как на юге или в Сибири – они там все за царя и советскую власть. Хорошо зажили все, припеваючи! А буржуев там днем с огнем не сыщешь!
– Правильно!
– Мы за царя Миколу! Наш он, мужицкий!
– Не надо царя! Все они добрые, тока прижмет…
– Ты чего драться лезешь, морда!
Как всегда происходит, мнения разделились, а это предвестие доброго мордобоя. Страсти накалились, но тут с немалой сноровкой, что говорило о большой практике старослужащего, на тумбе появился матрос и, сжимая в крепкой ладони бескозырку, стал размахивать рукою, словно грозя засевшим в Смольном большевикам:
– Я с «Петропавловска» и так скажу, братишки! С царем будет советская власть либо без царя, потом посмотрим. Если Михаил оправдает надежды, то примем его. Вот только коммунисты ни царю, ни советской власти никак не нужны – вражины они, много народной кровушки пролили!
– Гады!
– Собрать в мешок да утопить!
– И Ленина их, картавого…
– Тихо вы, дайте досказать! – Матрос драл горло, как боцман к побудке в старое время. – Нечего нам болтать, дело нужно вершить! Власть выборным дадим, от каждого корабля, это раз!
– Верно! – поддержали многие голоса, а матрос продолжил, уверенно взмахнув рукою:
– Всех коммунистов, комиссаров, чекистов, трибунальцев и прочих судить нужно, а пока под стражу взять да посадить, да хоть в погреба «Павла», там все равно снарядов нет, или в форт. Пусть охолонятся да подумают, как грехи свои замолить! Это два! И незачем самосуд вершить, мы не комиссары, чтоб по оговору кровь лить…
– Верно!
– Гы…
– Да тихо вы!
– Правильно!
– В Питере народ наш стреляют всякие латыши и китайцы! А мы здесь сидим на что?! Вывести корабли в Неву, те, кто ход дать сможет, да залупить из главного калибра по Смольному, чтоб по кирпичику распался! Нечего нам сидеть, к бою готовиться нужно, пока наших братьев не перебили!
Выкрикнув последние слова, матрос спрыгнул с тумбы, на которую тут же влез солдат в большой, не по росту, гимнастерке и помятой фуражке. По толпе тут же прошли смешки.
– Братцы! – громко крикнул солдат, и матросы засмеялись, посыпались комментарии – «пехтуру сразу видно, у них все братцы, это только матросы братишки», но перебивать оратора не стали.
– Я из форта «Серая лошадь». Мы давно готовы восстать, и другие форты ждут. Высаживайте десант немедленно, а то коммунисты опомнятся и нас всех перебьют.
Площадь снова взорвалась, забурлила, вот только уже явственно чувствовалась чья-то направляющая воля, ибо матросы стали организованно сбиваться и чего-то ожидать. Они хорошо знали, что смогут противопоставить петроградским большевикам, – два линкора, крейсер, несколько эсминцев и с десяток мелких кораблей представляли собою грозную силу.
– Матросы!
Площадь невольно ахнула, глядя, как на тумбе встал во весь рост моряк в черном кителе, но с золотыми погонами на плечах. И не простой офицер, целый адмирал с тремя черными орлами.
– Те, кто меня помнит по Минной дивизии, знают, что я ставил с вами банки у Мемеля, мы вместе ходили в торпедные атаки, глотали соленые воды Балтики! Вы мои боевые товарищи, много раз смотревшие в глаза смерти. Я адмирал Колчак…
Петроград
– Кута итете?! Фы – фраги мирофой рефолюции! – с сильным акцентом произнес латышский командир в суконной гимнастерке, уверенно выйдя на брусчатку перед тысячной колонной рабочих Охтенской пороховой фабрики. Уверенно так вышел «интернационалист», чувствуя за собою немаленькую силу в виде бронеавтомобиля «Остин» с двумя пулеметными башнями и полуроты «латышей». В них стали зачислять уже всех иностранцев от венгров до китайцев, ибо настоящих ландскнехтов революции к этому времени сильно повыбили.
– Стоять, сукины тети!
Латыш выкрикнул, и тут же на пулеметном рыльце «максима» заплясал огонек, пули выбили брусчатку прямо перед ногами валящей вперед толпы – закричали раненые, на секунду воцарилась тишина. И неожиданно раздался глухой рык доведенных до отчаяния людей:
– Твари!
– Почто народ тираните?!
– Суки красные!
– Чтоб вам самим кровью умыться!
– Мы за советскую власть!
Но свист пуль сделал свое дело – толпа остановилась, да и задние ряды перестали напирать. Не стойкие духом рабочие по одному, потом и кучками стали разбегаться по подворотням, но оставшиеся, а их было во много раз больше, продолжали глухо роптать.
Но все прекрасно понимали, что ничего не выйдет. Коммунисты успели подготовиться – мосты или развели, или поставили на них пулеметы, все главные пути в центр города перекрыли надежными заслонами, кое-где уже была слышна стрельба, злая, но короткая. А это говорило о том, что в других местах уже силою разогнали бунтующий пролетариат.
Здесь будет то же самое – справа темная свинцовая гладь Невы, по которой белыми одинокими островками идут льдины, слева вытянулись дома с предупредительно запертыми дверями парадных. Если начнут палить из пулеметов, то выкосят всех разом.
Так что остается только возвращаться на завод, который моментально окружат преданные большевикам части, а затем проведут «фильтрацию» на предмет выявления «контрреволюционеров» со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Злостных контрреволюционеров» поставят к стенке и выведут в расход, остальных мобилизуют, ибо Западный фронт, откатывавшийся под ударами рейхсвера к Эльбе, требовал боеприпасов в огромном количестве. А без пороха патронов не бывает…
– Пропускай к Смольному!
– Давай Зиновьева-жида, мы с ним по-рабочему говорить будем!
– Хватит коммунистам от лица советской власти говорить! Пусть народ сам свою волю вершит!
Пролетарии глухо роптали, уходить, как побитые собаки с поджатыми хвостами, мастеровые не желали из-за гордости и отчаяния перед неизбежной расправой. Все понимали, что вместе они сила, а поодиночке заводчан передушат, как курей.
– Всем неметленно ухотить! Или мы путем стрелять!
Комиссары уже давно не уговаривали рабочих не поддаваться на агитацию приспешников мирового империализма, кому ж охота вдругорядь битым быть. Потому говорил только латыш, с этими никак не поспоришь, лить кровь они мастера, причешут всех из пулемета и не поморщатся, даже улыбок не будет. Все прекрасно знали, что жалости никому не будет. Наемники относились к карательным акциям как к нужной и неизбежной работе, выполнил которую и забыл.
– Считаю до трех, потом путем стрелять!
Голос латыша был полон спокойной и деловитой жестокости, угроза была настолько явственной, что рабочие попятились. Но задние ряды опять начали напирать на передних, а потому образовалась толчея. От «латышей» фабричных отделяло метров пятьдесят, вроде рядом почти, но не пройти их под стальным ливнем, даже если разом броситься.
– Раз!
Какие тут шутки – первые ряды охтенцев дружно попятились, только отступать было некуда. Навалившийся страх сковал мышцы, хриплая ругань сама вырывалась из глотки.
– Тва! – с той же холодной жестокостью произнес латыш и поднял руку, вот только отсчет доводить не стал, а с удивлением посмотрел на Неву. Там, вниз по течению, прямо к ним надвигался военный корабль, ловко обходя плывущие большие льдины и обгоняя их. Красный узкий флаг трепетал на стеньге, у бакового орудия застыл расчет, пулеметы с мостика направлены на забитую людьми набережную.
– Это же «Украина»! – раздался удивленный голос рабочего, явно знакомого с флотом. – Откуда она здесь, она же на Каспий ушла?!
– Да и навигацию еще на Ладоге не открывали… А вон еще один минный крейсер идет! Тоже пушки на нас направил…
Не нужно было гадать, что сейчас произойдет, – «латыши» оживленно засуетились, предчувствуя зрелище расправы, в которой им предстоит стать зрителями. Их командир с радостью посмотрел на красный флаг и даже помахал рукою, приветствуя военморов.
Рабочие стали падать на мостовую или втискиваться в проулки – кому ж охота под убийственный огонь в упор попадать. Лишь немногие, знакомые с морской службой не понаслышке, с удивлением смотрели на два небольших угольных эсминца, трубы которых извергали густые клубы дыма. Что-то было в них насквозь неправильное, непривычное. Да и стеньговые красные флаги означали скорее готовность к бою, а не символ революции. А вот на корме так вообще что-то белеет…
Латыш все держал поднятую вверх руку, когда на баке первого эсминца оглушительно рявкнула пушка. Снаряд пролетел почти над самыми головами людей, многие от страха даже упали на брусчатку, и, проломив борт броневика, будто гнилой картон, отбросил железную махину в сторону и тут же исчез в огненной вспышке.
Взрыв потряс набережную, повалив людей. Осколки и стальные обломки секанули по латышам, досталось и стоящим в отдалении рабочим. И тут же пулеметы эсминца открыли стрельбу по латышам, что пребывали в полном остолбенении и от ран, и от удивления. Послышалась даже хриплая ругань на доброй дюжине языков.
Спасительный стальной смерч смахнул на мостовую «интернационалистов», открыв дорогу охтенцам. И только сейчас с их глаз словно пелена упала – они разглядели на матросских форменках и офицерских кителях давно забытые погоны. А на корме гордо реяло, забытое за годы советской власти, белое полотнище с косым синим крестом – Андреевский флаг…
Бремен
– Ваше высочество, сейчас идет гражданское противостояние, а это совсем иное дело, чем обычная война. А потому обычные мерки здесь неприменимы!
Шмайсер снова улыбнулся, словно голодным волком оскалился, и кронпринц отвел взгляд. Фридрих-Вильгельм чувствовал искреннюю привязанность и одновременно странную зависимость от этого «гостя из будущего», как он мысленно называл.
Гауптман не испрашивал у него наград или денег, был совершенно равнодушен к чинам и должностям – а ведь это составляет основной поступательный момент в карьере любого военного и служит удовлетворению честолюбия.
Нет, Шмайсер довольствовался постом даже не адъютанта в небольшой свите при главнокомандующем и фактическом регенте, а самого обычного офицера для поручений, правда, будучи при этом непосредственным начальником для десятка офицеров и унтеров, прикрепленных к нему для отправления обязанностей по настойчивой просьбе.
Фридрих-Вильгельм удовлетворил это желание и с этого времени самым пристальным образом наблюдал за работой самого таинственного отдела в его личной канцелярии. И вскоре понял, что скрывается за изнанкой событий, для чего ему хватило лишь умения сопоставить детали и восстановить цепь событий.
Вначале кронпринц ужаснулся – в голове не укладывалось, как можно убивать тайком, руководствуясь некими соображениями. Но после откровенного разговора со Шмайсером он уже не мучился морально, полностью приняв железное правило политической целесообразности. И сам искренне восторгался деятельностью своего энергичного «тайного советника» – всего за каких-то девять месяцев своего пребывания в Германии, а именно такой срок отведен природой для вынашивания нового человека, гауптман создал целую тайную организацию, разветвленную, активно действующую и с серьезными источниками финансирования.
Таинственная «служба военного и политического контроля» выбрала своей целью физическое устранение всех противников восстановления рейха и возвращения кайзера на престол могущественной империи Европы, подло разрушенной ее врагами, тайными и явными, внешними, но главным образом внутренними, предательство которых, на взгляд кронпринца, погубило страну.
Против таких действий Фридрих-Вильгельм не возражал, прекрасно понимая, что, насильственно убрав оппонентов и противников, гибель которых он поначалу воспринимал какими-то нелепыми случайностями или счастливым стечением обстоятельств, Шмайсер расчистил перед ним дорогу к престолу.
Теперь его верховенство уже никто из политиков и генералов не оспаривал, признав за фюрера германского народа, борющегося против большевизма, разрушающего все устои традиционного общества.
Капитан оказался прав – он стал знаменем, под которое стекались тысячи людей, взявших в руки оружие. За само древко цепко ухватились крепкие руки промышленников и финансистов – в деньгах, и не в обесцененных марках, за баул которых можно было купить буханку хлеба, а в нормальных, с золотым обеспечением – фунтах стерлингов, долларов или франках – отказа уже не было.
Транспорты с вооружением и боеприпасами из Англии, Франции и далекой Америки за последние две недели пошли беспрерывным конвейером, благо низовья Рейна и Эльбы, от Кельна до Гамбурга, находились под контролем рейхсвера. А потому сокрушение красных уже не казалось недостижимой задачей, и взятие Магдебурга позволяло надеяться на скорое продвижение армии к Лейпцигу. Захват этого города приводил к разрыву живительной пуповины двух большевистских фронтов, наступавших на западе и юге, с советской Россией…
– Главный оппонент моего «брата» Мики, господин Ульянов-Ленин хорошо подметил, что социализм есть учет и контроль. Вот этим делом вы, Андреас, и займетесь. Я решил узаконить вашу деятельность при моей особе! – Фридрих-Вильгельм выделил голосом последнее слово и заметил, как радостно вспыхнули глаза «советника». – Негоже вам возглавлять «службу военного и политического контроля» в столь незначительном чине, бывшем у вас прежде, герр оберст-лейтенант. И не нужно благодарить, я лишь в малой степени воздал должное вашей деятельности. Вводить в курс дела не стану, вы сами хорошо знаете свои обязанности.
– Яволь, мой кайзер, учет и контроль – самые важные функции для рейха… – Глаза новоиспеченного подполковника сверкнули, указательный палец правой руки демонстративно согнулся, будто нажал на спусковой крючок «парабеллума». – Особенно контроль…
Марна
– Проклятая река! Мы в третий раз приходим к ней и вновь наступаем на старые грабли!
Гудериан пылал самым праведным гневом, перемешивая корявые русские слова с отборной немецкой руганью. Он с ненавистью посмотрел на узкую синюю ленту речушки, что уже в который раз ломала даже самые верные планы германцев.
Впервые это произошло в сентябре 1914 года, когда заходящие севернее Парижа корпуса фон Клука напоролись на встречные контратаки французов, которые одновременно стали охватывать его правый заходящий флаг. Пришлось отступить, победа над противником до начала осеннего листопада, как обещал кайзер, превратилась в мираж – война стала позиционной, затяжной, совсем не такой, как раньше. Так случилось то, что французы назвали «Чудом до Марне».
Вторую попытку немцы предприняли весной 1918 года, перейдя в решительное наступление последними собранными для удара силами. До Марны армии кронпринца Фридриха-Вильгельма дошли на последних каплях воли и сил. Там они напоролись на мощные контрудары – «вторая Марна» окончательно развеяла иллюзии, и всем стало ясно, что Германия потерпит поражение в войне, вопрос только во времени.
И вот спустя три года Гудериан снова добрался до Марны, на этот раз с восточной стороны. Майор заранее предвкушал победу, прекрасно видя, что «паулю», те самые герои Вердена, ожесточенно сражавшиеся за каждый метр земли, теперь совершенно не желают сражаться против своих классовых собратьев – русских, французов и немцев. На одном дыхании конница Буденного добралась до Марны…
И тут произошло невероятное – бегущее к Парижу воинство исчезло в одночасье, занявшие вместо них фронт солдаты начали сражаться с невиданным прежде ожесточением.
Лихой наскок красной кавалерии был отбит, начались тяжелые позиционные бои, которые могли окончиться только катастрофой для наступающих – подкрепления не поступали, а подача боеприпасов и снаряжения совершенно прекратилась.