Игра слов Лекух Дмитрий
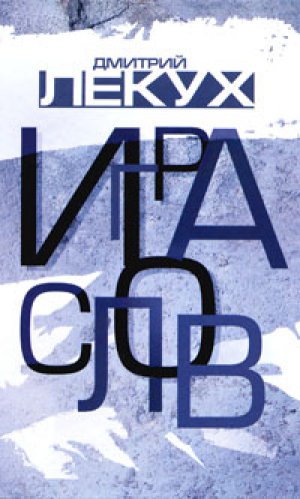
Молча залезли на самую высокую башню деревянного детского городка – самое что ни на есть, еще со школьных времен, любимое место.
Там лавочки еще такие вдоль стен, и даже подобие столика из досок в центре.
Очень удобно, врать не буду.
Мы там в десятом классе даже в преферанс играть умудрялись…
…Раскрывает дипломат, достает оттуда бутылку водки, целлофановый пакет с бутербродами, для верности еще и завернутыми в фольгу.
Два небольших граненых стаканчика-лафитничка.
Еще один целлофановый пакет, со скрюченными солеными огурцами, маринованным чесноком и черемшой.
Явно с рынка.
Ставит на стол.
Нет, ну ни фига себе.
Смотрит на меня внимательно, потом морщится.
– Мать, – вздыхает, – дала. А батя водку выделил. Из своих «стратегических запасов»…
Я – сначала не понимаю.
Потом – холодею.
Похоже, – у него какая-то беда.
И – серьезная.
Или у меня…
Просто его мать – даже запаха спиртного не выносит, ей реально плохо от этого становится.
У нее просто муж в свое время здорово пил.
Ну, Бобов отец, в смысле.
Потом, правда, завязал.
Насмерть завязал, по-мужски.
Но, как сам Борька рассказывал: у его родаков к спиртному по-прежнему о-о-очень сложное отношение.
И очень личное.
А тут – такое…
– Давай, разливай, – командует. – А то у меня, извини, руки трясутся…
И – замолкает, упорно отводя беззащитные, как у всех сильно близоруких людей, глаза в сторону.
– Да что тут происходит?! – взрываюсь. – Может, ты мне для начала просто тупо скажешь, что тут такое случилось, наконец?!
– Скажу, – отвечает почти спокойно. – Только ты сначала разлей…
Ну, делать нечего.
Разливаю…
– Давай, – поднимает стакан.
А руки – и вправду дрожат.
И – сильно.
Именно, что – дрожат, а не, скажем, «подрагивают».
– Давай, – повторяет, – помянем. Помянем всех тех, кто умер вчера. Молча. И ты тоже молчи. Просто помянем, и все. И – не гляди на меня так. Сначала мы выпьем, а потом я все тебе объясню…
Вообще ничего не понимаю.
Но водку – пью.
Залпом, не чокаясь.
Ощущая, как она обжигает пищевод, прожигая дорогу через мамину гречневую кашу с чуть кисловатым молоком из треугольных магазинных пакетиков.
Были в те времена такие, да…
Просто чувствую: так надо.
И – все дела…
Горькая, зараза.
Злая.
Нюхаю рукав, морщусь.
Не доводилось еще так, честно говоря.
Еще и девяти утра-то нет, ага…
…А Боб – наливает еще по одной.
Теперь – сам.
Молча выпивает, и я, так же молча и покорно, следую его примеру: случилось что-то страшное, и мне, привыкшему играть в слова, сейчас, наверное, – лучше просто помолчать…
Боб достает свои вечные папиросы, закуривает.
Была такая мода в те нелепые времена: вполне обеспеченные и успешные люди кашляли, давясь этими грубыми простонародными папиросами.
Я – распечатываю «явскую» «Яву».
Мне – на моду насрать.
Шмотки, конечно, забугорные люблю, как любой советский студент, но – чтобы вот так, по мелочи?
Неинтересно.
Молчим.
Курим.
Я, уже самостоятельно, разливаю по третьей.
А что?
Раз уж начали…
– Знаешь, – вздыхает наконец, – почему нас вчера так долго на трибуне мурыжили, а потом еще и через другой выход выводили?
Поднимает наполненный мною лафитник, смотрит сквозь водку и стекло на розовое утреннее осеннее солнце.
Потом – выпивает.
Качаю головой, но все-таки присоединяюсь.
– Нет, – морщась, выдыхаю переполненный водочными парами воздух. – Не знаю. А что?
– Да там, – досадливо кривится.
Потом машет рукой.
И продолжает, почти спокойно, только глаза за толстыми стеклами очков почему-то – тоже совсем стеклянные.
Стекло за стеклом.
И – никакой жизни.
Кажется, мы это уже проходили…
– Помнишь, – спрашивает, – народ незадолго до конца к выходам потянулся?
Киваю.
Еще бы не помнить.
Чуть ли не каждый раз такая картина.
Злит, если честно.
Ты сюда болеть пришел?!
Ну – так и болей!
И какое ты право имеешь уходить «чуть пораньше», когда команда, чтоб тебе сделать хорошо, прямо перед твоими глазами на поле умирает?!
А эти…
…Хотя вчера, повторюсь, там и вправду было – просто нереально холодно и промозгло.
– Ну вот, – вздыхает. – А потом Серега Швецов банку положил. Они обратно и рванули. И – два встречных потока…
– И что?! – напряжение, кажется, уже звенит в воздухе.
Он опять разливает.
Уже по четвертой, так, на секундочку.
– И все, – морщится, глядя в стакан. – Ступени – обледенелые. Менты для своего удобства часть выходов перекрыли на хер. Давка. Больше шестидесяти человек только трупов. Раненых – «скорые» не справлялись. Из наших: Серега, Вовка, Мишаня. И…
У него перехватывает горло.
Я понимаю…
…Она ему – всегда нравилась.
И он ей.
Хоть и был наш Боб конкретным реальным мажором, а она – девочкой из обычной рабочей семьи.
Но дело – даже не в этом.
У их отношений не было обозримого будущего: ее парень был нашим хорошим товарищем.
Он-то нас с ней и познакомил.
А в те времена увести у своего друга девчонку старомодно считалось подлостью.
Я, кстати, – и до сих пор так считаю.
Но я сам из тех, ранешних времен, мне простительно…
…А тогда ребятам только и оставалось, как переглядываться и робко улыбаться друг другу.
А теперь – и улыбаться-то больше некому…
– Это точно?! – кричу шепотом.
Он медленно кивает.
Он не может не знать – у него мама на телевидении…
…Водка медленно тянется по пищеводу, и мне почему-то хочется поскорее проблеваться.
Но я – пока просто закусываю.
Маленькой розовой долькой маринованного кавказского чеснока.
А потом – меня все-таки выворачивает.
К счастью, успеваю перегнуться через перила, и содержимое желудка летит не на площадку, где мы находимся, а на улицу, – вниз, в грязный осенний снег.
Вытираю рот скомканным носовым платком, закуриваю новую сигарету.
Оборачиваюсь.
Он – как-то удивительно, прозрачно спокоен.
Как человек, только что принявший какое-то очень важное для себя, нужное, хотя и тяжелое решение.
– Мы сейчас вот эту бутылку добьем, – говорит, чуть растягивая слова и разливая остатки по лафитникам, – и ты иди, Дим. Возьми еще одну бутылку себе, и иди. Просто ты мне уже помог, а сейчас мне лучше будет одному побыть. Извини…
…Когда я уходил в сторону метро, я пару раз все-таки оглянулся: на его кособоко поблескивающую стеклышками очков худую нескладную фигуру на вершине сложенной из ошкуренной и лакированной, калиброванной древесины высокой башенки веселого детского городка.
Боялся, как бы он какую глупость не учинил.
Но – обошлось.
Он и сейчас в порядке, наш Боб, мы даже изредка видимся.
Изредка – не потому, что не хочется.
Просто так получилось, что он стал крупным бизнесменом, и у него постоянно не хватает времени.
Вообще.
Ответственный человек.
При этом – по-прежнему приятный в общении, и, как и раньше, готовый в любой момент прийти на помощь.
Даже если его об этом никто и не просит.
В общем, – насквозь положительный персонаж.
Вот только – на футбол не ходит.
Никогда.
И даже – по телевизору не смотрит.
А еще, говорят, – пьет много, но это-то как раз и не удивительно: с личной жизнью моему другу Борьке, увы, абсолютно не повезло.
Три раза был женат, и все три – удивительно неудачно.
И детей у него нет.
Такие дела…
…А тогда я медленно доплелся до Елисеевского, где добавил к выделенной Бобом бутылке еще одну «Пшеничную» и пару «Токая», спустился в подземный переход, нашел свободный телефон-автомат, и, немного подумав, набрал Дашку.
– Привет, – говорю, – Хиппуха. Ты дома?
– А ты куда звонишь?! – хмыкают мне из трубки сонным уютным голосом.
Я – тоже хмыкаю.
Но как-то невесело.
– Ну, тогда жди, – говорю, – сейчас приеду.
И, не слушая потенциальных возражений, немедленно кладу трубку. После чего поднимаюсь наверх и шаркаю ногами в сторону Ленкома, где останавливается идущий в сторону ее дома троллейбус…
…У Дашки дома пахло крепким табаком, дорогими духами и недавно выставленным за дверь мужчиной.
Видимо, непосредственно перед моим приходом выгнала.
Я уже как-то объяснял – почему.
Я поставил водку на стол, дождался, пока она сварит крепкий ароматный кофе в большой медной родительской турке, разлил и все рассказал.
Мы выпили и помолчали, а потом Хиппуха отправилась за гитарой.
Она всегда была умницей, Дашка.
Поэтому и пела в тот раз не мои литературные потуги и не свои довольно скромные, врать не буду, стихотворные опыты.
Дашка пела Лорку.
- …Город имбирных башен,
- Мускуса и печали,
- В тоске о морской прохладе.
- Ты спишь,
- Разбросав по камню
Не знавшие гребня пряди… Ну почему же ты больше не поешь своих песен, Хиппуха?
Ну, блядь, почему?!
Кафе на пустынном пляже. Наши дни
…Каждый раз, когда я приезжаю в этот небольшой городок на Черноморском побережье, я селюсь в один и тот же отель, метрах в четырехстах от набережной.
Привык.
А привычка – большое дело.
Хихикаю с очень похожими друг на друга и, кажется, никогда не меняющимися девчонками на ресепшене, закидываю вещи в номер и не торопясь спускаюсь к морю.
Где поворачиваю налево и иду километра с полтора вдоль берега, мимо гнущихся от промозглого ветра несчастных зимних пальм, по выложенной крупной брусчаткой дорожке в одно и то же, слишком хорошо знакомое мне маленькое кафе на пустынном пляже.
Дело в том, что приезжаю сюда я исключительно зимой, в межсезонье.
В сезон здесь, во-первых, не протолкнуться от потных, загорелых и почему-то безумно шумных провинциальных тел.
А во-вторых, бизнес с местными гостиницами лучше вести именно тогда, когда они стоят совершенно пустыми.
Летом-то, когда они переполнены, их хозяева впадают в неуместный пафос, и им кажется, что они вполне могут без тебя обойтись.
Без тебя, без твоей фирмы, вообще без всех тех, благодаря кому они и стоят забитыми до отказа.
Такова уж человеческая природа, ничего не поделаешь.
Зимой же, когда нет и не ожидается никаких денежных поступлений, когда по коридорам отелей, санаториев и пансионатов гуляют только эхо и надоедливые сквозняки, – их мозги очень и очень быстро встают на место.
И можно смело идти договариваться на весь следующий сезон.
Самое смешное, что так продолжается уже лет десять.
Эдакая разновидность типичного южного базара.
Ничего, я привык.
Мне даже нравится…
Но переговоры и дела – завтра.
А сейчас я прохожу по выложенной брусчаткой дорожке, поворачиваю направо, к морю, и захожу в маленькое кафе, стоящее на самой границе девственно пустого галечного пляжа. Снимаю плащ, стряхиваю с него капли соленого морского дождя, кивком здороваюсь с официантами в большом зале.
Несмотря на то, что зал почти пуст, они вовсе не спешат ко мне навстречу.
И правильно.
Мне – не сюда.
Прохожу через зал, открываю дверь во внутренний дворик, пересекаю его и захожу в совсем крохотный бар, совершенно пустой, за исключением колдующего над турками маленького пожилого армянина за темной тяжелой стойкой.
– Здравствуйте, – говорю, – Самвел Погосович…
Он совсем-совсем не удивляется.
– Здравствуй, Дима. Давно прилетел?
Я улыбаюсь.
– Вы же знаете, что сегодня…
Он поворачивается ко мне лицом и поднимает вверх толстый указательный палец.
– Не знаю, а догадываюсь. Вдруг что-то случилось, и ты пришел сюда не сразу?
– А что может такого случиться? – пожимаю плечами, – когда я в городе, я каждый вечер у вас. Это, по-моему, не только вы и я, это все побережье знает…
– Ну-у… – он задумывается. – Знаете, Дима, в этом безумном и смешном мире сейчас происходит так много необъяснимого, что это уже очень тяжело для моей старой больной головы. Например, вам могла понравиться девушка-попутчица, и вы пошли ее провожать…
Я смеюсь.
Меня всегда забавляет, как он путается в «ты» и «вы».
По-моему, он так и не решил еще для себя до конца, как меня нужно называть. С одной стороны – мальчишка и сопляк, по его меркам.
С другой…
– Что вы, – говорю, – Самвел Погосович. Вам, кстати, большой привет от Маши.
Честно говоря, никакого такого привета ему Машка, естественно, не передавала. Будет она еще такой ерундой себе голову забивать.
Но старику – приятно…
Он грустно улыбается и задумчиво шевелит губами.
– У вас чудесная жена, Дима. – Его большие и яркие карие глаза становятся задумчивыми и чуть увлажняются, как будто их затягивает свежим утренним туманом. – Очень красивая. Очень хорошей, внутренней красотой. Вам повезло…
– Да, – соглашаюсь.
Он неожиданно хлопает себя ладонью по лбу.
– А, старый дурак… ты же кофе хочешь?
Я вешаю плащ на массивную деревянную вешалку, расправляю складки, чтоб он немного просох.
– У вас, конечно, лучший на черноморском побережье кофе, Самвел Погосович, – говорю, – но вы знаете, что я прихожу сюда не только за этим…
– Знаю, – улыбается, – и мне это приятно…
Он приносит мне свежую газету (я ее уже листал в самолете, но не подаю вида) и уходит колдовать над старинной медной туркой. По всему бару плывет мягкий, ни с чем не сравнимый аромат свежемолотых зерен.
Кофе у него действительно – лучший на всем побережье.
– Это особый сорт, – говорит он, продолжая колдовство. – Я уже стар и не могу помнить всех названий, но он действительно особый. Поэтому к первой чашке я не буду вам давать коньяк. Только родниковую воду, я ее охладил до нужной температуры…






