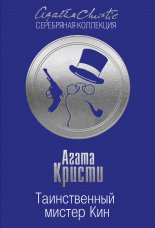Командировка в лето Лекух Дмитрий
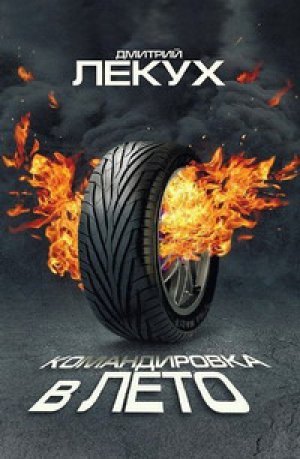
Ну, и снимал Сашка уже тогда хорошо.
Талант.
Это — от Бога.
А вот то, что в кино не закрепился и на ящик к Глебу ушел — это уже не от Бога.
От элементарного раздолбайства.
Ну, да ладно…
— Ну, изучал. И что дальше?
— Можешь себе представить Леонардо да Винчи, который пишет «Мону Лизу» для того, чтоб ее на завтра на перформансе ножичками почикали? Или, там, ножничками на ленточки порезали и шлюхам околотусовочным в волосенки жиденькие повязали. Как тебе такая картинка с выставки?
Оператор посмотрел на Корна внимательнее обычного. Здоров ли парень?
А потом покрутил пальцем у виска. Выразительно так.
И промолчал.
Типа, я в вашем бреде, сударь, не участвую. Даже если долго и сильно просить будете…
Корн в ответ только растянул губы в ехидной улыбке и весело сверкнул стеклышками очков:
— Бартенев тоже, между прочим, не бесталанный парень…
Сашка только крякнул.
Сравнение Бартенева с Леонардо показалось ему кощунственным. Настолько кощунственным, что у него даже слов не нашлось, чтобы возразить господину референту.
И потому пришлось задуматься.
Хорошо еще, что официант водку вовремя принес.
С малосольными огурчиками.
Художник при виде мгновенно запотевшей бутылки радостно мявкнул, как кот при виде добычи, и тут же скрутил негодяйке голову.
Разлили.
Выпили.
Закусили хрусткими, пупырчатыми огурчиками.
А официант уже летел со следующим подносом: с тонко порезанными ломтиками сала, горкой квашеной капусты, пучком крепенького, похоже, совсем недавно из теплицы, зеленого лука, небольшой вязаночкой молодого, нежно-зеленого укропа, одуряюще пахнущими лепестками малосольной форели и прочими тихими радостями бытия.
Пришлось срочно разливать по второй.
Не пить под такую закуску представлялось не менее кощунственным, чем сравнивать Леонардо с фиглярствующим перформансистом, которого модная тусовка столицы еще в конце прошлого века по одной ей известным причинам зачислила в художники.
Кстати, о Бартеневе…
Ларин закусил вторую тоненьким ломтиком сала с черным хлебом, вытряхнул сигарету из наполовину опустевшей пачки (надо все-таки попробовать бросить — обязательно надо), прикурил и выпустил тонкую струйку легкого сиреневого дыма в теплый, насквозь прогретый ласковым весенним солнышком, чистый воздух небольшого приморского городка.
— Послушай, Андрей… ну, при чем здесь Бартенев?
Корн, дожевывающий в это время горстку квашеной капустки, чуть ею, родимой, не поперхнулся:
— Нда-а-а, журналюга… Умеешь ты время выбрать, чтоб вопросики свои гнусные позадавать… Сам Бартенев здесь вообще не при чем. Да и, если по большому счету, он мне глубоко фиолетов, как все пидоры мира. Вместе со всем своим, так сказать, творчеством. Дело не в этом. Точнее, не в нем. Еще точнее — не в нем одном. Он ведь действительно не без способностей. А то, что пидор, еще ни о чем не говорит. Чайковский, Петр Ильич, тоже был, э-э-э… кгхм… как бы это помягче… не совсем традиционной ориентации. И увы, не он один. Просто тому же Петру Ильичу и в страшном сне бы не приснилось, что он должен создавать то, что назавтра им самим же и будет уничтожено.
Ларин понимающе кивнул, махнул рукой Художнику: разливай, мол, чего заслушался, — и снова повернулся к Корну.
— То есть?
— То есть сменился вектор. Леонардо, Чайковский, кто угодно — работали на вечность. Бартенев и ему подобные — на миг, на единичный интервал времени. А художник — он всегда художник, Глеб. И тогда, и сейчас. Они ничего не придумывают. Они просто опережают других: если просто талантливые — то надолго, если гениальные — навсегда. Вот и все. Понимаешь, о чем я говорю?
Глеб медленно вытащил из стремительно пустеющей пачки очередную сигарету.
— Кажется, да… Коллапс?
— Он, родимый… Я бы тут долго мог рассуждать, когда эта херня началась, цитировать бердяевский «Кризис искусства», экстраполировать его на современную молодежную культуру… На хер это не надо, и так все понятно. Такое уже было. Перед падением Римской империи. Тогда расу спасли варвары. Сейчас, при современном развитии информационных технологий, никакое новое варварство, к сожалению, невозможно…
Ларин аккуратно прикурил, помахал рукой, разгоняя ленивый сиреневый дымок.
— А те же талибы? Чем тебе не новые варвары?
Корн брезгливо поморщился:
— Талибы, Гитлер… Одна хрень. Белая раса может развиваться только в агрессии и только впитывая в себя как губка новые, завоеванные культуры. Это же дерьмо завоеванные культуры не впитывает, а уничтожает. Это тупик, Глеб, и ты это прекрасно понимаешь…
— Понимаю…
Корн вздохнул и поднял на свет свеженаполненную Художником рюмку с водкой. Ласковый и вполне равнодушный белый солнечный свет услужливо преломлялся сквозь нее лучистой праздничной радугой.
Корн еще раз вздохнул.
— Вот-вот. Давай, выпьем что ли…
И они выпили.
Так выпили, что Глеб очень скоро перестал вообще что-либо понимать в становящихся все путанее и путанее речах Корна. Потому что потом была еще одна бутылка.
А потом еще одна.
Потом потерялся Корн.
Потом появились какие-то бабы.
Последний раз он пришел в себя, когда, распаренный, в одной не до конца запахнутой простыне, выскочил во двор сауны хлебнуть свежего, уже вечернего воздуха.
Хлебнул.
Помотал головой.
Успел заметить в фиолетовом свете фонаря удивленные мертвые глаза охранника Сергея и аккуратную красную дырочку между ними, из которой ленивыми каплями сочилась густая жирная кровь, и потерял сознание, после того как его аккуратно и жестко ударили в затылочную область чем-то тупым и тяжелым.
Глава 24
Когда он очнулся, где-то неподалеку лениво капала вода, а у него жутко болела голова и страшно ныли затекшие мышцы рук и ног.
Глеб попробовал дернуться и понял, что его запястья пристегнуты плотными браслетами наручников к какой-то ржавой шершавой трубе, а сам он сидит на холодном бетонном полу, и ему жутко хочется пить.
Он попытался потянуться, и его вырвало.
Блин.
Кажется, приехали…
Понять бы еще — куда…
Ларин осторожно приоткрыл сначала один глаз, потом второй.
Нда…
Хреновые наши дела, господин военный обозреватель…
Даже в маленькой, но безумно гордой республике Ичкерии подобного дерьма как-то до сих пор удавалось избегать, а тут…
Сложенные из здоровенных камней сырые подвальные стены.
Тусклая сороковаттная лампочка на голом шнуре.
Орать — совершенно бесполезно, звукоизоляция, похоже, идеальная.
У противоположной стены — грубо сколоченный деревянный стол, несколько таких же стульев и табуреток.
Дополняют картину трое небритых кавказцев и красивая русоволосая девица с гордым, будто из алебастра выточенным лицом.
Камея просто мраморная, а не профиль…
Говорила тебе мама в детстве, Глеб, Царствие ей Небесное, что надо избегать дурных компаний.
Не послушался, дурак.
Теперь вот расхлебывай…
Один из кавказцев, почувствовав взгляд Глеба, обернулся, ткнул локтем в бок другого, видимо, старшего. Тот смерил Ларина тяжелым холодным взглядом, потом, не торопясь, подошел к пленнику вплотную и, кряхтя, присел на корточки.
Пахло от него, надо сказать, преотвратительно.
Тяжелыми метрами опускающейся на грудь холодной и сырой могильной земли.
Кавказец поцокал языком, достал из кармана пачку сигарет, вынул одну, прикурил, вставил фильтр в уголок ларинского рта, дождался, пока тот несколько раз жадно затянется, и вышиб окурок резким и хлестким ударом ладони.
Едва ли не вместе с челюстью.
И все это — молча.
Бывает.
Глеб сплюнул мгновенно ставшую кровавой слюну. Пока — в сторону сплюнул, не на кавказца.
Незачем его уж совсем-то злить.
Пока.
Кавказец недобро усмехнулся и наконец-то разжал губы:
— Ну, старый знакомый, я ж тебе говорил: уезжай в свою Москву.
Глеб попытался изобразить пожатие плечами.
Насколько позволяли плотно приковавшие руки к трубе браслеты наручников.
— Я — человек подневольный…
И снова потерял сознание после жесткого, акцентированного удара в подбородок.
Просто вспышка в глазах.
И все.
Тишина.
Пришел в себя только минут через несколько, оттого что по лицу медленно стекала струйка теплой, вонючей жидкости.
Приоткрыл глаза.
Точно.
Тьфу, гадость…
Прямо перед ним, осклабившись, застегивал ширинку один из «младших» кавказцев.
Ладно, сука…
Будем живы — сочтемся.
Глеб помотал головой, разбрызгивая мочу в стороны. Изображать глубокий обморок было бессмысленно.
Профессионалы.
Прижгут, скажем, лицо сигаретой — и все дела.
Попробуй тут, не дернись…
«Старший» взял тяжелую табуретку, покряхтывая, уселся напротив, закурил.
— Ну, журналист, давай, — вторая попытка. Говорил я тебе: уезжай в свою Москву?
Глеб попытался усмехнуться.
Что из этого вышло — Бог знает, но «старшему» явно не понравилось: на этот раз Глеба ударили ногой.
Больно.
Хорошо, что еще не в висок.
А так — даже сознания не потерял.
Выплюнул кровь изо рта, прошипел:
— Слушай, ты… Мне от тебя нужно только две вещи: сигарету и понять, что ты от меня хочешь. Конкретно. А потом уже можешь пиздить. Сколько угодно…
Горец лениво потянулся и приготовился нанести еще один удар.
Потом, правда, передумал.
Зажег сигарету, засунул ее Ларину в напрочь разбитые губы. Снова уселся на табуретку. Закинул ногу на ногу, демонстрируя вечно модную обувь британского пролетариата.
Вот ведь урод.
«Гриндерсами» любую черепушку проломить — как два пальца об асфальт…
— Ай, молодец… Мужчина. Покури пока…
Ларин, естественно, не ответил. Вдыхал дым.
Что, интересно, за гадость этот урод курит?
Нда, господин тележурналист…
Вас ведь, очень похоже, скоро убивать будут. Скорее всего, именно сегодня.
Да какой там сегодня.
Прямо сейчас.
А вам в такой удивительно важный, можно даже сказать, патетический, момент все равно исключительно какая-то херня в голову лезет.
И ничего более…
Вот ведь, блин…
Может, вы моральный урод?
Докурил, выплюнул окровавленный окурок, вопросительно посмотрел на «старшего».
Тот довольно осклабился.
— Ай, мужчина… Понял теперь, что мне от тебя нужно?
Глеб отрицательно помотал головой. Удивительно, но она уже почти не болела.
Стресс, не иначе…
— Если б понял, уже б торговался, причем исключительно упорно. И никакими пытками ты б меня не запугал… Вообще никакими. В принципе мне, абрек, моя жизнь дорога, хотя бы как память… Я у себя — один…
Кавказец в ответ только лениво усмехнулся.
Презрительно так.
Одной половиной лица.
Вторая продолжала оставаться непоколебимо спокойной.
— Зачем так говоришь? Знаешь ты все. Все знаешь. Кассетка мне нужна. Ма-а-аленькая такая кассетка. Которую тебе девки передали. Отдашь — будем говорить о том, во сколько ты свою жизнь ценишь. Не отдашь — извини. У меня, как вы, русские, говорите, — договор. Который дороже денег.
Глеб в ответ только усмехнулся. Тоже, как кавказец, одной половиной лица.
Вторую он просто не чувствовал.
— У нас, у русских, дороже денег — не договор. А уговор. Разные это вещи, совсем разные. Настолько разные, что тебе просто не понять… Но это неважно. А важно то, что промахнулся ты, абрек. Нет у меня никакой кассетки. Не передавали-с мне ее никакие девки. Даже не знаю, о чем ты говоришь, вот ведь какая фигня…
Старший опять поцокал языком и укоризненно покачал головой:
— Ай-ай-ай… Нет, говоришь?.. Жаль. Я думал — ты не только сильный. Думал, ты умный. А ты труп. Разницу знаешь? С умным можно договориться. С трупом нельзя.
Глеб с трудом сглотнул неожиданно ставшую сухой и вязкой кровавую слюну. То, что этот урод не шутит, он понимал прекрасно. Такие вообще не шутят.
Вернее, шутят.
Вот только чувство юмора у них… кгхм… своеобразное. Потустороннее, можно сказать.
Никакой европейской логике не поддающееся.
И веет от этого чувства юмора тяжелым замогильным холодом.
— Было бы о чем — договорились бы. А пока — не о чем. Может, лучше сразу к деньгам перейдем?
Кавказец протяжно вздохнул:
— Нет, ты меня все-таки не понял… Я же сказал: о деньгах мы потом поговорим. Мне сказали, как кассету отдашь, ты — мой. Что хочу, то и делаю. Хочу — убиваю, хочу — отпускаю, хочу — в жопу ебу. Понял? Как отдашь. А пока ты — не мой, ты хозяйский. А ему ты не нужен, ему кассета нужна. Как там у ваших блатных говорят? Всосал?
Глеб медленно покачал из стороны в сторону по-прежнему мерно гудящей головой:
— Нет. Это ты меня не понял, абрек… Какая еще на х… кассета? Какие девки? Нету у меня ничего похожего, нету, понимаешь?!!
Кавказец снова вздохнул, тяжело поднялся с табуретки, сделал два шага вперед и наклонился прямо к его лицу:
— Есть. Я. Знаю. Что. Есть. Понял, русский пидарас? Или не понял?
И тогда Глеб, все-таки не выдержав, смачно харкнул кровавой слюной прямо в нависшую над ним ненавистную небритую рожу…
Когда он снова пришел в себя, старший сидел за грубо сколоченным столом, время от времени потягивая характерно пахнущую «беломорину».
План палил.
То ли успокаивался, то ли наоборот — приводил себя в нужную для предстоящей работы кондицию.
Между столом и Глебом стояла табуретка, аккуратно накрытая белой тряпицей, на которой лежали какие-то блестящие приспособления. А рядом с табуреткой сидела на корточках та самая русоволосая камея и тоже что-то курила.
Может быть, тоже коноплю.
А может, и нет.
Глеб попытался сфокусировать взгляд.
Нет, точно нет.
Обычную сигарету.
С фильтром.
Кавказец в очередной раз пыхнул папиросой и презрительно посмотрел на пленного.
— Ну, что, пришел в себя, пидарас? Хорошо. Только договариваться теперь мы с тобой уже не будем. Живой ты мне больше не нужен, по нашим обычаям после такого только один жить может. А где кассета, ты мне и без всякой торговли скажешь. Через минуту. Или через час. Или через два. Скажешь. Не веришь?
Глеб попытался хмыкнуть.
Получилось, надо сказать, хреново.
— Дурак ты, абрек. Психолог хренов… Я теперь вообще молчать буду. Чем дольше промолчу, тем дольше проживу…
Кавказец в ответ только гортанно расхохотался:
— Это не я дурак, русский. Это ты дурак. Потому что ничего не понимаешь. Это, — он кивнул в сторону русоволосой, — Лейла. Врач. Хороший, — он снова поцокал языком, — врач. Была. Моих детей лечила. И у соседа моего русского лечила. Ай, хорошо лечила… А потом ваши ее мужа и детей убили. Бомбой. Она на базаре была, когда они прилетели. Не любит она вас теперь, ой, не любит… Соседских детей, которых лечила, убила. Всех троих. И мать их убила. Ножиком таким медицинским. А соседу яйца отрезала и отпустила. Чтоб ваш род больше не плодился. И к нам ушла. Так что ты все скажешь… Мне не скажешь — ей скажешь. И где кассета лежит, и кто из девок ее тебе передал, скажешь… А время у меня есть. Подожду…
Русоволосая тем временем стремительным, гибким и плавным движением поднялась на ноги, несколькими красивыми, уверенными взмахами сильных рук с узкими аристократическими ладонями и чуть крупноватыми запястьями отряхнула слегка запылившийся подол модной шерстяной юбки и спросила у старшего неожиданно мягким, низким грудным контральто:
— Можно?
Старший кивнул:
— Конечно, Лейла, конечно, девочка моя…
Она коротко кивнула, взглянула оценивающе на Ларина и повернулась к двум молча курившим до этого эпизода в углу «младшим» кавказцам:
— Альви, Руслан, подготовьте русского.
Глеб хотел пошутить, что это по-военному четкое распоряжение отдано на прекрасном русском языке, но все дальнейшее произошло настолько быстро, что времени на шутки у него просто-напросто не осталось.
Ни мгновения.
Его грубо, выворачивая скованные браслетами руки и сдирая с запястий остатки и без того безумно саднящей кожи, подняли, сильно, но не зло, как покойника, пнули сначала под коленки, а потом по икрам, вышибая ступни вперед.
Он еще успел подумать, что теперь знает, что такое дыба, — и снова потерял сознание.
И еще его, кажется, снова вырвало.
В себя он пришел только тогда, когда ему снова стало дико больно: на этот раз в затекших до безобразия мышцах ног.
Теперь он лежал на спине, прикованные руки — над головой, бесстыдно расставленные в разные стороны ноги за лодыжки прикручены к грубым табуретам, на которые для верности взгромоздили свои немаленькие тела «младшие» горцы.
И еще — он был без штанов.
Совсем.
И без трусов тоже.
Он резко дернулся, пытаясь освободиться, но это вызвало только взрыв ненавистного гортанного смеха.
Ларин смирился.
А потом на него снова вылили ведро воды, и над разбитым в кровь и слизь лицом склонился чеканный профиль горянки.
— Теперь ты меня слушай, русский. Арби больше не слушай. Только меня слушай, больше никого. Я тебя сейчас буду спрашивать. Ты — отвечать. Ответишь неправильно — буду давить тебе яйцо шпилькой. Сначала левое. Хочешь посмотреть, какие я туфли для тебя надела? На, смотри…
Туфли были что надо. Черные, лакированные, модельные, с высоким, тонким, окованным блестящим золотистым металлом каблуком. И нога была что надо: сильная, красивая.
Такая нога должна скользить по натертому прозрачным воском древнему паркету, а не давить острием этого самого каблука яйца пленным в грязном, заплеванном подвале.
Но больше всего Глеба поразило выражение ее лица.
Оно было по-настоящему вдохновенным.
Ему стало жутко.