Смута Бахревский Владислав
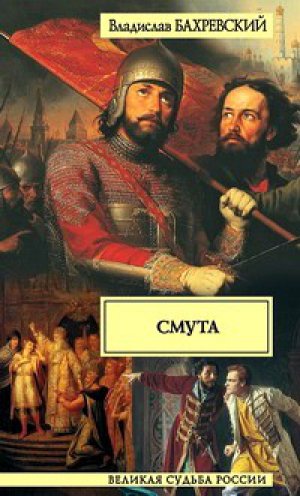
– Мое частое появление у государя ему в тягость. Он мой должник.
– Зато ему был не в тягость Адам Вишневецкий, который за каждую попойку получал куш.
– У меня слабое здоровье, чтобы пить. – Раздражение разбирало пана Мнишка. – Что вы от меня хотите, ваше величество?
– Любви, отец! Одной вашей любви и нежности.
Мнишек вытянул губы и с сановной неприступностью разглядывал нечто, витавшее над головой дочери.
– Отец, мне страшно! Я бы убежала с вами, но мне невозможно покинуть табор. Я – царица этой страны. Не оставляйте, Богом вас заклинаю!
– С вами неотлучно будет ваш брат, Станислав… Неприлично быть такой настойчивой. Если бы я мог исполнить вашу просьбу, я бы ее исполнил без напоминаний. Мне нужно быть не только в Самборе, но и у короля. Вы же сами видите, без помощи королевской это странное уравновешенное противостояние Москвы и Тушина может длиться бесконечно долго. Бездействие, однако, наказуемо Судьбой.
– Вы это хотите поскорее увезти! Вам это дороже дочери! – Марина Юрьевна с размаха ударила по денежным кучкам на столе. – Вы продали меня и бежите со своей прибылью. Вы хуже евреев, которые торгуют пленными польками на стамбульских базарах! Те торгуют иноверками, иноплеменными, вы же – кровью своей, ибо я ваша кровь! Да будет ли вам хоть когда-нибудь стыдно за эту вашу сделку?
Она повернулась и ушла, и он облегченно перевел дух и, нарочито хмуря брови, с нарочитым неудовольствием сгребал в кучки монеты, смешанные неистовством Марины.
Тушино готовилось к бане.
Баню поставили над прудом. Это была не банька, а целые хоромы. В субботу ее отдали женщинам. В полдень вокруг пруда собралась добрая треть Тушина поглазеть на русское диво. И диво было. Напарившиеся женщины выбегали прохладиться.
Уж такие все розовые, что и солнце зарумянилось от погляда. Женщины, обнаружив перед собою целое войско, визжали от восторга, падали в снег, катались, бросали снежками в бесстыжие глаза, убегали в парную и вновь выскакивали.
Наконец напарилась и вышла на снег Павла. Волосы будто солома, до пят, не по присловью, а именно до пят. Грудь высокая, с розами сосков, на срамном месте золотое руно. Бедра тяжелые, а ноги как у газели. Вышла, потянулась на солнышке, ладонью подбросила порошу в воздух, подошла к проруби, охнув, окунулась. Поплавала в черной полынье как лебедь.
Выходя, ей пришлось наклониться, взяться руками за берег. И войско, глядевшее затая дух, совершенно изнемогло перед открывшейся на мгновение сокровенностью.
Среди глядельщиков стоял прежний обладатель сокровища, прежний кузнец, а ныне никто и ничто, по имени Пуд. Кинулся Пуд через толпу к Павле, но его остановили с добродушными смешками.
Павла ушла в баню под громовой вздох поляков и казаков. Пуд же, ослепленный яростью, взбесился. Схватил одного из своих обидчиков за голову, сунул себе под мышку, и хрусть – готов. Второго – за горло, раздавил, поднял над землей. Смертные хрипы. Ужас. Зверь перед людьми. А у зверя сабля, выхватил у задушенного. Рубил кого ни попадя. От него бежали сломя голову, и сам он бежал за всеми, пока не увидел перед собой строй солдат. Кинулся прочь, влетел в солдатский шатер. По шатру пальнули. Раненый, визжа от боли, разрезал полог, выскочил на ружья и сиганул в отчаянии в землянку, полную казаков.
И был там вопль и рев, и – смолкло, но никто не вышел из землянки.
– Посмотри, что там! – приказал поручик своему жолнеру.
Жолнер наклонился над входом в землянку.
И тут из тьмы на него выскочило огромное, кровавое и зубами клацнуло по горлу. Ударил фонтан крови, жолнер упал, существо исчезло. Солдаты по команде дали залп, и второй, и третий.
Наконец двое смельчаков приблизились к землянке и стали тыкать в нее копьями. Вдруг за одно копье ухватились, втянули жолнера вовнутрь, и тот как завороженный ушел за копьем своим, и через мгновение труп со свернутой набок головой был выброшен из тьмы на свет.
– Матерь Божья! – вскричал юный поручик, не зная, что приказать солдатам, но они уже катили бочонок со смолой.
Смолу подожгли, бочонок вогнали в землянку, и оттуда валил черный дым и долго жутко пахло сгоревшим мясом.
Вор кричал и топал ногами на хорунжего, привезшего от гетмана Рожинского устную угрозу:
– Пусть пан Меховецкий немедленно убирается не только из покоев его царского величества, но и прочь из Тушина. Промедлит – лишится жизни.
– Это не Меховецкому – это мне угроза! Рожинский забыл всякое приличие!
Меховецкий, когда хорунжий ушел, поспешил одеться, но потом раздумал.
– Надо сию же минуту послать за казаками Заруцкого. Пусть станут лагерем вокруг дворца.
– Но отчего Рожинский взбеленился?
– Оттого, что не имеет никаких военных успехов, государь.
За донцами было послано. Меховецкий снова надел шубу, но время наступило обеденное. Шуба была снята, сели обедать.
– У меня не идет из головы этот русский зверь, загрызший, удавивший, изрубивший до смерти четырнадцать человек да еще семерых ранивший.
– Случай чудовищный, – согласился Меховецкий, – я в последние дни много думаю о русской опасности.
– О русской опасности?
– Да, государь. Вы только посмотрите, как они расправляются друг с другом. Их насилие над собой не знает, кажется, никакого предела. Они детей убивают и калечат. Свое племя выкорчевывают!.. Так как же они поступят с нами, когда вдруг опамятуются и обратят свои взоры на пришлых, на чужих? Этот сгоревший русский ответил на мой вопрос сполна.
– Отчего мы думаем об этом… Не лучше ли вспомнить баню. Ах, какое это было зрелище!
– Но оно-то и кончилось убийством.
– Милый мой Меховецкий, сегодня в России всякое дело кончается – убийством. Так будет до той поры, пока русские не освободят для меня мой трон.
Меховецкий грустно крутил перед собою, за косточку, тушку жареной куропатки.
– Русского царства не существует, но русские люди никуда не подевались. У них нет предводителей, но они жаждут иметь таких предводителей.
– Пусть изберут меня! – засмеялся Вор.
– Вами управляет Рожинский, а Рожинского они не захотят себе в вожди. Советую, кстати, прислушаться к имени Скопин-Шуйский. Некогда он был меченосцем вашего величества.
– Избавь, Меховецкий, хоть за обедом от всей этой суеты… Перед моим взором – златовласая Аврора… Меховецкий, почему она не у нас?
С грохотом и треском распахивались двери, и некий топочущий клубок катился, нарастая, к столовой палате.
– Ты здесь?! – Рожинский схватил Меховецкого за шиворот, крикнул своим: – Убейте его!
На Меховецкого навалились сразу пятеро, поволокли от стола, тыча в тело кинжалами.
Вор стал бледен как снег.
– Молчишь? – спросил его Рожинский. – Молчи, не то и тебе сверну голову с шеи.
И бросил к его ногам его собственный тайный указ в города: всех, кто приезжает сбирать налоги, хватать и топить в прорубях.
Наутро была Дума, и никто, ни единый человек не поднял вопроса об убийстве в доме государя. Русские, как всегда, молчали, поляки петушились друг перед другом, не умея прийти к единому мнению. Взволноваться было от чего.
Обсуждали, во-первых, тайные письма Вора в города, а во-вторых, происшествие во Владимире, вызванное как раз действиями войскового правительства Млоцкого. Верный государю Дмитрию Иоанновичу воевода Мирон Вельяминов-Зернов, защищавший Владимирскую землю сначала от Наливайки, потом от казачьих шаек, не признал права и за комиссарами Млоцкого облагать народ налогами. В Юрьеве-Польском восстали стрельцы, в Решме крестьяне убили воеводу-поляка, в Гороховце и в Холуе посадские люди перебили казаков и присягнули царю Шуйскому. В Шуе смутьяны наголову разбили суздальского воеводу Федора Плещеева, который пришел усмирять бунты.
Все эти восстания лучше любых защитников оправдывали действия государя, который без боев получил столько городов и который мог их все потерять от неразумности шляхетского своеволия. Выборному правительству Млоцкого дали отставку.
На обед государь явился веселый и голодный. Увидел за столом у себя человека в двурогой шапке с бубенцами.
– Ты шут? – спросил Вор.
Человек обмакнул большой палец в масло и показал фигу. Вор гоготнул, нагнулся и слизал масло с пальца шута.
– Как ты здесь очутился?
– Я – подарок тебе.
– От кого?
– Не задавай дурацких вопросов.
– Ты намерен со мной разговаривать забываясь?
Лицо у шута было непроницаемым.
– Я намерен молчать, но что оно, мое намерение? Ты намерен взять Москву, да где тебе.
– Я спрашиваю серьезно: кто тебя послал сюда?
– Тот, кто на небе.
– Бог, что ли?
– Нет, пан Меховецкий. Что, дурак, прикусил язык? Не болтай попусту. Попусту позволь мне молоть, может, чего-нибудь и вымолотим.
Вор осмотрелся, увидел в комнате купца Варуха.
– Великий государь, – купец поклонился, – шута Петра Кошелева сыскал тебе на потеху, на успокоение и наставление бедный пан Меховецкий. Сам он не успел устроить эту встречу.
Варух подошел к большому сундуку.
– Здесь приданое шута.
– А здесь твое приданое. – Шут в мгновение ока очутился возле купца и выпростал его пояс, рассыпал по полу монеты и небольшие мешочки с монетами. – Не смущайся, государь. Что упало, то твое. Ступай, купец, пока я у тебя в животе твоем не поискал денежек.
Варух снова поклонился государю.
– Ваше величество, дозвольте видеть очи ее величества Марины Юрьевны.
– Дозволь, – сказал шут, кладя руку на плечо государя, – он и ей что-нибудь даст. Значит, есть с чего давать.
Вор треснул шута по руке.
– Послушай, да ты горбат, кажется.
– Ошибаешься, государь. Это у меня крылья прорастают.
Лицо у шута было тонкое, белое и прекрасное. Глаза огромные, серые, с пронзительными зрачками.
– А ведь мы с тобой и впрямь в дурацком положении, – сказал шут. – Может быть, чтоб не отягощать себе голову думами, отяготим наши желудки?
– Пожалуй, – согласился Вор. Он был доволен последним, потусторонним посланием пана Меховецкого.
Юрий Мнишек уезжал из Тушина в крытых санях. Он казался себе птицей, выпорхнувшей из клетки.
Тушино выглядело кладбищем для телег. Телеги, поставленные одна к одной и ворохами, заняли целые поля. На роту приходилось по тысяче телег, сотня рот – сто тысяч телег.
Теперь войско перешло на сани, и Мнишек все время обгонял пустые обозы. На любой дороге, отходящей в сторону от большака, тянулся свой обоз или обозик. То расходилась по сторонам посланная за продовольствием обозная войсковая прислуга. Встречались и боевые отряды. Война шла под Москвой, кругом Москвы и по всей Русской земле.
Продолжалась осада Троице-Сергиева монастыря, где застряли такие скорые вояки, как Лисовский и Сапега.
Пан Мархоцкий рассыпал свои отряды по дорогам, ведущим к Москве, обрекая ее, многолюдную, на голод.
Под Коломну спровадили из Тушина Млоцкого и Бобровского, заводчиков ревизии, и оба они, столкнувшись с отрядами Пожарского, а потом Прокопия Ляпунова, завязли в мелких боях и стычках.
Верстах в двадцати от Тушина Мнишек издали увидал гетмана Рожинского. Говорить с гетманом было не о чем, возчик начал останавливать лошадей, но Мнишек приказал ехать быстрее.
– Я желаю видеть Россию только в моих снах, – сказал он спутникам.
Рожинский с сотней крылатых гусар объезжал зимние квартиры своего войска. Большинство деревенек вокруг Тушина были заняты ротами, полуротами, ватагами. Невоюющий солдат – паразит. Всюду шла игра в карты, в кости. Всюду пьянство.
Гетман морщился, как от зубной боли, но молчал. Отправился со своей сотней посмотреть, что делается на дорогах, ближе к Москве. Проехали лесом, полем. Поле было странное, куполом. За полем, у редкой березовой рощи, стояли дымы селения.
– Наши здесь стоят? – спросил Рожинский ротмистра. – Не знаю, пан гетман. Никогда здесь не был.
– Что за деревня?
– Берестки, – объявил провожатый из тушинских мужиков.
Поехали через поле. Князю захотелось поглядеть на окрестности с холма. Чем выше поднимались, тем меньше оставалось земли. Небо все распахивалось, распахивалось да и разлетелось вдруг вдребезги, так крушит копытом лошадь утренний ледок на дороге. Рожинский увидел – летит в воздух прочь голова, а над безглавым всадником алый фонтан.
Откуда добыли в Берестках затинную пищаль, подобрали на дороге, украли из беспечного польского обоза, кто знает? Но пищаль пальнула. А когда преславная крылатая конница пошла атакой на село, то пищаль выпалила еще дважды, и оба раза дробью, ранив добрый десяток гусар. Схватка была недолгой и не очень-то победной. Сражаться пришлось с крестьянами. Те – не ведая грозной славы крылатых – ссаживали гусар с коней вилами, пропарывали косами, ушибали и оглушали оглоблями. Гибли, но дрались.
Князь Рожинский въехал-таки на вершину холма, но окрестностей так и не успел разглядеть. Он разглядел – отряд русских справа и другой отряд слева. И приказал трубачу трубить отбой.
Успели подобрать раненых, выскочили из ловушки, опередив преследователей на какую-нибудь минуту.
Князь был в ярости. Взятая у русских затинная пищаль была единственной приутехой от столь позорного столкновения с крестьянами. Четверо убитых, дюжина раненых. Ротный пытался доложить, сколько потерял враг, но Рожинский перебил его:
– Мне неинтересно знать, сколько гробов сколачивают в Берестках, я плачу о своих гробах. Мы разучились воевать!
В Тушине гетмана ожидали перебежчики, два рядовых стрельца.
– Господин! – кланялись стрельцы знатному вельможе. – Коли государь Дмитрий Иоаннович хочет Москву взять, пусть только письмо напишет к миру. Всем, дескать, прощение и покой. Мы это письмо отнесем, прочтем с Лобного места, и народ сам ворота откроет.
– Что же до сих пор не открыли? – спросил Рожинский.
– Грабежа опасаются. Коли от царя твердое слово будет, тогда от Шуйского все отпадут за единый час. В Москве голодно, хлеба не укупишь. За четверть ржи просят по семь рублей. Такой хлеб разве боярам под силу покупать.
– Вы сами Шуйского видели?
– Нет, господин. Царь народу давно уж не показывается. Велел со стен пушки снять, на кремлевские поставить. Будет с царицей сидеть до конца живота.
Князь видел, что стрельцы верят своим словам, улыбнулся:
– Если дело за царским письмом, я его вам добуду.
И тотчас действительно отправился во дворец. До царя у него было дело весьма скорое и серьезное. Сапега прислал из-под Троицы отряд, требуя жалованья для своего войска.
Вор пьянствовал со своими ближними боярами, с Дмитрием Трубецким и с Иваном Заруцким.
– Поминает ли в своих службах патриарх Филарет мое имя? – пьяно спрашивал Вор, подмигивая своему шуту.
– Поминает, – отвечал Трубецкой.
– Через раз или через два?
– В каждую службу возвещает многие лета и вашему царскому величеству, и царице Марине Юрьевне. По всем городам поют, по всем церквам.
– Ну, тогда я доволен! – улыбался Вор и грозил пальцем Кошелеву. – Тобой недоволен. Во весь пир твоего голоса не слышно. Ладно – горбат, ты, может, еще и онемел?
Шут и впрямь помалкивал. Он сидел в широкой корзине, набитой соломой, изображая наседку на яйцах.
Заруцкий, захмелев, все порывался запеть и запел наконец:
- Крапивка моя стрекливая,
- Свекровка моя журливая.
- А журит меня и день и ночь,
- Посылает меня ночью прочь.
Тут-то вдруг и встрепенулся шут на своем гнезде. Закудахтал что есть мочи, руками захлопал, как крыльями.
– Ты снесся, что ли? – спросил Вор.
– Снесся, государь.
В это самое время дверь распахнулась и вошел Рожинский с двумя людьми.
– Он снесся, – сказал Вор Рожинскому и заглянул в корзину. – Ты обманщик! Где же яйцо?
– Это вы обманщики, явились за золотыми яйцами, но не только чужих не добыли, но и своих собственных не сумели позолотить. А у меня, у шута, все взаправду. – Кошелев быстро скинул штаны, нагнулся, и ясновельможные паны увидели в его заднем проходе яичко.
Шут взял его двумя пальцами, вынул и удивился:
– Голубиное! Я превращаюсь в голубя.
– Просто в твою задницу куриное не влезло, – сказал Вор. – В следующий раз я прикажу затолкать в тебя за такие шутки яйцо страуса.
– Будьте любезны! – раскланялся шут. – Но я чаю, страусы от Московии так же далеки, как далеко вам, господа тушинцы, до государыни Москвы.
– Ты воистину дурак, – сказал Вор. – Гетман быстро укоротит тебе язык.
Однако гетман даже не поглядел в сторону Кошелева. Он сел за стол, налил себе вина, выпил.
– Сладко ты кушаешь, государь! А войску платить нечем. Сапега за деньгами две хоругви прислал.
– Оттого, что я есть и пить перестану, денег прибудет? – спросил Вор и ударил в ладоши. – Эй, наседка! Снеси мне яичко, только не простое – золотое!
– Золотые яйца на Руси одни московские куры несут. Будете в Москве, будет вам и золото.
Заруцкий снова запел:
- Не иди, невестка, дорогою,
- Не иди, невестка, долиною
- И стань, невестка, калиною,
- Будет мой сынок с войны идти,
- Будет калиной дивоватися…
На 7 февраля 1609 года был назначен совет депутатов от всех войск с единственным вопросом – о жалованье. Вечером шестого приехал из-под Троицы Ян Сапега. В его честь у царя был ужин для самого узкого круга людей. Кроме Сапеги, пригласили Рожинского, Заруцкого, Станислава Мнишка. Вор присутствовал с Мариной Юрьевной да с шутом Кошелевым, сидевшим за отдельным столом.
– За нашу милую далекую родину, которая да воцарится на российских просторах, дабы преобразить и украсить эту дикую страну высшей красотой и божественными добродетелями!
Такую речь произнесла хозяйка России, и ясновельможные паны выпили сей тост с воодушевлением.
По молчаливому уговору о делах совета не говорили, но без политики застолье все же не обошлось. Рожинский посетовал, что зима отодвинет победу до лета.
– Мы напрасно распылили наши силы. Выход один: надо обратиться к королю Сигизмунду и попросить у него коронное войско, – сказал Сапега.
Рожинский нахмурился, и Марина Юрьевна поспешила увести разговор в безопасное русло.
– Господа! – сказала она. – Наши величества пригласили вас отдохнуть от боев и от дел государства. Все это в полной мере будет у вас завтра. Шут! Где ты? Повесели нас. Государь говорил мне, что ты искусен в гадании. Погадай.
– Я гадаю на квасной гуще. А где взять квасу во дворце? Квасок хлебают в избах.
– Вот тебе моя рука, шут! Что скажешь?
Кошелев медленно выбрался из-за своего стола, медленно подошел к стулу государыни, принял в свои длинные белые ладони ослепительную и на его белизне ручку Марины Юрьевны.
– У тебя будет сын.
– Сын?!
– Да, будет сын.
– Я в восторге! А что еще ты мне скажешь? Буду ли я счастлива?
– Да, государыня! Ты изведаешь счастье.
– Спасибо, шут. Но, может быть, тебе открыто и самое сокровенное? Долог ли мой век?
– Вопрос жестокий, государыня. Шут обречен говорить правду. Правда такова: твой век короток.
Марина Юрьевна отдернула руку, но спохватилась и погладила шута по груди.
– Погадай и мне! – сказал вдруг казак-боярин Заруцкий.
Шут взял его за руку.
– Все через край и ничего до конца, – сказал он. – Будешь ли счастлив? Будешь. Будут ли тебя любить? Будут. Исполнится ли твое потаенное желание? Исполнится. Но не до конца. Ты хочешь знать, что тебя ждет?
– Да, – сказал Заруцкий, весело поглядывая на сидящих за столом.
– Ты умрешь страдая.
– Чтоб казак да умер покойно?! Спасибо, шут. Я доволен твоим гаданием.
Шут пошел вдоль стола и взял протянутую руку Рожинского.
– Князь, тебе надо поберечься. Твоя болезнь у тебя за плечами.
– Ты хочешь напугать нас?
– Не хочу и не желаю этого. Моя жизнь в ваших сильных руках. Я мог бы не гадать, но мне приказано, и я исполняю приказание моих господ. Твоя рука мне говорит, князь, что ты умрешь.
Опустил вялую руку Рожинского и сам взял дрожащую от напряжения руку Сапеги.
– Какая сила и ясность! Какая воля! Этой воле будут покорны многие тысячи.
– Буду ли я в Москве?
– Будешь, ясновельможный пан. Но ты не будешь у себя дома. Ты тоже умрешь.
– Довольно! – Сапега оттолкнул шута.
Шут, согнувшись в поклоне, спиной отступал к своему столу.
– А мне ты не погадаешь? – изумился Вор.
Шут поклонился, приблизился к государю, взял его руку.
– Я жду твоих вопросов, повелитель.
– Начнем с конца. Долог ли мой век?
– Увы, повелитель. Ты умрешь.
Вор расхохотался.
– Ты воистину шут! Ведь он всем сказал сущую правду, мы – умрем. Погадай Станиславу.
– Нет! – чуть ли не крикнул юный Мнишек, сжимая руки в кулаки.
– Дурак, ты и вправду нас напугал. Пошел прочь, скотина! – И царь двинул шуту кулаком по горбу.
– Каррр! Ка-а-ар! – Шут, не опуская рук, отпрыгнул по-птичьи в сторону. Он был копия ворона.
За столом воцарилось молчание.
Совет прошел, как бывает у поляков да казаков. С криками, с выстрелами в воздух, с полыхающей, как молнии, ненавистью и со всеобщим обожанием самих себя и всего польского да казацкого в себе.
К Сигизмунду назначили посольство. На вопрос о жалованье ответ держали бояре Вора Григорий Петрович Шаховской, Михаил Глебович Салтыков да Федор Андронов.
Бояре могли сообщить одно: денег нет, деньги изыскивают, и когда деньги будут, то и заплачено солдатам будет сполна. Совет выбрал от себя Сапегу и Зборовского и наказал им объявить Дмитрию Иоанновичу следующее: если денег не сыщет, то не сыщет и войска. От сего дня 7 февраля 1609 года пусть считает три недели. Через три недели, день в день, войско уйдет.
Получив ультиматум, Вор даже пальцем не пошевелил, чтобы что-то поправить в делах. Он успокоился, хорошо ел, приласкал забытого Рукина, подарил ему енотовую шубу, а Кошелеву волчий тулуп.
Восьмого февраля Вор никого к себе не пускал, читал Талмуд и наугад Пятикнижие.
«И возьми к себе Аарона, брата твоего, – читал он, печально взглядывая в пространство, – и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия…»
И еще читал: «Если в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его: то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого; и старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма. И пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине…»
И сказал себе Вор:
– Ну, чего ты еще не видел и чего не познал, будучи в царях? Разве не служили тебе, не целовали тебе руку князья и воеводы и даже цари? – Тут он вспомнил касимовского хана. – Разве не спишь ты с помазанницей – царицей? Чем тебя можно удивить, чем побаловать? К тому же старое вино кончилось и лососи кончились… И разве не вкуснее всего свежий хлеб?
Вдруг сильно застучали в двери, и он быстро спрятал Талмуд. Приехали из лагеря Рожинского.
– Гетман тяжело ранен! Пуля сломала ему два ребра и задела внутренности.
– Но он жив?
– Жив!
– Он будет жить?
– На то воля Божия. Рана большая, князь потерял много крови.
Вор послал к гетману своего врача, а к себе кликнул Кошелева.
– Ну что, шут? Одно твое предсказание сбылось.
Шут тотчас кинулся к порогу, насыпал в уголок песку и пописал в песок.
– Что это значит, шут?
– Я хочу быть кошкой.
– Нет, шут! Ты мне нужен в человеческом обличье. Я напуган, шут. Рожинский мне много досаждал, но без него как бы совсем не прибили. Что мне делать, посоветуй.
Шут засмеялся, погрозил Вору пальцем.
– Ты же сам знаешь, что задумал.






