Смута Бахревский Владислав
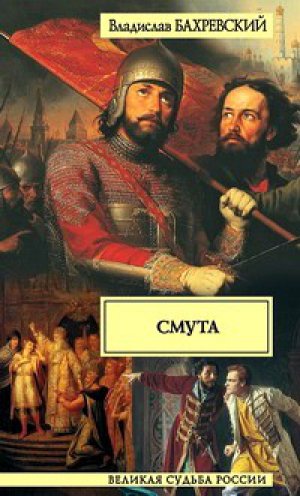
И сказал Иов молитву, которую не услышали, ибо шикали друг на друга, прося тишины. Умолкла наконец площадь, затаила дыхание, сели птицы на купола и крыши, и даже ветер, обрывая полет, лег на толпу и в ноги толпы.
– Отойди, Сатана, от меня! – сказал Иов совсем негромко, но и Аника и Лавр почуяли на спинах своих мурашки. – Избавь, Господи, меня, пастыря, и пасомых мною овец от многой лжи, которая в нас! Ныне на престоле юный, безгрешный, пресветлый государь Федор Борисович. Научимся от него чистоты его. Как камень держит утопленника под водою, так держит нас всех за ноги в волнах лжи ложь о святом убиенном царевиче Дмитрии. Да воссияет истина. Истиной разгоним тучи, заволокшие небо над пресветлым Русским царством.
– Осатанели, святейший! Воистину осатанели! Помолись за нас! Помолись! – запричитала толпа, тронутая словом мудрого патриарха.
– Да простит нам Господь грехи наши! – ответил Иов. – Зову на сие высокое место боярина и князя Василия Ивановича Шуйского. Он хоронил царевича. Пусть скажет нам всю правду, какая она ни есть.
Из толпы бояр, стоявшей у Лобного места, семеня, вышел старичок. Суетливо оглядываясь, споткнувшись на каждом порожке, выбежал на помост всем на погляд.
– Народ! Москва! – крикнул он тоненько, вскидывая руки к куполам храма Василия Блаженного. – Да не даст мне опоганить уста мои ложью ангел мой и покровитель святой Василий-правдивец!
Лавр нагнулся к уху Аники и шепнул басом:
– Соврет, вьюн!
– Своими руками, этими руками! – Шуйский вскинул над обнаженной, лысой, остренькой, как локоть, головкой румяные ладони. – Этими руками клал во гроб святого агнца Дмитрия Иоанновича. На том и крест целую.
Плача, кинулся к патриарху, припал к руке. От патриарха перебежал к кресту, который поднес ему для поцелуя архидьякон. Поцеловал трижды, озираясь после каждого поцелуя на толпу. От креста метнулся к иконе и ее, великую, пресветлую, зачмокал многим чмоканьем.
– Да спасет нас Господь! – отирая слезы с лица, по-птичьи крикнул патриарх и снова благословил народ.
– Царь-то у нас, молитвами Царицы Небесной, – чистый ангел. От лица свет так и прыщет, сама видела! – умилялась дородная баба, стоявшая рядом с Аникой и Лавром.
– Царевна Ксения, ярочка кроткая, тоже как от света рожденная! – откликнулась сударушка, личиком круглая, глазами ласковая.
– Господи! Все ты нам дал и даешь, чего еще-то нам надо, бесстыдникам?! – рассердилась вдруг дородная баба и тоже вдруг прослезилась. – Пошли государюшке нашему крепости да крепких слуг.
Государь в это самое время сидел в Грановитой палате на троне отца своего и, не показывая вида, что изнывает, дожидаясь известий с Красной площади, обсуждал дела житейские, богоугодные.
Бояре все были у Лобного места, но в палате присутствовали думные люди, приказные дьяки, дворцовые чины.
Государь спросил, сколько по всей России нищих, а если это неизвестно, то сколько нищих в Москве.
– Да ведь на каждой паперти просят! Церквей же в Москве сорок сороков, – ответил думный дьяк Власьев.
– Среди просящих милостыню немало корыстных людей, людей, промышляющих подаянием! – возразил государь, черные внимательные глаза его не скрыли озабоченности. – Я хочу знать, сколько в Москве, сколько во всей России бездомных, не имеющих постоянного куска хлеба людей. Я хочу избавить бедных от бедности.
– На всех, государь, никакой казны не хватит! – с улыбкой взрослого человека ответил Власьев.
– Верно, Афанасий Иванович, раздачей денег бедность изжить невозможно. Для людей неимущих, а потому постоянно праздных нужно работу найти. Раздавать деньги, никак не заработанные, – значит, приучать народ к безделью и попрошайству. Куда полезнее на эти же деньги построить деревни, купить землю, снасти, занять праздных всяческим рукоделием. Дума об этом имела рассуждение?
– Нет, государь! Дума большие дела разбирает, царские.
– Но разве это не царское дело – избавить царство от праздности, отучить народ от нищенства? Нет, господа, это дело большое. И мы им займемся прежде всех других дел. Мария Григорьевна глядела на сына через потайное окошечко. Глядела и обмирала от счастья и от смертной тоски.
Сын был прекрасен, и слова его были словами – царя. Великодушного, великомудрого. Но у него, юного заступника Добра и сеятеля Света, не осталось ни войска, ни народа. Народ в который раз отвернулся от своего счастья. Мария Григорьевна знала, что на Лобном месте Шуйский вел себя хорошо. Люди разошлись довольные, но сердце изнемогало от мысли, которая грызла и душу и плоть, ничего уже не пугаясь, без передыху. Донесут ли москвичи довольство и добрые чувства хотя бы до порога домов своих? Москвичи – племя переменчивое, всякий ветер им хозяин, как траве.
– Меня очень тревожит темнота нашего священства, – говорил государь удивляющимся слушателям своим. – Я в Замоскворечье зашел позавчера в один храм. Там были дьячок и поп, а народу пять человек, детей столько же. Слышу, читает дьячок Евангелие. Одни слова понимаю, а другие нет, не слова с уст – звуки. Подошел ближе, а дьячок в книгу и не глядит. Спрашиваю: «Где читаешь?» Тычет пальцем в строку. «Но тут иное написано». – «А я, – говорит, – грамоте не разумею. Я на память Писание знаю. Как отец меня учил читать, так и читаю».
Дьяк Афанасий Власьев согласно закивал головой.
– Великий государь! Я в моей деревне попа уличил – десяти заповедей не знает. Не убий, не прелюбы сотвори, не укради, чти отца твоего и матерь твою, а дальше что в голову придет, то и брякнет.
– Надо учить народ, – сказал государь, опуская голову, но тотчас и встрепенулся. – Всей Думой умолим святейшего Иова, чтоб послал ученых пастырей ко всем невеждам.
Послышался шум за дверьми, двери отворились, и в Грановитую палату чинно вступили бояре, следуя за Иовом и Шуйским. На лицах благостное умиление, как на Пасху, когда, целуясь, прощают грехи друг другу.
И минул день.
Утром 30 мая государь с матерью царицей Марией Григорьевной, с царевной Ксенией стояли обедню в Благовещенской церкви.
Боярыни и боярышни, молясь Богу, поглядывали на государя Федора Борисовича. Стоял он перед иконой Спаса, златоликого, златоглазого, глядел в черные зрачки Его и ничего боле не видел, кроме этих черных глубин, где тайны жизни каждого человека, нынешнего и завтрашнего, где боль и грусть Бога о нас. Не молил, не просил Федор Борисович за себя, за царство, смотрел безутешно, покорный высшей воле. И уже не в храме стоял, а в темных зрачках Господа, как стоим мы всю ночь перед небом.
Боярышни, подглядывая за государем, обмирали, ибо красив был нездешней красотой. Не всякое смирение сиро.
Обедня половины не перевалила, как начались вдруг шепотки и стал храм пустеть. Царица Мария Григорьевна приметила это и, поведя бровью, подозвала к себе начальника, ведавшего соглядатаями.
– За Серпуховскими воротами большая пыль, – шепнул царице главный доносчик. – Народ говорит, царь Дмитрий к Москве идет.
Алые румяна на щеках Марии Григорьевны потрескались, как трескается земля от засухи. Желтизна проступила в трещинах, лоб стал желтым, глаза провалились в темень глазниц. Дрожащей рукой взяла за руку Ксению – набраться сил от ее молодости.
– С братом будь! – И кинулась в Грановитую – выталкивать бояр на Красную площадь.
По Москве толчея, галдеж.
– Куда?! – крикнул Аника, сидя верхом на крыше: старого конька менял на нового, узорчатого.
Дьякон Лавр поспешал из церкви, забыв разоблачиться.
– Ты все домишко охорашиваешь, а на Москву истинный царь идет!
– А ты куда?
– Хлеб покупать. Царя, чай, хлебом-солью встречают.
Всякие хлебы и всякие солоницы за единый час скупили москвичи и с караваями, с калачами, с пирогами потекли на площадь.
– Зачем собрались? – спросили людей бояре.
Толпа призадумалась.
Ни единого ответчика среди многих тысяч не сыскалось. Князь Туренин, взойдя на Лобное место, стал увещевать народ:
– Неужто вам не в радость иметь на престоле царя доброго и разумного? Вчера государь приказал боярам и думным людям деревни строить для бедных и нищих. Царь молод, но печется о народе, как зрелый муж, как отец.
Туренин говорил жарко, а толпа у Лобного места редела, и вот уж одни спины боярину и Кремлю.
– Господи! – вскричал, оставшись с матерью наедине, Федор Борисович. – За что они Дмитрия любят? Он же ничего не сделал для них! Никто в Москве его не слышал, никто не видел, а любят!
– Чернь! Они – чернь! – От ненависти Мария Григорьевна закрыла глаза, и кожа на подбородке тряслась у нее, как студень.
– Мама! Неужели моя любовь и мое всепрощение – пустое место для народа?
– Они – чернь! Чернь! Народ хуже камня. Камень от солнца теплым бывает, от мороза – холодным… Чернь мерзостна, как лягушачья икра…
Мария Григорьевна уткнула лицо в ладони и заплакала горчайше, и Федор Борисович, усадя мать на лавку, сидел возле нее и смотрел на распахнутую печурку, в которой лежала горка холодного, не убранного нерадивыми истопниками пепла.
31 мая поутру Мария Григорьевна в простой колымаге, одетая просто, закутавшись в выгоревший на солнце платок, проехала вокруг кремлевских стен, выходя, где были толпы, чтобы послушать крикунов.
На кремлевские стены царская стража втаскивала затинные пищали и пушки.
– По воронам собрались стрелять?! – кричали москвичи сурово помалкивающим солдатам.
– Чем стрелять-то будете, горохом?
– Коли по нас, так палите солью, чтоб на всю Москву была потеха!
Озорник встал к Круглой башне задом и, сняв портки, подбадривал пушкарей:
– Наводи, не щурься!
Малые ребята обрадовались и тоже порточки поскидали. Дурной пример – как поветрие. Ладно бы дети, даже бабы, заворачивая подолы, хулили Кремль и верных царю слуг голыми задницами.
– Не народ, а юродивые! – Марию Григорьевну трясло от гнева, от ненависти, от бессилия.
Пока матушка в народ ходила, царь Федор Борисович принимал в своей комнате пятерых из восьми поповских старост, сидевших в поповой избе у Покрова Богородицы на Рву, иначе сказать, у храма Василия Блаженного. Порядок этот завел еще в царствие царя Федора Иоанновича патриарх Иов. Под началом каждого старосты было по сорок и больше попов, старостам вменялось в обязанность следить за нравственностью священства и за точным исполнением службы и патриарших распоряжений. Перед каждой обедней попам приказано было петь молебны о вселенском устроении, о многолетии царя и царицы, о христолюбивом воинстве. Без надзора и попа нельзя оставить. Ленивые не только молебнов не пели, но службы служили вполовину. Начав крестный ход, уходили с него по своим делам. Старосты и те оказались непослушными, из восьми пришло к государю пятеро, и все пятеро признались, что о здравии царицы Марии Григорьевны и о его царском здравии половина московских попов не поет, а которые поют, тем бывают угрозы, иных били.
Федор Борисович слушал старост, и ноги его в алых сапожках мерзли. Он сжимал пальцы, и ему казалось, что пальцы на ногах у него длиннее, чем на руках.
– Сегодня Дума будет решать важное дело, ваше дело тоже будет решено, – пообещал государь, отпуская старост. – Да образумятся заблудшие. Вам же, добрым людям, дарю мое сердце.
Поспешил в Грановитую.
Двери палаты отворились – никого.
Федор Борисович не запнулся о пустоту. Прошел на свое место, сел. Поднял голову. Глаза его, строгие, честные, наполнились слезами от позора. Ни одного боярина. Палата, впрочем, была не совсем пуста.
Поднялась с лавок, стала у дверей стража. Подьячий не спеша очинял гусиное перо и, чтобы не глядеть на одинокого государя, глядел в коломарь, много ли чернил, разглаживал ладонями чистые листы.
Трон был широковат, царь сидел на нем чуть боком, навалясь на поручень. Предстояло решить дело Петра Федоровича Басманова и прочих изменников.
«Вот и не торопятся», – подумал Федор Борисович, утешая себя.
Отцовский звериный талант – знать наперед, кто стоит за углом и с чем, материнская чрезмерная ненависть ко всему, что может угрожать царственному гнездовью, перешли к Федору Борисовичу в столь полной мере, что превратились в нем в свою противоположность. Он все знал, но не мог превозмочь гордости своей, чтобы искать спасения, цепляясь за соломины. Он просто жил, пока ему позволяли жить.
– Дайте мне книгу, которую я вчера читал, – попросил Федор.
Ему подали «Летописец». Он открыл наугад и прочитал: «О выдающиеся среди мучеников! Наблюдайте за нами свыше! Раз уж вы изволили тогда пострадать за Церковь и за людей вашего Отечества…» То было «Похвальное слово Льва Филолога Михаилу и Федору Черниговским», убитым Батыем.
– Дайте мне другую.
Ему принесли иной сборник. Он открыл его, и глаза прочитали: «Притча третья. Вопрос царя после убийства Ихналита».
Повернул листы.
«В один из дней сказал ворон мышонку:
– Вижу, что дом твой близко от дороги, и боюсь я, что из-за меня обнаружат тебя и ты погибнешь. Я знаю место, удаленное от людей, где в изобилии рыбы и разной другой пищи. Есть там у меня приятельница черепаха, и я хочу, чтобы ты пришел туда кормиться и жить с нами…
Взял ворон мышонка за хвост и отнес его к источнику, в котором жила черепаха».
Задумался Федор Борисович. Ясно увидел, как ворон несет за тоненький хвост крошечного мышонка. Все дальше старое опасное жилье, вот она, чудесная черепаха, опустившаяся на дно источника, притворяясь камнем.
Стало так покойно вдруг, что он откинулся головой на спинку трона и заснул, удивляя стражу и подьячего.
Утром 1 июня государь Федор Борисович опять пришел в Грановитую палату. И была палата пустее вчерашней, ни подьячего, ни стражи. И сел государь на трон и сидел. И был он царем пустой Грановитой палаты.
Вспомнил вдруг, как принимали они с батюшкой посла короля Сигизмунда канцлера литовского Льва Сапегу. И другой день, 3 декабря того же 1600 года, когда вместе с боярами, уже без батюшки, начинал он переговоры со строптивым литовцем. Тогда Грановитая палата от многолюдья не казалась огромной, ему же, соправителю великого государя – воистину великого! – было только одиннадцать лет. А Сапега смирился, представил на рассмотрение Думы все свои хитрые условия вечного мира. И были в тех условиях статьи, которые Федор Борисович и теперь помнил, так они были необычны. Ввести одинаковую монету в Московском и Польском царствах. Иметь двойные короны! Польского короля при коронации должен увенчивать московский посол, московского царя – польский. Если же поляки изберут на царство московского царя, то ему жить попеременно – год в Кракове, год в Вильно, год в Москве.
– И все это отвергли, – сказал вслух царь Федор Борисович. – Боялись католиков. А они идут, ведут за руки Самозванца, и никому не страшно…
Бормотание в пустой палате походило на крысиную возню под потолком. Он замолчал. И смешон был сам себе за свое сидение, но что он еще мог поделать? Царское дело – на троне сидеть.
Дверь отворилась – матушка.
– Что ты безмолвствуешь?! Изменники Гаврилка Пушкин с Наумкой Плещеевым на Лобном месте читают воровскую грамоту!
– Я жду мою Думу.
– Бояр я выслала к народу против изменников говорить, а они Шуйского привели. Крест целовать.
– Шуйского? Он же целовал крест.
– А теперь перецеловал в иную сторону. В ножки народу кланялся. «Каюсь! Каюсь! – кричал. – Борис послал убить царевича Дмитрия, царевича подменили. Волохов зарезал поповского сына. Я хоронил поповича».
Федор Борисович будто вмерз в свой трон.
– Сынок, очнись! – подойдя к нему, гладила по голове Мария Григорьевна. – Бежать нам надо! Они – идут.
Но они уже пришли.
Ксения, спасаясь от грохота ног по всему дворцу, вбежала в Грановитую палату.
– Дочь! Образ Спаса возьми! – крикнула Ксении Мария Григорьевна, снимая с божницы Пресвятую Богородицу.
Они стали у трона с обеих сторон. Именем Господа и образами защищали от толпы государя своего.
Толпа, теснясь, заполняла Грановитую палату, не зная, как поступить.
– На клячу их! На моего водовоза да на Борискин двор! Ишь, расселись в царях! – осенило кремлевского водовоза, и все весело принялись исполнять сказанное. Тащили за руки царицу, царевну, били в бока царя. С Марии Григорьевны чья-то жадная рука сорвала жемчужное ожерелье.
К царскому крыльцу подогнали клячу с дровнями, с бочкой. Бочку поставили на попа. Царицу, царевну и царя погрузили возле бочки – дрова так не грузят. С гиком, с посвистами, улюлюкая, погнали клячу прочь от дворца. От ужаса и старости лошадь оступалась, в животе у нее ухало, она роняла котяхи и наконец стала и помочилась – под всеобщий бесовский восторг разгулявшейся толпы.
Мать, дочь, сын – вошли в прежний свой дом и заперлись в чулане, за спальней Бориса Федоровича. Сидели на свернутых пыльных коврах.
В доме было тихо, но подворье ходило ходуном. Ярыги нашли винный подвал, и такое там шло хлебово, что не всякий выбрался обратно. Одни были пьяны мертвецки, другие пьянецки мертвы.
Уже глубокой ночью Мария Григорьевна разбудила задремавшего на плече Ксении Федора Борисовича.
– Покушать не хочешь?
– Хочу!
– Пойдемте, детки, в комнаты. Чему быть, того не миновать.
– Неужто за нас заступиться некому?! – совершенно пробудясь, бросился к матери на грудь Федор Борисович. – Каждый москвич от батюшки или деньги получил, или хлеб.
– На доброе память коротка, – впервые за чуланное затворничество молвила словечко сестрица Ксения.
Москва осталась без власти, без призора. Только через десять дней явился под ее стены Дмитрий Иоаннович и объявил, что не займет престола своего отца, покуда будут живы те, кто его предал. Большинство гонителей покарал Бог, но Москва все еще не чиста, коли там похитители престола Федор Борисович и его мать Мария Григорьевна.
И поехали в стольный град, дабы очистить его от скверны Годуновых, князья Василий Голицын, Василий Масальский-Рубец, дворяне Молчанов, Шеферединов, дьяк Сутупов и стрельцы.
Усердные слуги нового царя, они прежде явились к патриарху Иову. Патриарх служил обедню, но старый опричник Шеферединов схватил святителя, когда тот вышел из Царских врат, поволок из собора – так и мешки-то не таскают – и кинул в крестьянскую телегу, приказав приставу везти с глаз долой, в Старицкий монастырь.
Потом самозваные хозяева Москвы вломились в дом, где коротали свои горькие дни царица Мария Григорьевна, царь Федор Борисович и царевна Ксения. Всех троих развели по разным комнатам и принялись за дело.
– А ведь я тебя сейчас удавлю. – Мишка Молчанов подходил к царице ухмыляясь, играючи веревкой, с каблука на носок переступая, из углов рта слюнки пальцами скидывая.
Мария Григорьевна не шелохнулась, лишь морщила лоб, вспоминая молитву к Богородице, но слова не шли, а стоял перед нею Борис, чернявый, кудрявый, молодой… Молчанов, кряхтя, набросил веревку на шею государыни, кинул конец стрельцам.
– Тяните, черти!
Юный Федор сколько мог отбивался от своих палачей. Его убили подлее нельзя, раздавили тайные его уды,[3] а потом еще и веревкой мертвого душили.
О Ксении приказа не было, ее не тронули. А вот о царе Борисе, о Годунове ненавистном, без приказа расстарались. Тело царя было выкопано из могилы в Архангельском соборе, брошено в дощатый крестьянский гроб, отвезено на Сретенку, в Варсонофьевский женский монастырь. Беднее в Москве не нашли.
Покойных, царицу Марию и царя Федора, в крестьянских же гробах выставили на улице на всеобщее обозрение. Князь Василий Голицын объявил народу:
– Царь и царица со страху опились зелья и померли. Царевна же едва жива.
Следы веревок на шеях говорили об иной смерти. Однако люди, хоть и пришли тысячами, – помалкивали. Плакали, прощения у покойных просили, но помалкивали. Гробы отвезли туда же, на Сретенку, похоронили как самоубийц, за стенами храма.
В тот июньский день бабочек слетелось – со всего белого света. Садились на цветы, на деревья, на телеги, на кровли, на лошадей, на собак. Трепетали возле куполов, под золотыми крестами, облепили купола Ивана Великого. А на людей не садились. Ни на старых, ни на малых. Одна только Алена-юродивая удостоилась. Так густо ее обсели, что и платья не надо. И все те бабочки были желтые, как морошка.
Самозванец
Сверкая панцирем, но еще более улыбкой, прискакал Жак Маржерет – командир передового охранения.
– Путь безопасен, государь! Москва в ожидании вашего величества!
Что-то озорное, что-то дурашливое мелькнуло в лице Дмитрия. Чуть склонил голову, прикусил губу и, оглаживая крутую драконью шею коня, шепнул ему на ухо:
– А ведь доехали!
Конь задрожал, по тонкой коже, как по воде, побежала зыбь, да и сам Дмитрий покрылся мурашками с головы до пят – то нежданно ударили колокола надвратных башен. Звон перекинулся на окрестные колокольни. И шествие, оседлав эту тугую, нарастающую волну, потекло под рокочущими небесами в пучину ликующего града.
Испуг прошел, но дрожь не унялась.
Золотые кресты частых куполов обступали со всех сторон и смыкались за спиной в крестную стену. В сиянии крестов была такая русская, такая прямодушная серьезность, что знай он, как они могут стоять в небе, московские кресты, – отступился бы от своего…
– Вернулось солнце правды! – взыгрывали басами заранее наученные дьяконы, друг перед дружкою похваляясь громогласием и громоподобием.
– Будь здрав, государюшко! – вопил с крыш и колоколен веселящийся народ.
– Дай тебе Бог здоровья! – приветствовали женщины с обочин дороги, все как одна лебедушки: крутогрудые, щеки пунцовые, глаза, с закрашенными ради великого праздника веками, – черным-черны.
Дмитрий сначала пытался отвечать:
– Дай Бог и вам здоровья!
Но где же одолеть тысячегорлую радость и литое многопудье колоколов. Он только изображал, что отвечает, шевелил губами, не произнося ни единого слова.
Было 20 июня, жара еще не поспела, тепло стояло ровное, доброе. Облака, как разлетевшийся одуванчик, солнца не застили, а только указывали, какое оно высокое и синее, русское небо.
Государь Дмитрий Иоаннович миновал живой мост перед Москворецкими воротами и уж на площадь вступил, как сорвалась с земли буря. Вихрь взметнулся до неба и, пойдя на Дмитрия, на его войско, толкал их прочь. Кони стали. Дмитрий Иоаннович, не перенеся пыли, отвернулся от русских святынь и, попятив коня, укрылся за железными спинами польской конницы.
– Помилуй нас Бог! – перепугались люди: знамение было недоброе. – Помилуй нас Бог!
Ветер дул какое-то мгновение, погода тотчас утихомирилась, порядок процессии восстановился, и к Лобному месту Дмитрий Иоаннович подъехал впереди шествия. Здесь его ожидало духовенство с иконами, с крестами. Раздались возгласы благословения, а он все еще не сходил с коня. Конь дергал узду, перебирал ногами и, пританцовывая, относил всадника в сторону – не нравился запах ладана.
Наконец Дмитрий Иоаннович соблаговолил спешиться, кинув поводья Маржерету. Поднялся на Лобное место, стряхнул с одежды пыль, отер ожерелье, камешек за камешком, и только потом чмокнул, не глядя куда, икону, с которой на него надвинулись иерархи. Тотчас отпрянул – кто их там знает? – торопливо вернулся к коню. Опамятовался, прошел мимо, ближе к собору Василия Блаженного, к толпе народа, теснимого строгой охраной. Скинул шапку, принялся креститься, кланяясь храму, людям, Кремлю, плача и восклицая:
– Господи! Слава тебе, Господи, что сподобил зреть вечные стены, добрый мой народ, милую Родину!
Люди, смутившиеся бурей и уже подметившие – благословение не умеючи принял, икону не в край поцеловал, а в сам образ, шапку не снял! – теперь, радуясь слезам царя, простили его оплошности (от такой радости грех головы не потерять!), плакали навзрыд, соединясь сердцем с гонимым и вознесенным, кем же, как не Господом Богом!
Царь двинулся в Кремль. Двинулся и крестный ход, с пением древних псалмов, но тотчас польские музыканты грянули в литавры, в трубы, в барабаны. И, хоть музыка была превеселая, зовущая шагать всех разом, священное пение было заглушено, священство посбивалось с напева и умолкло.
В кремлевские соборы Дмитрий заходил, окруженный поляками. Поклонясь гробам Иоанна Васильевича и Федора Иоанновича, поспешил в Грановитую палату, сел на царское место.
На него смотрели затая дыхание, а он был спокоен и распорядителен. Подозвал Маржерета и ему сказал первое свое царское слово:
– Смени всю охрану. Во дворце и во всем Кремле. Пищали держать заряженными.
И обозрел стоящих толпою бояр, своих и здешних, телохранителей, казаков. Улыбнулся атаману Кореле.
– Приступим.
Это было так неожиданно, так просто.
– Где бы я ни был, я всегда думал о моем царстве и о моем народе. – Голос чистый, сильный. Все шепоты и шорохи прекратились, и он, указывая на лавки, попросил: – Садитесь. Никому не надо уходить. Сегодня день особый, праздничный, но не праздный. Наблюдая, как управляют государством в Польше, сносясь с монархами Франции, Англии, я подсчитал, что у нас должно быть не менее семидесяти сенаторов. Страна огромная, дел множество. Всякий просвещенный, умный человек нам будет надобен, и всякое усердие нами будет замечено. Сегодняшний день посвятим, однако, радостному. Нет более утешительного занятия, чем восстановление попранной истины и справедливости. Ныне в сонм нашей Думы мы возвращаем достойнейших мужей моего царства. Первый, кого я жалую, – есть страдалец Михаил Нагой. Ему даруется сан великого конюшего. Все ли рады моему решению?
– Рады, государь! Нагой – твой дядя, ему и быть конюшим, – загудели нестройно, невнятно бояре, принимаясь обсуждать между собой услышанное.
Иезуит Левицкий воспользовался шумом и, приблизившись к трону, сказал по-польски:
– Толпы на Красной площади не редеют, но возрастают.
Лицо Дмитрия вспыхнуло.
– Надо кого-то послать к ним… – И спросил Думу: – Почему на площади народ? Голицын, Шуйский! Идите и узнайте, что надобно нашим подданным?
– Государь, дозволь мне, укрывавшему тебя от лютости Годунова, свидетельствовать, что ты есть истинный сын царя Иоанна Васильевича.
Дмитрий чуть сощурил глаза: к нему обращался окольничий Бельский – родственник царицы Марии и лютый враг царя Бориса.
– Ступай, Богдан Яковлевич! – разрешил Дмитрий и притих, затаился на троне, ожидая исхода дела.
Сиденье было жесткое, хотелось уйти с глаз, так и ловящих в лице всякую перемену, но с того стула, на который он сел смело и просто, восхитив даже Левицкого – воистину природный самодержец! – не сходят, с него ссаживают. Дмитрий, поерзав, вдруг сказал надменно и сердито:
– Не стыдно ли вам, боярам, что у вашего государя столь бедное место? Этот стул – величие святой Руси, я не желаю срамиться перед иноземными государями. Подумайте и дайте мне денег на обзаведение. Сие не для моего удовольствия – я в юности моей изведал лишения и нищету, но ради одной только славы русской.
Богдан Бельский в это самое время, когда Дума решала вопрос о новом троне, стоял на Лобном месте перед народом и, целуя образок Николая-угодника, сняв его с груди, кричал, срывая голос:
– Великий государь царь Иоанн Васильевич, умирая, завещал детей своих, коли помните, моему попечению! На груди моей, как этот святой образ заступника Николая, лелеял я драгоценного младенца Димитрия! Укрывал, как благоуханный цветок, от ирода Бориски Годунова! Вот на этой груди, в чем целую и образ и крест!
Крест поднес рязанский архиепископ Игнатий.
Истово совершил Бельский троекратное крестоцелование. И еще сказал народу:
– Клянусь служить прирожденному государю, пока пребывает душа в теле. Служите и вы ему верой и правдой. Земля наша русская истосковалась по истине. Ныне мы обрели ее, но, коли опять потеряем, будет всем нам грех и геенна.
Добрыми кликами встретил народ клятву Бельского.
Уходил Богдан Яковлевич на Лобное место окольничим, возвратился – боярином.
У Дмитрия все скоро. Бельского пожаловал, и вот уж новое дело для Думы.
– Пусть иерархи Церкви завтра же сойдутся на собор. Негоже, коли овцы без пастыря, а Церковь без патриарха.
– Успеем ли всех-то собрать? – усомнился архиепископ Архангельского собора грек Арсений.
– Кто хочет успеть, тот успевает, – легко сказал царь, сошел со своего жестковатого места и отправился в покои, куда была доставлена царевна Ксения Борисовна.
Перед опочивальней его ждали братья Бучинские. Лица почтительнейшие, но глаза у обоих блестят, и он тоже не сдержался, расплылся в улыбке. Братья, работнички усердные, доставляли ему в постель по его капризу и пышных, расцветших, и тоненьких, где от всего девичества лишь набухающие почки. Но прежде не то чтоб царевен, княжон не сыскали.
– Цесарю цесарево, – прошептал, склоняя голову, старший из братьев, Ян.
И во второй раз широкой своей, лягушачьей улыбкой просиял царь Дмитрий Иоаннович. Но, когда в следующее мгновение дверь перед ним растворилась, сердце у него екнуло, упало в живот, и он, отирая взмокшие ладони о бедра, постоял, утишая дыхание, умеряя бесшабашную предательскую подлую свою радость.
Ксения, как приказано было, в одной нижней рубашке сидела на разобранной постели.
Сидела на краешке. Пальчики на ножках, как бирюльки детские, махонькие, розовые, ноготочки розовые.
Дмитрий стал на пороге, оробев. Тот, что был он, выбрался вдруг наружу со своим все еще не отмершим стыдом. Ксения подняла глаза, и Дмитрий – уже Дмитрий! – встретил ее взгляд. По вискам потекли дорожки пота, на взмокших рыжих косицах над ушами повисли мутные капли.
Она опустила голову, и волосы побежали с плеч, словно пробившийся источник, закрывая лицо, грудь, колени.
Только что придуманная роль робеющего вылетела у Дмитрия из головы, кинулся на пол, приполз, припал к розовым пальчикам, к бирюлечкам. Взял на огромные ладони самим Господом Богом выточенные ступни и все поднимал их, поднимал к лицу своему, и совершенные девичьи ноги все обнажались, открывая глазам нежную, тайную, хранимую для одного только суженого красоту. А дальше – багровая страсть, море беззвучных слез и немота.
Ярость всколыхнула его бычью грудь: «Да я же тебя и молчью перемолчу!»
Лежал не шевелясь, теряя нить времени. И вдруг – дыхание, ровное, покойное. Поднял голову – спит.
Нагая царевна, белая, как первый снег, со рдяными ягодами на высоких грудях, спала, склонив голову себе на плечо. Шея, долгая, изумляющая взор, была как у лебеди. Под глазами голубые тени смерти, а на щеках жизнь. Он, владетель и этой драгоценности, удушая в себе новую волну смущения, побежал по царевне глазами к ее сокровенному и увидал алый цветок на простыне.
– И девичество мое! Я все у тебя взял, Борис Годунов. Все. Сказанное себе – сказано самой Вселенной. Слово – птица самого Господа Бога. Не напророчил ли? Взять счастье Годунова куда ни шло, но взять его несчастья?
Царевна спала. Дмитрий осторожно сошел с постели, прикрыл одеялом спящую. Оделся, положил поверх одеяла свое великолепное ожерелье, в котором вступал в Москву. Сто пятьдесят тысяч червонных стоили эти камешки.
– Вот тебе в утешение, царевна!
Вышел из покоев, послал за Петром Басмановым.
Угощая вином, будто для того только и звал, спросил:
– А где сейчас Василий Шуйский?
– У себя во дворе.
– Был во дворе. Где он теперь, когда мы с тобой вино попиваем? – Поглядел на Басманова со значением, но тотчас снова наполнил кубки. – Люблю тебя как брата.
– Ваше величество! – Басманов от глубины чувств припал к руке государя.
– Полно-полно, – сказал Дмитрий. – Завтра у нас трудный день. Скажи, не станут ли попы за патриарха Иова?
– Не станут, государь! Он ведь еще у Годунова просился на покой. Я его в Успенском соборе принародно Иудой назвал, тебя, государь, предавшим. Народ ничего, помалкивал. Знать, ты, государь, дороже людям, чем немощный патриарх. – И похвастал: – Мой дед Алексей при Иване Васильевиче Грозном митрополита Филиппа из Успенского выволакивал, я же выволочил патриарха! Басмановы, государь, великие слуги.
– Дарю! – Дмитрий сгреб на середину стола позлащенные кубки и тарели, набросил на все это концы скатерти. – Забирай ради дружбы нашей. И помни: все милости мои царские впереди.
Собор иерархов Русской православной церкви, ведомый архиепископом Арсением, должен был исполнить волю царя Дмитрия, который пожелал видеть на патриаршем престоле архиепископа Игнатия. Игнатий был уж тем хорош, что первым из иерархов явился к Дмитрию в Тулу, благословил на царство и привел к присяге всех, кто торопился прильнуть к новым властям, ухватить первыми. И ухватили. Семьдесят четыре семейства, причастных к кормушке Годуновых, были отправлены в ссылку, а их дома и вотчины перешли к слугам и ходатаям нового царя.
Прошлое архиепископа Игнатия было темно. Шел слух, что он с Кипра, бежал от турок в Рим, учился у католиков, принял унию. Сам он, пришедши в Москву, в царствие царя Федора Иоанновича, просителем милостыни для александрийского патриарха, назвался епископом города Эриссо, что близ святого Афона.
По подсказке иезуитов Арсений предложил изумленному собору возвратить на патриарший престол патриарха и господина Иова. Постановление приняли, держа в уме, что Дмитрий-то и впрямь Дмитрий, коли не боится возвратить Иова из Старицы. Иов Гришку Отрепьева в келии у себя держал. А главное, гордыню потешили: решено так, как они хотели, столпы православия. И все по совести. Назавтра же, поразмыслив, дружно согласились с тем, что патриарх слаб здоровьем, стар, слеп и что покой ему во благо. Тем более что мудрый государь позвал сидеть в Думу не одного патриарха, как было прежде, но с ним четырех митрополитов, семерых архиепископов, трех епископов.
Вот тогда и пришел к царю архиепископ астраханский Феодосий, сказал ему при слугах его:






