Смута Бахревский Владислав
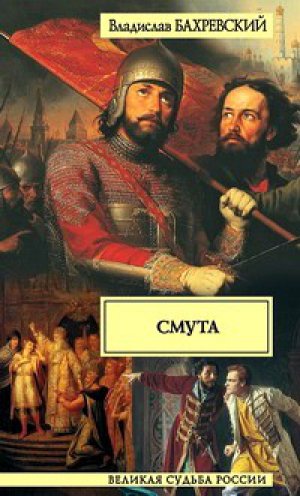
– Из двух. – Глаза Дмитрия, бегавшие во время разговора, остановились. – Собери мне, друг мой Петр Федорович, всех московских стрельцов. В Кремле собери. Завтра. Да не завтра! Сегодня и собери. Ступай! – ласково подтолкнул Басманова в плечо. – Поторопись, товарищ мой верный.
– Татищева, государь, вернул бы. Многие просят за него, – сказал вдруг Басманов.
– И Шуйский?
– И Шуйский.
– А ты просишь?
– Прошу, государь.
– Не на свою ли голову, Басманов? Возвращай, коли соскучился! Тебе за ним смотреть.
Басманов радостно улыбнулся, поклонился, вышел. Дмитрий тотчас побежал к окошку, а возок уж поехал.
– Как же так? – застонал Дмитрий, уцепясь пальцами за решетчатое окно. – Как же так?
За лубяным возком след простыл, а Дмитрий все глядел и глядел… И перед глазами плыло его видение: чреда людей под черною луною, и каждый из чреды – это он.
…Вечером того же дня царевну Ксению постригли. Царевна умерла, родилась черница Ольга.
Стрельцам было велено прийти в Кремль без ружей. Они и не взяли ружья. У иных совсем ничего не было, иные же прихватили бердыши, протазаны, сабли.
Место выбрано царем было странное, за садом, на огороде, у глухой стены.
Царь пришел с ротою Маржерета, а другая рота, конная, капитана Домарацкого, встала поодаль.
Привели семерых стрельцов, что оговаривали государя. Конвой тотчас отступил, и Дмитрий шел среди этой семерки без опасения. Они, думая, что Бог пронес, стали среди своих, в первом ряду. Дмитрий приятельски положил руку на плечо стрелецкого головы Григория Микулина и, высоко поднимая голос, чтоб слышали все, сказал:
– Я вырастал в палатах отца моего, великого Грозного царя Иоанна Васильевича. Происками Годунова матушку мою, меня и всех Нагих, матушкиных кровных родственников, – выслали в Углич. Там я и жил, покуда верные люди не сообщили матушке, что Годунов замыслил злое дело. Тогда нашли ребенка, схожего со мною лицом и ростом, поповского сынишку, а меня укрыл в надежном месте Богдан Яковлевич Бельский… Остальное долго рассказывать. Многие из вас видели мою встречу с матушкой на лугу в Тайнинском. Не будь она мне матерью, слез бы благодарных, чистых не проливала. Я перед вами как на духу, но и вы скажите мне всю правду: есть ли у кого из вас доказательства, что я не царевич Дмитрий?
Стрельцы молчали, опускали глаза. Государь глядел на них, посапывая носом-лапоточком. Высморкался по-свойски, на снег. Закричал на стрельцов:
– Наушничать горазды! Говорите в лицо, коли вам есть что сказать, а нам послушать!
Стрельцы молчали. Дмитрий ждал. Не дождавшись, снова заговорил, подходя к переднему ряду, чуть не грудь в грудь, положа обе руки на свое сердце:
– В чем ваше недовольство мною? Скажите мою вину перед вами! Тому, кто служит мне по чести и совести, и я служу, как самый усердный слуга.
– Господи! Государь, избавь нас от таких горьких укоризн! – воскликнул Микулин.
– Я готов избавить! – В глазах Дмитрия заблистали слезы. – Но ведь порочат! Слухи разносят! Все о том же – расстрига на троне, Гришка Отрепьев! Отрепьевых я по ссылкам разогнал за то, что помогали расстриге своровать, за то, что все они – враги святейшего патриарха Иова… – Государь, освободи! Я за твои слезы у твоих изменников головы покусаю! – выступил вперед Микулин.
– Ваши это товарищи, поступайте с ними по совести.
Махнул на семерку рукою и пошел прочь, ни разу не оглянувшись. А на том, на царском, огороде на осевший весенний снег хлестала кровь: рубили бедняг, кололи сообща, яростно.
Тотчас тела погрузили на телегу и телегу провезли по всей Москве.
Народ царя жалел, не изменщиков.
Жуткая телега еще кровавила московские улицы, а уж князь Василий Иванович Шуйский встретился с князьями Иваном Семеновичем Куракиным да с Василием Васильевичем Голицыным. Встретились в Торговых рядах, в махонькой церковке.
– Нынче царь показал свою силу, – начал Шуйский, – бедный обманутый народ верит ему, проклятому расстриге.
– Как народу не верить, когда правдолюбы на кресте клялись, что царевич истинный, – рассердился Куракин.
– Мы для того здесь, чтоб забыть друг другу старое, – сказал Голицын.
– Истинно, истинно! – воскликнул Шуйский. – Поклянемся быть вместе, покуда не свергнем проклятого расстригу.
– Этой клятвы мало, – не согласился Голицын. – Дадим обет не мстить за обиды, за прежние козни, коли кто из нас в царях будет.
Шуйский первым наклонился над распятием, лежащим на крошечном алтаре, поцеловал.
– Даю обет не мстить, не обижать, коли Бог в мою сторону поглядит. Даю обет – править царством по общему совету, общим согласием…
Голицын и Куракин повторили клятву.
Троекратное истовое целование завершило тайный сговор. Глубокой ночью дом Василия Шуйского наполнился людьми. Были его братья Иван и Дмитрий, племяш Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, были боярин Борис Петрович Татев и только что возвращенный из ссылки думный дворянин Михаил Игнатьевич Татищев, были дворяне Иван Безобразов, Валуев, Воейков, стрелецкие сотники, пятидесятники, шумены, протопопы.
Столы даже скатертями не застелили – не до еды, не до питья.
Князь Василий вышел к своим поздним гостям, держа в руках Псалтырь, открыл, прочитал:
– «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня. В день скорби моей приклони ко мне ухо Твое. В день, когда призову Тебя, скоро услышь меня. Яко исчезли яко дым дни мои, и кости мои обожжены яко головня».
Положил книгу на стол, положил на книгу руки и говорил тихим голосом. И не дышали сидевшие за столом, ибо жутко было слышать.
– Я прочитал вам молитву нищего. Кто же нынче не нищий в царстве нашем? Настал горький час: открываю вам тайну о царевиче, как она есть.
Шуйский умолк, опустил голову, и все смотрели на его аккуратную лысину, на острый, как заточенное перо для письма, носик, и было непонятно: откуда в таком человеке твердость?
Шуйский поднял лицо и осмотрел всех, кто был за столом, никого не пропуская.
– Тот, кого мы называем государем, – Самозванец. Признали его за истинного царевича, чтоб избавиться от Годунова. И не потому, что не был Годунов царем по крови, а потому, что был он неудачник. Лучшее становилось при нем худшим, доброе – злым, богатое – бедным. Грех и на мою голову, но я, как и все, думал о ложном Дмитрии, что человек он молодой, воинской отвагой блещет, умен, учен. Он и вправду храбр, да ради польки Маринки, которая собирается сесть нам на голову. Он умен, но умом латинян, врагов нашей православной веры. Учен тоже не по-нашему.
Шуйский кидал слова, как саблей рубил. Бесцветные глазки его вспыхнули, на щеках выступил румянец.
– Для спасения православия я хоть завтра положу голову на плаху. Я уже клал ее. Вы слушаете меня и страшитесь. Я освобождаю вас от страха. Пришло время всем быть воителями. Рассказывайте о самозванстве царя, о том, что он собирается предать нас полякам. Рассказывайте каждому встречному! Всем и каждому! И стойте сообща заодно, за правду, за веру, за Бога, за Русь! Сколько у расстриги поляков да немцев? Пяти тысяч не будет. Где же пяти тысячам устоять против ста наших тысяч!
Кто-то из протопопов сказал:
– Многие, многие стоят за расстригу – соблазнителя душ наших.
– Скорее у Дмитрия будет сто тысяч, чем у нас, – подтвердил Татев.
– Так что же делать? – спросил Шуйский. – Терпеть и ждать, покуда нас, русаков, в поляков переделают?
Поднялся совсем юный Скопин-Шуйский.
– Дядя! Надо ударить в набат и кликнуть: поляки государя бьют! Я с моими людьми мог бы явиться спасать расстригу. Окружил бы его своими людьми, и тогда он стал бы нашим пленником.
– Его следует тотчас убить! – чуть ли не прикрикнул на племянника князь Василий. – Отсечь от поляков, от охраны и – убить!
– И всех поляков тоже, – сыграл по столу костяшками пальцев Иван Безобразов. – А чтоб знать, где искать, дома их следует пометить крестами.
– Очень прошу не трогать немцев, – строго сказал князь Василий. – Они люди честные. Годунову служили верой и правдой, пока жив был. И расстриге служат, пока жив. – А как не будет жив – другому послужат! – вставил слово Дмитрий Шуйский и подался вперед, чтоб все его видели.
Старший брат рыхлый толстячок с тощей лисьей мордочкой, а этот как мерин. Голова породистая, глаза навыкате – всякому видно: высокого рода человек, но, сколь высок в степенях, столько же недосягаем и в глупости.
Была у заговора голова о три башки, теперь сотворилось тело, правда без ног, без рук.
Весна по небу гуляла, зима за землю держалась.
Под колокольней Ивана Великого пророчица Алена упала и билась в корчах до розовой пены на губах. Многие, многие слышали ее жуткий утробный голос:
– Овцу золотую, Дмитрия-света, на брачном пиру заколют!
Блаженную в ссылку не упечешь.
Другое дело царь Симеон. Этот на паперти Успенского собора, перед обедней, вдруг принялся кричать на все четыре стороны:
– Совесть трубит во мне в серебряную трубу, в трубу слезную! Царь наш, не Богом нам данный, не Богом, тайно уклонился в латинскую ересь! Как придут поляки с Маринкою, так и погонит он православную Русь к папе римскому на заклание!
Старика взяли под руки, отвезли в Чудов монастырь, постригли в монахи и отправили на Соловки.
Народу было сказано: за неблагодарность.
Дмитрий от Симеонова предательства стал чернее тучи. Все твердил, похаживая взад-вперед по личным своим комнатам:
– Татарва православная! Совесть ему дороже царского житья. При Грозном, чай, о совести помалкивал.
У зимы осталось последнее ее покрывало. Она бережно расстелила его ночью и, оберегая от неряхи весны, ударила на шалопутную собранным по закромам последним крепким морозом.
Леса вздыбились, как оборотни, солнце от ледяного напора махонькое стало, белехонькое.
– Куда вы меня везете? Это же погреб! – Ясновельможная пана Марина закрыла собольими рукавичками длинноватый свой носик и бросилась в санки, застланные песцовыми пологами, как в полынью.
Полынья была ласковая, а как сверху укутали, то и совсем стало покойно и даже прекрасно, потому что мороз всех нарумянил, все двигаются проворно, радостно.
Послышались команды, заскрипели седла, заухала под снегом земля от конского топа, и, наконец, полозья взвизгнули, как взвизгивают паненки в руках парней. Огромное, яркое тело поезда тронулось и, набирая скорости, пошло как с горы.
Пана Марина, хорошо выспавшаяся за ночь, тотчас оказалась на спине пушистого, голубого, с алмазной искрой по ости, зверя. Совершенно обнаженная, на жутком русском морозе, и, однако же, не чувствуя ни холода, никакого другого неудобства. Песец мягко, плавно взмывал над землей, и от каждого его беззвучного маха душа замирала.
– Не ты ли это, Дмитрий? – пораженная догадкой, спросила Марина.
Песец, не прерывая бега, повернулся к ней мордой, и она увидела лицо мудрого, грустного иудея.
– Что за шутки?! – Марина гневно треснула скакуна по бокам и проснулась.
И зажмурилась! Но не оттого, что все сверкало и блистало, – от радостного ужаса: солнце сошло на землю, и земля стала солнцем. Марина чуть разлепила веки и, полная, как короб с земляникою, самого ласкового, самого сокровенного счастья, смотрела на преображение земли. Снежные поля полыхали золотом, кожа принимала огонь и становилась позлащенной.
Смертная белизна лесов обернулась такой молодой, такой живой плотью, словно это было тело невесты, сбросившей покровы ради любимого. И небо переменилось. И небо стало плотью, плотью всемогущего солнца.
Марина чувствовала, как воздух припадает к ней, к ее щекам, губам, глазам, как хватает горячими прикосновениями кончики ее запылавших ушей. Засмеялась.
– Нарзежона! Нарзежона круля! – И повторяла по-русски: – Невеста! Невеста короля!
Движение вдруг стало тишать, полет полей накренился на одно крыло, и все замерло.
– Что случилось? – крикнула Марина пану Тарло, своему советнику.
Пан Тарло подскакал к саням.
– Река Угра, государыня!
– Так и что же?
– Но это граница Литвы и России.
– Здесь граница Литвы?
– Прежняя граница, государыня. Давняя! Но всем это интересно.
– И мне тоже! – Лицо Марины вспыхнуло гневом. – Да помогите же мне выйти из санок!
Красота пышущего солнцем белого поля погибла. Гусары, вольные шляхтичи, драгуны – рассыпались по полю, над черной Угрой, с которой буйные февральские ветры унесли снег, а тот, что выпал за ночь, подтаял на разбушевавшемся солнце.
– Все это было наше! – восторженно воскликнул седоусый Юрий Мнишек и распахнул руки. Алый кунтуш под собольей шубою пламенел, красное молодило воеводу. – Так было, панове! Но так и будет! Не сабля достанет нам славу и богатство, но любовь. Любовь моей дочери. Помните об этом, панове!
Поезд снова тронулся, но езда опять была недолгой. На другой стороне реки, в селении ударили колокола, и на дорогу, с крестами, с иконами, с хлебом-солью, вышли к своей будущей царице крестьяне.
Ритуал этот был для Марины испытанием. Превозмогала отвращение к запаху овчинных шуб, к грубым, косматым от бород лицам, расплывавшимся перед ней в улыбках, к корявым рукам, подававшим ей этот их хлеб, эту их соль. Иной раз ведь совершенно черную! Для вкуса и пользы крестьяне перемешивали соль с березовым углем. Марина отведывала хлеб – правду сказать, всегда вкусный, воздушно высокий, взирала на кланяющихся крестьян, слушала молитву попа и, подарив народ улыбкою, торопилась в сани. Торопливость ее люди одобряли:
– К жениху спешит! К свету Дмитрию Ивановичу!
Марина же, садясь в санки, выплевывала хлеб в ладошку, прополаскивала рот крепким вином и натирала руки розовым маслом.
Но иногда и забывалась. Съедала вкусную корочку. И если плевалась, то уж ради одной прислуги своей.
В середине апреля, сменив сани на карету, царская невеста въехала под колокольный звон в Вязьму, в окрестностях которой для нее был приготовлен дворец Бориса Годунова.
Юрий Мнишек тотчас отправился в Москву на последние перед свадьбой переговоры.
Встретила его Москва 25 апреля колоколами, пушечной пальбой, игрою польской музыки.
Вид зятя ошеломил сандомирского воеводу. На блистающем троне, низвергая при каждом движении водопады алмазного огня, восседал тот, кто пришел к нему в дом с блудливыми глазами лжеца.
По правую руку самодержца патриарх, митрополиты, епископы, по левую бояре, цвет российской державности.
Мнишек, распираемый восторгом, воскликнул:
– Давно ли с участием искренним и нежным я жал руку изгнанника, гостя моего печального! Эту державную руку, к которой я допущен для благоговейного лобызания! О счастье! Как ты играешь смертными! Но что лепечет язык мой неверный и невежественный! Не слепому счастию, Провидению дивимся в судьбе твоей, великий государь великого государства! Провидение спасло тебя и возвысило, к утешению России и всего христианства! Ты делишь свое величие с моею дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека!
Дмитрий слушал его, сияя влажными глазами, но не промолвил ни единого слова. Его царскими устами был Афанасий Власьев.
И за трапезою в честь дорогих гостей сидел за отдельным столом. Юрия Мнишка и Адама Вишневецкого побаловал Дмитрий лишь тем, что подавали им яства на золотых тарелях.
Дело предстояло утомительнейшее. Чтобы лишить упрямцев самого воздуха державной Грановитой палаты, Дмитрий собрал совет церковных иерархов, ближних бояр, родственников своих и невестиных в новом деревянном дворце.
– Под шелковыми небесами, надеюсь, черные мои вороны тоже станут как шелковые, – подмигнул Дмитрий Басманову и приложился к потайному окошечку, чтобы по лицам советчиков угадать их настроение.
Адам Вишневецкий был мрачен, он уже успел объявить, что прибыл получить сполна сорок тысяч золотых, которые издержал, собирая людей для похода царя Дмитрия на Годунова. Вишневецкого слушал казначей Власьев и не сказал ему ни да ни нет, но так не сказал, что было ясно – это окончательное нет.
Юрий Мнишек прибавил в величавости. Он то и дело поправлял левою рукою левый ус, который у него лихо топорщился. Хотелось выглядеть орлом, но несерьезный ус придавал лицу что-то уж очень петушиное.
– Будет ли тесть за Адама просить? – подумал вслух Дмитрий. – Они как-никак родственники.
И улыбнулся, сообразив, что Адам скоро будет приходиться ему, царю русскому, свояком. Брат Адама женат на младшей сестрице Марины.
Думал о поляках, а глазами уперся в Гермогена, казанского митрополита. Красавец старик! Ему уж, говорят, семьдесят пять, но красавец! Глаза зеленющие, что тебе изумруды, огромные, брада шелковая, седина голубизною отливает… На лице – ни морщинки. Его преосвященство – из донских казаков. Донцов Дмитрий знал. Если у них дурак, так дурак, а уж коли умный, так умный. Впрочем, те и другие на правде спотыкаются, не умеют порожка сего невидимого переступить…
– А ведь что-нибудь ляпнет старик, – предположил Дмитрий и как в воду глядел.
Первый о свадебных делах сказал свое слово патриарх Игнатий. Говорил он ласково, обводя совет ласковыми глазами:
– Царица наша рождена в римской вере, в христианской вере. Посему будет ей добродетельно и негрешно посещать православные наши церкви. Я сам стану приобщать ее Святых Тайн. Но царице не возбраняется иметь свою латинскую церковь, блюсти уставы, коим она обучена с детства.
– Окрестить ее надо! – сказал с места коломенский епископ Иосиф.
– Государь пожелал, чтобы супруга его была венчана на царство. Обряд венчания предполагает возложение Животворящего Креста и миропомазание. Это явится приобщением государыни к святоносному Духу православия. Дважды крестить христианина нельзя. Это еретичество.
– Что есть еретичество, мы не хуже твоего знаем, святейший! – вспылил, вскакивая на ноги, митрополит Гермоген.
– О! Я не желаю ссоры между моими возлюбленными пастырями! – тотчас вступил в разговор Дмитрий. – Будет ли праздник праздником, если он поставлен на дрожжах розни? Дело надо кончить к общему согласию. Кстати, надо нам быстро решить одно небольшое и простое дело. Свадьба требует больших расходов, а впереди поход. Драгоценные мои, светоносные пчелы, собиратели нектара Божественной истины! Я прошу помочь казне. Мои запросы не так уж и велики. Пусть Иосифо-Волоколамский монастырь даст мне три тысячи, а Кирилло-Белозерский – пять тысяч рублей.
– Государь, но ты уже взял с Троице-Сергиева монастыря не три и не пять, а все тридцать тысяч! – воскликнул коломенский епископ Иосиф.
– Не мне нужны деньги, я ем и пью не больше вашего. Деньги нужны Отечеству. Я иду избавить Россию от вечного страха перед нашествием с юга… Мне бы хотелось, чтобы вы сами, подумав, дали бы часть церковных доходов на общее дело.
– На общее дело, ежели оно чистое и воистину общее, денег не жалко, – сказал Гермоген. – Но вот ежели царская невеста не будет крещена, то такая свадьба станет нам всем в великую стыдобу, ибо такая свадьба есть беззаконие перед Богом и перед всем русским православным народом!
– Без крещения нельзя! – согласились с Иосифом и Гермогеном архимандриты чудовский и новоспасский.
Им возразил со стороны поляков Андрей Левицкий:
– Нет закона ни у вашей церкви, ни у нашей, который бы воспрещал браки между христианами греческого и римского вероисповедания. Но нет и другого закона, который требовал бы жертвовать одному из супругов своею совестью. Предок царя Дмитрия Иоанновича, великий князь Московский Василий Третий, женившись на Елене Глинской, дал ей полную свободу в выборе веры. Есть и другие примеры.
– Верно ли в царских делах угождать бессмысленному народному суеверию? – выставился со своим умом Юрий Мнишек.
– В словесах – вы герои! – пристукнул митрополичьим посохом Гермоген. – Не перекрестите Марину – будет она народу русскому не матерью, но бесстыдной девкой!
– Что же это все так смелы у меня? – Дмитрий рассмеялся, да так весело, словно похвалить хотел упрямцев. Долгим взглядом поглядел на патриарха. – Святейший, есть у тебя крепкие монастыри для смирения несмирных?
– Есть, государь, – ответил Игнатий с поклоном.
– Вот и пошли в сии монастыри Гермогена и всех с тобою несогласных. Пусть Богу молятся, приготовляют нам Царство Божие. С земными же делами мы сами управимся.
Четверых иерархов тотчас вывели из палаты.
Но дело еще было не улажено, требовалось назначить день свадьбы.
– Я хочу венчаться как можно скорее, в воскресенье, – сказал Дмитрий.
– Четвертого мая никак нельзя, – смутясь, развел руками Игнатий. – Царевна должна хотя бы три дня попоститься, пожить в монастыре.
– Восьмое вас устраивает?! – сердито прикрикнул Дмитрий.
– Устраивает, государь! – пролепетал Игнатий, но остальные иерархи ахнули про себя. Восьмое – пятница, постный день, предпраздничный. Девятого – Никола вешний.
– Платье ведь надо успеть пошить! – засомневался князь Мстиславский, недавно испытавший на себе свадебные хлопоты.
– Успеют! – весело сказал Дмитрий. – Пока держава в моих руках, мы успеем столько, как никто до нас не успевал.
– Никола ему покажет! – погрозил посохом Гермоген, когда ему сказали о царевом выборе свадебного дня. – В мае женится, еретик! Помает его Никола! Еще как помает!
В бурю въезжала в Москву царская невеста.
Ветер раскачивал вершины деревьев, едва-едва зазеленевших, казалось, метлы метут небо.
Перед городской заставой панну Марину встречало дворянство, стрельцы и казаки. Все в красных кафтанах, с белой свадебной перевязью через плечо.
Дмитрий был в толпе встречающих, одетый простолюдином. Ему хотелось видеть ликование Марины и москвичей. И он видел это ликование.
С собой взял одного Василия Шуйского. Приблизил ближе некуда. Шуйскому невредно видеть всеобщую радость народа.
Лицо Марины светилось высшим небесным озарением.
– Краса неземная, – говорили женщины, не завидуя, но радуясь. – Солнышку нашему царю и царица – солнышко.
Над Москвой-рекой был поставлен великолепный шатровый чертог. В нем царскую невесту приветствовали князь Мстиславский и бояре. Из шатра Марину вывели под руки, усадили в позлащенную карету с серебряными орлами на дверцах и над крышею. Десять ногайских лошадей, белых как снег, с черными глянцевыми пятнами по крупу, по груди и бокам, понесли драгоценный свой груз, как перышко райской птицы. Перед каретой скакало три сотни гайдуков и все высшие чины государства, за каретой катило еще тринадцать карет с боярынями, с родней жениха и невесты. Бахали пушки, гремела музыка, колокола трезвонили, как на Пасху.
За свадебным поездом следовало войско, с ружьями, с пиками, с саблями.
Едва одно шествие миновало, пошло новое, разодетое в пух и прах, и опять же с целым войском. То был торжественный въезд послов польского короля Гонсевского и Олесницкого.
– Что-то больно их много… – засомневались москвичи, и тотчас люди Василия Шуйского принялись разносить слушок:
– Послы-то приехали не так себе! За Маринкиным приданым. Дмитрий отдает Литве русскую землю по самый Можайск.
Марину поместили в Вознесенский кремлевский монастырь под крыло матушки жениха, инокини Марфы.
Марина как вошла в отведенную для нее келию, так и села. И не подойди к ней, не заговори.
Оскорбленная убогостью комнаты, Марина воспылала местью к жениху, к инокине-свекрови, к русским, ко всему их непонятному, лживому существованию.
Коли тебя привезли в царицы, зачем же монастырь? К чему эти лавки, эти голые стены с черными страшными ликами икон? Почему не ей кланяются, а она должна выказывать смирение перед черными бабами?..
Понимала, идти к инокине Марфе хочешь не хочешь – придется: царская матерь. Матерь, только вот кого? Время шло, Марина упрямо сидела на голой лавке, чувствуя себя сиротой. В келию явилась ее гофмейстерина от гофмейстера Стадницкого, который просил передать их величеству, что благополучие поляков в стране русских зависит от ее императорской снисходительности.
Марина вспыхнула, но каприз прекратила.
– Такое великолепие! Столько лиц! Я до сих пор не пришла в себя! – сообщила она инокине Марфе, поклонясь ей с порога по-русски смиренно, до земли.
Инокиня Марфа смотрела на нее не мигая. Марина тоже попробовала не мигать, но в глазах началась резь, она прослезилась и не замедлила пустить эти свои слезы упрямства в дело:
– Я плачу от счастья видеть вас, мама!
Марина говорила на смеси русского и польского и скрашивала свои ошибки беспомощной улыбкой. Но она видела, вся ее ласковая неумелость, доверчивая покорность – все впустую. Инокиня Марфа смотрит на нее, будто кошка на мышь: «Играйся, играйся! Как наиграешься, я тебя съем!»
Марина поспешила вернуть лицу пристойный холод. Глаза ее заблистали стеклянно, еще более стеклянно, чем у инокини. Гордость стянула губы в полоски, в лезвия. Она вдруг сказала:
– Я понимаю, как трудно вам, живя в Кремле, быть молитвенницей. После нашей свадьбы переезжайте в Новодевичий монастырь. Вам ведь уже не надобно будет печься о сыне. Я сама позабочусь о его покое и счастье. С вашего благословения.
Инокиня Марфа не проронила ни слова в ответ. И, не зная, как поступить, чтобы достойно покинуть келию свекрови, Марина в панике опустилась на стул перед вышиванием. Это был почти законченный «воздух», запрестольная пелена с изображением евхаристии. Марфа, не отпуская невестку ни на мгновение своим остановившимся, жутким взором, молчала.
– Я привезла вам подарки! – встрепенулась Марина. – Чудесные вышивки. Я вам пришлю. – И совершенно расцвела: – Меня же портные ждут! Надо успеть пошить платье!
Вспорхнула, чтоб лететь и не возвращаться под эти взоры.
– Благодарю за прием! – Губы совершенно исчезли с лица, хоть как-то ответила на унижение.
– Он не мой сын, – сказала вдруг Марфа.
Марина кинулась к дверям, будто не слышала. Нога в ступне подвихнулась, больно сделалось очень, но не вскрикнула, не остановилась, не повернулась.
В келии служанка осмотрела ногу: не опухла, боли не было, следов вывиха тоже.
– Она колдунья, – сказала Марина. – Пошли за обедом. Я не желаю умереть с голоду.
Оказалось, обед давно кончился. Надо было ждать ужина.
А на ужин принесли пироги с капустой и с репой. Марина взяла капустный и замерла от омерзения.
– Я не могу есть такую пищу! – прошептала она и залилась горючими слезами.
О бедственном положении несчастной невесты было доложено гофмейстеру Стадницкому. Стадницкий явился к царю, царь послал за поварами к тестю. Повара явились, для них открыли царские кладовые, и пошла стряпня!
Пока монашенки отстаивали вечерню, в монастырь чередой в черных монашеских рясах вошли многие люди.
Марина со служанкою сидели за занавескою на кровати. А в келии меж тем творилась безмолвная и почти беззвучная сказка. Люди в черном устилали пол коврами, лавки сукнами, на столе явилась белая скатерть, на скатерти напитки и яства, источающие запахи королевской кухни Вавеля. Наконец были внесены великолепные серебряные канделябры, комната наполнилась сиянием, и в этом сиянии, как пламенный ангел, возник император Дмитрий.
Он стал на колено перед богинею своею, вознесшей его столь невероятно высоко, и целовал ее руки так бережно, так нежно, как прикасаются губами к лепесткам цветов. Грудь Марины волновалась, она шептала что-то бессвязное, ласковое.
Не отпуская ее рук из своих, он сказал:
– Это первый миг за многие годы, когда я живу искренне. Вся остальная моя жизнь – скоморошье бесовство.
Он повел ее за стол. И она, наголодавшись, ела так вкусно, что и он, знавший меру в еде и питье, пил и ел и не мог ни насытиться, ни наглядеться на любимую.
– Ты есть моя судьба! – воскликнул он в порыве откровения. – Клянусь, каждый твой день, прожитый на этой земле, на моей земле, которая уже через несколько дней станет нашей землей, землей детей наших, потомков наших, – будет для тебя прекраснее самых счастливых твоих сновидений.
Он ударил в ладоши, и в келию вошли музыканты. Под музыку, сколь тихую, столь и волнующую, начались танцы дев. Они являлись с каждой новой мелодией в одеждах более смелых и вдруг вышли в кисее с подсвечниками в руках. Танец был мучительно сладострастен.
– Как это грешно! – прошептала Марина, бледнея и обмирая.
– Моих танцовщиц этому танцу обучил иезуит Левицкий. Так развлекали папу римского Александра, кажется…
Девы поставили светильники на пол и, обратясь к пирующим спиною, склонялись над свечами и гасили по одной свече. Снова круг, наклон, и еще одна свеча меркнет.
– Остаток ночи я проведу у тебя, – прошептал Дмитрий Марине.
– Но это невозможно!
– Отчего же невозможно?
– Это монастырь. – И засмеялась, утопая в глазах соблазнителя, и чуть не застонала. – Но ведь надо будет показывать боярыням мою рубашку!
– Экая печаль. Курицу зарежем.
И смеялись, заражая друг друга, смеялись, пока не опустела келия. Тогда снова стали они тихи и серьезны и посмотрели глаза в глаза, и было то мгновение в их жизни мгновением доверчивости и одного счастья на двоих.
Люди Шуйского разносили слухи о поругании Маринкой и расстригой святого места. Рассказывающий крестился, слушающий плевался.
А слухов все прибывало, один пуще другого.
– Сретенский потешный городок думаешь для чего? – шептали шептуны. – Для чего пушки туда свезли? Соберут народ на потеху да и перестреляют всех! Вот для чего! Все боярские дома – полякам, все монастыри – полякам. Монахинь замуж будут выдавать. Вот как у расстриги с Маринкою задумано!
Хоть верь, хоть не верь, но Мнишку уже отдали дом Бориса Годунова. Все пригожие дворы в Китай-городе да в Белом городе отведены под постой полякам. Даже Нагих из домов повыгоняли. Дескать, на дни свадьбы. А коли дома понравятся? Москва понравится? Житье на русском горбу понравится? Ведь не уйдут!
Третьего мая в Золотой палате государь всея Руси принимал Юрия Мнишка, его родственников и великих послов короля Сигизмунда, которые должны были представлять его величество на свадебных торжествах.
Самую замечательную речь на этом приеме произнес гофмейстер Марины пан Станислав Стадницкий.
– Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, – сказал он, упирая глаза в бояр, – двумя могучими, гордыми народами, которые сходствуют в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но доныне не знали искреннего мира и своею закоснелою враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть луну ненавистную…
То было прямое указание на Турцию, против которой у Дмитрия собраны полки и против которой готовы выступить вольные шляхтичи, хотя у короля в намерениях были иные цели.






