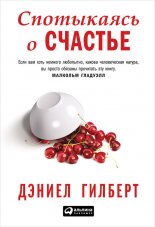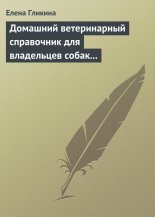Совок и веник (сборник) Кантор Максим

Постепенно диссидентство стало привилегией, не всякому по карману. Как однажды высказался Кормер: «Бороться с Советской властью, это тебе не на фрезеровочном станке работать – заходишь к диссидентам, а там, на столе, чего только нет: три пирога, виски, шампанское!». Когда главным диссидентом провозгласил себя генсек компартии, никто не удивился. Казалось бы – странно, ан нет, уже привыкли к тому, что лучшее всегда достается начальству. Он не только генсек партии, он еще и главный диссидент – это нормально, ему положено. Прогноз великого Честертона, высказанный в «Человеке, который был четвергом», подтвердился вполне: только начальник полиции может стать вождем восстания. Никого не поразило, что борец с привилегиями Ельцин в качестве итога правления затребовал себе и своей семье небывалые прежде привилегии – неприкосновенность. Нас уже нисколько не удивляет, что лидером несогласных является бывший премьер-министр, неоднократно уличенный в коррупции. Нас не смущает, что политологи, близкие к Кремлю, олицетворяют демократию, а благополучные домохозяйки с Брайтон-бич исполняют обязанности «Совести России». Помилуйте, ведь это же бред, идиотизм! Диссиденты – это чистые, непродажные герои, как сумели подменить их этими куклами? Но так повернулась история, номенклатурные права это и есть те самые права, за которые сегодня предлагают бороться, просто называют эту борьбу – «борьбой за гражданские права». В семидесятые годы ленинградский диссидент Виктор Кривулин написал печальные строчки:
- Дух подпольной культуры, как раннеапостольский свет
- Брезжит в окнах, клубится у серых подвалов.
- …Но еще впереди, я надеюсь… я верую… нет…
- Я хотел бы уверовать в пепел хотя бы, в провалы,
- Что останутся после. В единственный след
- От погасшего слова, какое во мне полыхало.
Дух культуры неистребим, он возродился из пепла, точно Феникс, – но возродился он сегодня в генеральских погонах.
То время, время Советской власти, холодной войны, высоких слов и кодекса чести – ушло и уже не вернется. Свергать диктаторов хорошо, используя слова «честь» и «правда», но практическое использование чести и правды в экономике не налажено, это вам не газ с нефтью. Былых диссидентов, бородатых прокуренных дядек, согнали со сцены деловые люди, которые тоже называли себя оппозиционерами бывшему режиму. И они впрямь были оппозиционерами: противопоставляли финансовый капитализм – промышленному развитию, рыночную экономику – плановой, индивидуализм – коллективизму. В какой мере эта оппозиция родственна той, которую представляла интеллигенция, вооруженная свободолюбивой риторикой, непонятно. Диссиденты утешали себя: в сущности, так и должно быть – мы завоевали свободу, а свобода, она для всех, и для этих людей тоже.
Прошло еще совсем немного времени, и страной стали править офицеры госбезопасности, получившие мандат на власть от тех богачей, которых привела интеллектуальная оппозиция. А интеллигенция? Ну, интеллигенция подалась в обслугу к былым соратникам по борьбе.
Тот самый диссидент, которого лейтенант милиции спас от ареста 10 декабря, как выяснилось, был стукачом. Он сам – мужественный человек! – рассказал это своим удивленным соратникам. И – поразительно – стукача никто не осудил. Поняли и простили. Он и правда очень милый, хороший человек.
А что делать? Есть реальность мира, объективные процессы. Вы же за прогресс – ну так и смотрите, куда ведет прогресс. А на чести и совести далеко не ускачешь.
Холодная война пригодилась для ценностей западного мира так, как морозильная камера для хранения сырых продуктов. Замороженное общество сохранилось в романтическом виде вплоть до 90-х годов, не растратив энтузиазма военных лет. То, к чему призывали совестливые авторы (Хемингуэй, Пикассо, Брехт, Белль, Манн, Солженицын, Сахаров) – все это, казалось, сохранит свое значение и в мире постмодерна. То был особый трюк – сохранить призывы, бывшие в ходу полвека назад, – актуальными. Время ушло вперед, технологический прогресс сделал многие понятия нелепыми – но в морозильной камере этого не знали! Когда на московской сцене появились шестидесятники (люди, которым в шестидесятые годы было по сорок лет), они не производили впечатления стариков. Их просто разморозили – как иногда замораживают, а потом размораживают героя кинокомедии, чтобы спустя века явить миру неадекватное существо. Герои кинокомедий пугливо шарахаются от трамваев, не знают, как пользоваться мобильным телефоном – и все над ними смеются. Так и диссиденты отчего-то вообразили, что общество собирается бороться за права человека – это просто в их «морозильной камере» была такая установка. Так происходило везде – в просвещенных странах философы боролись за права человека с энтузиазмом героев Сопротивления. Слова «совесть», демократия», право», «либерализм» успешно выдержали заморозку и были предъявлены обывателю свеженькими.
Удивительно то, что этот оттаявший продукт никому не понадобился. Бери, пользуйся, верь! Однако не берут. Посмотрели, понюхали, отложили в сторону. Поглядывают на соседний прилавок: портфельные инвестиции, перфомансы, нефтедоллары.
Эффект заморозки оценил в свое время философ Леонтьев, рекомендовавший Россию «подморозить», но вот эффект разморозки (то есть оттепели) описан Эренбургом неточно. Эренбург просто не успел увидеть все последствия оттепели, поскольку страну сразу же снова заморозили.
Штука в том, что размороженный мир немедленно портится.
То, что в холодильнике пролежало без употребления, но в сохранности, на открытом воздухе истории испортилось в два счета.
Мир оттаял – и протух.
Рассказ мой относится к тому времени, когда продукт уже потерял свежесть, но запах чувствовали еще немногие.
Она была женой диссидента, из тех, что выходили в декабре на площадь Пушкина. Он – сын главного редактора правительственной газеты, номенклатурный сынок. Их связь была внезапной, нелепой и романтической. Познакомились у общих приятелей, ругали советскую власть, обсуждали книги Солженицына, на пыльной улице поцеловались. Встречались в чужой квартире, спали на чужих простынях.
Она приходила за полночь, когда муж засыпал; считалось, что ночами она перепечатывает «Хронику текущих событий». Он мучился раскаяньем: обманывал товарища по борьбе – страсть толкнула на предательство. Впрочем, подруга уверяла, что особой вины здесь нет.
– Такого человека обманываю! – Он хватался за голову.
Однажды, чтобы утешить любовника, она сказала, что ее муж – стукач. Странно, но он испытал отвращение именно к подруге, куда большее, нежели к ее мужу. Страсть прошла сразу.
– Стукач? Как это – стукач?
– Муж встречается с одним человеком, рассказывает о друзьях.
– О каких друзьях?
– О тебе, например.
– Где встречается? – ничего умнее не придумал спросить.
– Ну, этот человек приходит к нам домой.
– Какой человек? Сотрудник ГБ? Где этот человек работает?
– Откуда я знаю. Кажется, в посольстве.
– Как ты могла жить со стукачом? – Он ходил по чужой комнате, толкал стулья, курил. Он не спросил, любит ли она мужа. Ему в голову не могло прийти, что людей любят не за то, что они диссиденты или стукачи. Часто людей любят просто так.
Он стал искать предлог, чтобы расстаться с любовницей. Говорил, что болен, пропускал свидания.
– Ты хочешь, чтобы мы расстались? – при встрече она посмотрела на него с усмешкой. – Ты меня никогда не любил.
Сразу же после того как отношения закончились, его любовница вышла замуж за молодого наглого дипломата; оказалось, она встречалась и с дипломатом, тем самым, что навещал ее мужа. Она проводила долгие вечера в его холостяцкой квартире на Кутузовском проспекте. Пили хорошее вино, дипломат, отдыхая от занятий любовью, рассказывал о Европе. Мужу, как всегда, говорила, что печатает «Хронику текущих событий», любовнику – что не может уйти из дома: муж в истерике, боится обыска. Так прошло несколько лет, наконец двусмысленная ситуация разрешилась.
Бывший муж пошел работать в банк, где стал заниматься связями с общественностью. Бывший любовник некоторое время не мог утешиться, везде мерещилось предательство. Он не доверял женщинам, избегал долгих связей. Однажды обнаружил, что болен, – но не смог понять, у кого подхватил болезнь: то ли у бывшей подруги, изменявшей ему с дипломатом, то ли у новых дам, то ли у той продавщицы, с которой встречался, пока длился его роман с женой диссидента.
Поле боя
Когда болел, всегда читал «Похождения бравого солдата Швейка». Со Швейком болеть веселее, он умеет насмешить, даже когда очень плохо. Правда, с каждым годом у него это получается все хуже, лечебная книга становится грустнее. И не только потому, что с годами выздоравливать более бесперспективно. Просто однажды я понял, про что книга написана.
Мы привыкли думать, что книга смешная, а герой – дезертир. Солдат Австро-венгерской империи убегает от службы в армии, он петляет и показывает армии язык, и подпоручик Дуб не может его догнать – меня эта погоня веселила во времена настырной Советской власти. Однако книга совсем не об этом, и смеялся я зря. Сейчас расскажу, как все обстоит на самом деле.
Гашек задумал огромный роман, успел написать треть. Существует несколько великих незаконченных книг, анализируя их, стоит исходить из допущения, что автор не глупее нас с вами, и замысел у него имелся.
Так бывает с великими книгами: «Записки Пиквикского клуба» начинались как комикс, а получились эпосом, роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» начинался как сказка, а состоялся как манифест Ренессанса, «Дон Кихот» собирался быть комедией, а вышел трагедией. Для грандиозного произведения естественно перерасти первоначальный замысел; однако у Гашека был великий замысел с самого начала: он хотел рассказать, как чужая война делается твоей войной.
В тот раз я читал про Швейка, лежа в больнице. Районная московская больница описана слишком много раз, чтобы повторять неприятные подробности. Кафель на полу расколот, в палате пахнет мочой, белье несвежее. Нас было трое в палате: у окна лежал толстый плотный юноша моих лет, а ближе к двери – парень, которого в больницу привезли солдаты. Он служил в стройбате, эта служба считается безопасной – все-таки не на китайской границе и не в Афганистане. Однако не уберегся: его защемило между грузовиком и стеной, у него были раздроблены кости таза. Он был очень бледен и молчалив, это почти все, что я помню об этом человеке. Еще он попросил у меня почитать Гашека – и я отдал ему первый том, а себе оставил второй. Мой Гашек в двух томах, в линялом лиловом переплете, с иллюстрациями Йозефа Лады. И он читал первый том, про то, как Швейк симулирует разные болезни, уклоняясь от призыва, а я читал второй том, тот, в котором герои уже на русском фронте.
Помню, меня поразило, что калека, читая про похождения Швейка, смеялся. Он смеялся тихо, растягивал бескровные губы в улыбке, и смотреть на него было неприятно.
Повествование о Швейке разворачивается, война нарастает, как волна, и сдвигает границы не только Австро-Венгрии – но и границы сознания. Теперь, спустя тридцать лет, я бы сказал, что этот роман похож на Кафку: по всей видимости, это было общим чувством у пражан в ту эпоху – покой пивных вдруг оказался внутри водоворота. Просто Кафка не принял абсурда вовсе, а Гашек – принял. Этот абсурд высмеивается, но постепенно прирастает к судьбе – потому что можно смеяться над дурью другого, но нельзя смеяться над болью другого. И когда понимаешь это, война перестает быть чужой дурью и делается твоей бедой.
Постепенно количество смешных страниц уравновешивается страницами совсем не потешными. Откуда эти страшные строчки про черепа и выклеванные воронами глаза: из Олдингтона? Ремарка? Барбюса? Нет, так стал писать Гашек, когда действие переместилось из сортира полицейского отделения в Путивле на поля Галиции. Книга постепенно делается трагической – вы что же, не слышите, как нарастает «Болеро»? И когда рассказ уже идет не о проделках в сумасшедшем доме, а о газовой атаке – Швейк не улыбается.
Помните, как вольноопределяющийся Марек начал писать историю маршевого батальона – и от смешных эпизодов дописался до всеобщей гибели? Он писал шутя, издевался над стилем казенных сводок, а слушателям его вдруг сделалось страшно. Так, бывает, накличешь себе судьбу, выдумывая судьбу героя. Так бывает, когда маленький мальчик слушает сказку, а потом вдруг начинает горько плакать: он увидел, что сказка правдива. Марек описал грядущую трагическую смерть телеграфиста Ходоунского в то время, пока тот сидел живехонький напротив; Марек сочинял ему судьбу и хохотал до упада. Но вряд ли бы стал он смеяться, глядя, как Ходоунского разрывает взрывом пополам, и как внутренности телеграфиста волочатся по земле. А ведь с телеграфистом наверняка именно это и произошло.
Вот так и Гашек: начал писать смеясь, а взглянул окрест – и ужаснулся. Вольноопределяющийся Марек – это ведь автопортрет, Гашек поделился с героями биографией: Мареку отдал свои черты, Швейку – свою судьбу.
Но помимо биографии самого Гашека (автор попал в Россию в составе армии, сдался в плен, стал красным комиссаром, был в Сибири в качестве агитатора, чудом избежал ареста, оказавшись на территории белых, болел тифом, сумел вернуться в Прагу), бравый солдат Швейк воплощает еще одну биографию, куда более известную.
Греческий историк Ксенофонт написал книгу «Анабасис» – это рассказ о пути небольшой армии, которую Ксенофонт возглавляет, через Месопотамию. Дело было в 401 г. до н. э. Десять тысяч греческих воиновгоплитов пришли поддержать Кира Младшего и остались после смерти Кира в чужой стране, окруженные врагами. Это – не их война, они хотят домой. Они уходят на Армянское нагорье, в сторону, противоположную родине, скитаются кружным путем и только больше, чем через год, выходят к морю, Понту Эвксинскому.
Спустя две тысячи лет у этой невероятной истории появился близнец. Чешским «анабасисом» иногда называют эвакуацию чешского корпуса из России в 1918 году. Корпус этот был сформирован в русской армии осенью 1917 года из военнопленных чешской национальности. То есть забрили ребят в солдаты в Австро-венгерской империи, а потом они вдруг стали служить России. После образования Национального комитета Праги, который был принят за основу будущей независимой республики, чешские формирования в русской армии теряют прежний статус. Чехи получили право быть просто чехами, они хотят домой. И тут выясняется, что отпускать домой их никто не собирается. Надобно отметить, что Антанта чехословацкий корпус сдала – согласилась с предложением советского командования на то, чтобы корпус разоружился.
Мятеж чехов выразился в том, что чешские легионеры отказались сложить оружие и встать под пулеметы (ср. расстрел польских офицеров в Катыне 23 года спустя). Они представляли собой сплоченный отряд, и вот, вопреки логике событий – впрочем, какая тут логика? – решили пробиться домой, и пробились. Как и греки, чехи двигались в противоположную от дома сторону. Чешский корпус отступал через Сибирь, захватывал на пути города Пензу, Сызрань, Омск, Томск, Красноярск, Екатеринбург (царскую семью большевики успели расстрелять), Симбирск, Казань (где взяли золотой запас РСФСР, передали Колчаку). Можно сказать, что анабасис чешского корпуса был самым удачным рейдом против Красной армии, куда там Колчаку с Врангелем! Чешский корпус ушел из России непобежденным (как отряд Ксенофонта, который непобежденным прошел Месопотамию и отплыл в Грецию) – и чешские легионеры вышли к океану во Владивостоке, откуда и отплыли домой.
У меня нет ни малейших сомнений, что бравый солдат Швейк должен был проделать этот головокружительный путь вместе с чешским корпусом – и вернуться в Прагу через Владивосток. Если кто помнит главу «Будейовицкий анабасис Швейка» (это когда солдат кружил в поисках своего полка) – ему сразу станет ясно, что малый анабасис должен был предварять анабасис большой. Не будь столь ясного замысла, Гашек не стал бы использовать для обозначения запутанного маршрута дезертира слово «анабасис».
В том-то и штука, что Швейк отнюдь не дезертир. И – не уклонист. Он, если так можно выразиться, антидезертир. Попробовал дезертировать – и не получилось, потому что от себя и своего народа не убежишь. Он высмеивает национал-патриотический, имперский дух, но дух товарищества не высмеивает никогда. Он издевается над начальством, но не издевается над Родиной. Он не принимает муштры, но не принять историю своего народа не может. Он, разумеется, против войны, но идет воевать. И если бы его спросили, за что он воюет, он бы ответил: за друзей, за трактир «У чаши», за человеческое достоинство, за Родину.
Потому что Родина есть. Ее могут отменить фашисты и либералы, коммунисты и геополитики, можно счесть, что твоя родина – весь мир, а скучная семья не имеет к тебе отношения, это обуза. Но Родина тем не менее существует, и за нее отдают жизнь.
История чешского корпуса, описанная Гашеком, есть в сжатом виде вся история мировой войны ХХ века. Представьте, как было дело. Чешский легион идет в составе Австро-венгерских войск воевать с Россией, сдается русским в плен и начинает воевать на стороне России (и Антанты) с Германией и Австро-Венгрией за независимость Чехии. Едва Чехия обретает тень независимости, как чешских легионеров предает уже Антанта, а революционная Россия объявляет их контрреволюционерами. У чехов нет никаких общих с советским правительством целей (как не было общих целей с правительством Австро-Венгрии, России, Германии, Франции и Англии) – за что им драться? Но драться надо – чтобы выжить. Так бывает, когда бросаешься бежать, но вдруг оказывается, что ты бежишь в атаку. Они хотели просто спастись, понятное желание, но просто спастись не сумеет никто и никогда – поскольку не бывает судьбы отдельной от судьбы мира.
Пройдет всего лишь двадцать лет, и Чехию предадут снова – те же самые страны. Чемберлен подпишет Мюнхенское соглашение 1938 года, и Англия и Франция, демократические страны, будут хладнокровно смотреть, как разоружают чешских легионеров – на этот раз германские солдаты. Потом пройдет еще тридцать лет, и Чехословакию опять предадут – и в 1968-ом в нее снова войдут немецкие войска, на этот раз посланные странами Варшавского блока. В основном оккупационные части были из ГДР, и чехи реагировали на немцев соответственно.
Писатель описал историю одного полка, посланного на русский фронт, но можно сделать вывод общего порядка; так Ньютон по упавшему яблоку открыл мировой закон тяготения. То была война монархий и режимов, перешедшая в народную войну, и спустя двадцать лет на поле боя выходили все те же солдаты и унтер-офицеры, а нередко и в тех же самых сапогах. Как некогда заметил маршал фон Бюлов: «Остановить войну не представляется возможным, поскольку уже не страны воюют, а народы». Тот, кто мог смеяться над войной монархов, над интригами президентов, не сумел смеяться над судьбой своего народа. Потому что судьбу народа полагается разделить.
Убивать людей в демократической бойне стало тем проще, что отныне всякий считался хозяином собственной судьбы, сделавшим свой выбор. И неважно, что выбирать не пришлось. Важно то, что бежать стало некуда. Убежать от подпоручика Дуба легко, а как убежать от своей судьбы?
Швейк мог уклониться от войны за Австро-Венгерскую империю, однако от защиты собственного народа уклониться не вправе никто. Даже если Родиной правит тиран, она не перестает быть Родиной. Александр Исаевич Солженицын истратил много бумаги, тщась показать резоны генерала Власова примкнуть к Гитлеру, но убедительно показать не получилось. Власова повесили совершенно заслужено.
Я лежал в районной больнице, симулируя заболевание почек, уклоняясь от армии. Мой сосед справа в армию уже сходил – и по всему было видно, что сходил неудачно. Военные, которые сдали его в больницу, не спасли его от увечья, и вообще жизнь этого парня совсем никого не интересовала. И глядя на него, я думал, что в Советскую армию не пойду ни за что. Я буду притворяться больным, прикинусь сумасшедшим, но в армию не пойду.
Моим соседом слева был такой же, как я, симулянт, интеллигентный толстый юноша либеральной ориентации. Чем-то он напоминал мне вольноопределяющегося Марека из книжки Гашека – возможно, полными щеками, а может быть, чувством юмора. Мы с толстым юношей подружились, у нас было много общего. Мы оба не хотели служить в Афганистане и притворялись больными. Я зачитывал ему вслух смешные эпизоды из книжки – как Швейк притворялся сумасшедшим, как он перехитрил армию. Толстый юноша хохотал, его щеки тряслись. Помню, он поделился со мной посылкой из дома – нам давали пресную больничную еду, а у него была венгерская копченая колбаса, редкость по тем временам. Есть колбасу надо было тайком, чтобы не заметили, что мы нарушаем диету. И это тоже напоминало эпизод из приключений Швейка. Я читал вслух Гашека, а юноша пересказывал мне смешные страницы из книги, которую он сам недавно прочел. То было сочинение про солдата Чонкина – про то, как этот новобранец перехитрил офицеров ГБ и армейских командиров и попал на сеновал к деревенской девушке, где и провел войну. Как и мы, солдат Чонкин уклонялся от войны – он не хотел служить. Тогда эту книгу еще не издали, это была запретная, вольная книжка, высмеивающая госбезопасность и власть коммунистов. Сосед, смеясь, пересказывал мне, как гэбэшники искали дезертира повсюду, а он в это время на печи лежал со сдобной бабой – недурно, а?
И вдруг я стал спорить со своим соседом. Так бывает – вдруг начинаешь спорить с человеком, тебе симпатичным. Помню, я сказал толстому соседу, что это нехорошо – прятаться. Надо было, мол, сражаться с фашизмом. Сосед поразился моему ханжеству.
– А что же ты сам прячешься?
– Я прячусь?
– А что ты делаешь? Прячешься в больнице. Не хочешь в армии служить!
– Не хочу.
– А ты послужи, послужи!
– Так ведь нет сейчас войны с фашизмом.
– А вдруг есть? – Он был горазд спорить.
– Нет сейчас фашистов, – сказал я опрометчиво, – просто Советскому Союзу нужна чужая территория.
– А тогда, что, территория не нужна была? Прибалтику разве не оккупировали? А Финляндию?
– Все равно, надо было с Гитлером сражаться.
– За Сталина? – оживился сосед.
– Против фашистов.
– Но за Сталина? Да? За большевиков?
– Какая разница! – сказал я.
– Есть разница! Сталин, если хочешь знать, хуже Гитлера! Он свой народ убивал, нельзя за людоеда сражаться!
– А что же делать? Сдаться немцам?
– Надо сначала свергнуть собственного диктатора, вот что!
Не получалось у меня ему возразить. Толстый юноша рассказал мне про Голодомор, про Магадан, про Катынь, про насильственное переселение народов. Почему-то у него убедительно получалось говорить про Голодомор, хотя сам он был весьма откормленный юноша. Ему приносили такие посылки, на троих бы хватило. Особенно он любил мясо, колбаски копченые и разные сардельки. Правды ради, он охотно делился сардельками, был очень добрый.
Так вот, он мне рассказал о преступлениях сталинизма. Да я и сам все это знал. Но солдату Чонкину сочувствовать не мог все равно. Чонкин как будто всем похож на Швейка: тоже солдат, тоже не хотел на войну, но Швейк мне нравился, а думать про Чонкина было противно, что тут поделаешь? – противно, и все.
– Сочувствовать дезертиру невозможно, – так я сказал тогда толстому юноше.
– А сам ты разве не дезертир?
И что на это ответишь? Что спрятаться от Афганской войны – можно, а от Второй мировой – нельзя? Но ведь для кого-то и эта Афганская война – Отечественная. Что убежать от участия в Австро-венгерской военной кампании – оно, пожалуй, смешно и мило, а вот спрятаться на сеновале у Нюрки от войны с фашизмом – подло и погано?
Но когда я говорил это толстому соседу, он вскипал, кривил полные губы и начинал говорить резким голосом.
Рассказал мне про ГУЛАГ, да я и сам знал про ГУЛАГ. Но он сказал, что там людей погибло больше, чем в фашистских лагерях, – а этого мне прежде никто не говорил.
– Если уж на то пошло, – толстый юноша сел на постели, стал загибать пальцы, – все это устроили Маркс с Лениным. Интеллигенцию они расстреляли. И войну они готовили мировую. И Гитлера они в войну втянули.
– Никого Маркс не расстреливал!
– Просто не успел! Это он всю кашу заварил! А войну мировую Ленин со Сталиным подготовили!
Тогда еще этих теорий не было, в ту пору беглый лейтенант ГРУ, самодеятельный историк Суворов, не рассказал еще, что инициатором мировой войны был Сталин, а Гитлера просто втянули. Теперь это распространенная теория, многие так считают, но в те годы все думали, что фашисты напали без объявления войны, внезапно. Так что толстый юноша в урологическом отделении 57-й районной больницы был первым, кто мне эту версию истории рассказал.
Ненависть к сталинскому режиму пересиливала здравый смысл, и я на короткое время я даже поверил, что Гитлер войны не хотел. Потом-то я вспомнил про газовые камеры, про расовую политику, но тогда не нашелся, что сказать. И все-таки упорно спорил, что надо было с фашистами сражаться.
– За Сталина, да? За Сталина?
Ну что было ему ответить?
Когда гибнут твои братья и сестры – а ты в стороне, что может быть позорнее? А он отвечал: а что же, когда братья и сестры гибли в лагерях – терпеть было можно, да?
– Нет, я уж лучше как Чонкин, на сеновале отсижусь, – говорил он. – Я – диссидент.
Тогда это слово было очень распространенным, примерно как сейчас «таможенный брокер». Далеко не все были диссидентами, но многие стремились ими стать. Советская власть была при последнем издыхании, а диссиденты видели некие перспективы, и указывали на них остальным. Но то, что советские диссиденты должны были отождествить себя с дезертиром Чонкиным, – мне не понравилось. Я и сейчас считаю, что это оказало советскому диссидентскому движению сомнительную услугу. Швейк бы так ни в коем случае не поступил – он бы от Афганской войны в больнице спрятался, а от Отечественной прятаться бы не стал.
Я так и сказал.
– Швейк на афганскую войну бы не пошел! А на Отечественную войну пошел бы, понимаешь?
Это звучало не очень-то логично, не мог я переспорить соседа.
Я ему что-то такое патетическое говорил. Дескать, Швейк прошел вместе со своим народом все этапы его абсурдной судьбы – и пивную, и тюремный барак, и сумасшедший дом, и эшелон, идущий на фронт, и окопы. Это долгий путь – и бравый солдат не уклонился. Хемингуэй написал, что нет чужой беды: колокол звонит по каждому, и по тебе тоже, даже если ты далеко. Именно поэтому, говорил я, ехали благородные люди любой национальности в Испанию, сражаться в интербригадах с фашизмом – ехал сражаться и Джордж Оруэлл (автор «1984»), и Артур Кестлер (автор «Слепящей тьмы»), и Илья Эренбург (автор «Необычайных похождений Хулио Хуренито»), и Мате Залка, и Андре Марти, и Хемингуэй. Я был начитанный молодой человек, все эти имена знал назубок. И говорил я складно – только меня мучило то, что мы сидим с моим собеседником в больничной палате, прячемся от армии.
– В Испанию, – говорил я, – ехали люди разных взглядов, объединенные одним: они ехали сражаться с фашизмом. И не поехать было нельзя, потому что фашизм – это самое большое зло. Вся моя семья была тогда в Испании, так же точно, как потом – на Второй мировой. А твои родные разве не воевали?
Толстый юноша поморщился. Он сказал мне, что его отец был анти-сталинистом еще в те, темные времена. Многое он понял прежде своих сверстников. И он отказался идти на фронт. Отказался воевать за большевиков.
– А разве можно было не пойти?
– Он выбрал иной путь, – сказал сосед.
– Какой же, какой?
Оказалось, что отец толстого юноши прятался в некоей квартире, и так прожил, питаясь чем придется, целых четыре года. Колонну новобранцев везли на вокзал, а папа толстого юноши улучил момент, соскочил с грузовика и побежал прочь, петляя дворами, отсиживаясь в подъездах. Потом он нашел брошенный дом, заколоченную квартиру.
– Знаешь, – сказал толстый юноша, – в те годы много квартир опечатали. Это были квартиры репрессированных. Людей уводили, арестовывали. А их квартиры стояли по многу лет пустыми, с сургучной печатью на замке.
– И твой папа забрался в такую вот квартиру?
– Иногда я думаю о том, что ему пришлось пережить. Один, совершенно один. В пустой квартире. Много лет. Один против всех.
И толстый юноша рассказал мне об этом так, что я почувствовал в его словах гордость за отца. А я-то, помню, переживал, что мой отец не дошел до Берлина. Вот так по-разному мы чувствовали.
Сегодня я бы сказал ему так. Есть необходимый урок, который дает война. Собственно, этот урок дает всякая смерть, которую мы наблюдаем, но когда смертей много, урок усваивается быстрее. Урок состоит в том, что участь смертного – общая. Жизнь не тебе одному дана, но тебе – как представителю рода, именно в качестве человека ты можешь состояться как личность и как пацифист. Следовательно, принимая дар жизни, ты принимаешь ответственность за себе подобных, давших тебе эту жизнь. И значит, ты должен однажды эту жизнь отдать.
Это несложный силлогизм. Родина есть собрание тебе подобных, с ними ты делишь жизнь, за них умираешь. Есть также большая семья – человечество, и если твоя Родина сходит с ума, надобно примкнуть к человечеству – но только для спасения своей Родины, а не против нее! Даже тиран не в силах отменить закон семьи и солидарности слабых. Сегодня, когда мы узнаем о том, что война была между коммунистами и фашистами, а добрые люди попали в мясорубку поневоле, их плохие мальчишки втянули – мне странно это слышать. И когда говорят: мы не за Родину воевали, не за Сталина, не за Россию, а просто так получилось, – слышать это еще страннее. А за что же, простите, воевали, как не за Родину? И кто это – мы? Дело в том, что на войне нет интеллигентов и начальства, нет простого народа и народа высокоразвитого. На войне есть живые люди, и есть люди мертвые – и перед этой дихотомией прочие различия меркнут. Даже если вам не нравится писатель Симонов, который написал роман «Живые и мертвые», лучше все равно не скажешь. Есть рядовые солдаты и офицеры, есть фронт и есть тыл – вот и все. И больше ничего нет, никаких интеллигентов, никаких инакомыслящих, и быть иначе не может – потому что война.
Что вообще есть историческое исследование? Как ухитриться – спустя полвека – узнать правду, если частные показания уводят от общей картины? А общая картина обязана быть, коль скоро существует человеческий род и общество.
Вот простой пример: сегодня прогрессивная публика склонна не доверять тому факту, что солдаты на передовой кричали «За Родину! За Сталина!». Двадцать лет назад это считалось достоверным фактом – а сегодня над этим смеются: мол, пропаганда коммунистической эпохи. Проводится опрос ветеранов, процент тех, кто вспоминает о таком крике, – ничтожен. Вывод: кричали единицы (коммунисты, оболваненные пропагандой), а большинство не кричало.
Правилен ли этот вывод?
Проделайте нехитрое усилие: подумайте, кто вообще на войне кричит? В частности – кто может кричать: «За Родину!». Шофер генеральской машины? Нет. Повар в обозе? Вряд ли. Танкист в танке? Оглушит криком водителя. Штурман в самолете? Это безумие. Штабист? Ординарец? Денщик? Врач в лазарете? Матрос на подлодке? Да нет, конечно. Зачем им кричать?
Кричать может только солдат-пехотинец, идущий в штыковую атаку. Когда поднимаешься из окопа и бежишь на верную смерть, надо что-то кричать, чтобы перекричать страх, подстегнуть отвагу, чтобы орать в лицо врагу, который тоже орет.
Они кричали: «За Германию! За фюрера!» А наши кричали, идя в штыковую: «За родину! За Сталина!» А что еще могли кричать? За папу с мамой? За интеллигенцию? За свободу печати?
Разумеется, те, кто шел в штыковую атаку, не могут участвовать в опросах и рейтингах. Они погибли первыми, пехота на передовой – смертники. Те, что уцелели, вскоре умерли от ран. Отец моего друга, Андрея Добрынина, полный кавалер солдатского ордена Славы, пехотинец, – мог бы рассказать. Но Владимир Андреевич уже умер – и подтвердить, что именно так он и кричал на передовой, не сможет.
Еще так кричали те, кого расстреливали, – людей ставили к стенке, завязывали им глаза, и они орали «За Родину!» – но и расстрелянные, по понятным причинам, не подтвердят. Зато денщики и шоферы вам сегодня расскажут, что так они никогда не кричали. И ведь не лгут – действительно, не кричали!
Так и формируется историческое суждение: мы склонны доверять воспоминаниям штабистов, тыловиков и редких уцелевших танкистов (а больше никто и не дожил до сегодняшнего дня) – о том, как вели себя пехотинцы, идя в атаку. Прошу понять: в моих словах нет упрека тем, кто оказался в штабе. Каждый был на своем месте. Мой отец был летчиком, и он не кричал: в кабине самолета не кричат «За Родину!». А вот его друг Александр Зиновьев успел повоевать в пехоте – и вот он кричал. Скульптор Эрнст Неизвестный, известный тем, что поднял в атаку бойцов, был изрешечен пулями, объявлен мертвым и воскрес из мертвых – вот он кричал. А как было не кричать «За Родину!»? Вы бы что кричали, поднимая взвод под огнем?
Корректно ли такое исследование, которое не учитывает предмет исследования? Так же точно, мы легко выносим суждение о коммунизме по речениям партийных аппаратчиков 70-х годов – и кто утрудит себя чтением первоисточников, к чему это? Мы судим о России и о судьбе нашей страны по речениям западных политологов, гарвардских говорунов и оксфордских наблюдателей – вот их мнение нам кажется критичным в отношении нашей собственной истории. Ну, так давайте поинтересуемся у повара полевой кухни – кричал ли он «За Родину! За Сталина!», когда разливал по котелкам щи. Не кричал повар? Вот и славно: исследование, стало быть, показало, что роль идеологии преувеличена. Спросим у плотно отобедавшего оксфордского профессора, что он думает о сталинском произволе – и вычертим правильный вектор русской судьбы. Где же и узнать о судьбе русского народа, как не за high table в Оксфорде?
Пройдет короткое время, и история нам сполна отомстит: оценка российской демократии будет вынесена исходя из личности вора в законе Япончика как наиболее адекватной процессу. И это совершенно справедливо. Не стоит сетовать, что нас плохо поняли. А мы сами – что старались понять?
У России есть история, это ее история, ни на что не похожая – и эта история будет прожита и пройдена до конца, так же, как прошли некогда свой путь греческие гоплиты через Месопотамию, как прошли чешские легионеры через Сибирь. История не может быть права или не права – она просто есть, и ее требуется уважать. Хотя бы за то, что она была наполнена живыми людьми, которые любили, дышали, рожали, смеялись. Сегодня приятно читать о похождениях бравого солдата Швейка в трактире «У чаши» (а до мясорубки под Казанью, где выкосили полкорпуса, Гашек не дописал). Мы читаем о похождениях Швейка и прятках Чонкина, и задуматься, кого бы из них мы хотели увидеть рядом, случись беда, – задуматься об этом как-то лень. Вдруг обойдется: финансовый кризис рассосется, вертикаль власти никого не зашибет, сытые наедятся, голодные развеселятся, войны не будет? Но знаете, я бы предпочел, если что случится, чтобы спину мне прикрывал Швейк, а от дезертира Чонкина лучше держаться подальше.
Думаю, Швейк знал самое главное: не бывает чужой истории, не бывает чужой боли, не бывает чужой войны. И чужой смерти тоже не бывает. Всякая смерть – есть убийство чего-то в тебе самом.
Тогда, в урологическом отделении, я сказал иначе:
– А я нашу Родину люблю. И умру за нее.
Прозвучало это неубедительно. Умирать я не собирался. Сосед мне не поверил.
– Может, ты еще и дедушку Ленина любишь? И портретик на стенку повесишь?
– Может, и повешу.
– Ага! Портретик повесишь! Может, и в Афганистан служить пойдешь?
– Может, и пойду.
– А чего же ты не идешь? Иди! Не прячься!
– Ну и пойду.
– Иди, иди. Колонизатор.
Наш разговор прервала сестра – она вошла в палату, чтобы ставить больным градусники. Мы откинулись на подушки, изображая из себя тяжелобольных. А третьему пациенту и притворяться не надо было – он всегда был бледен и дышал с трудом. Сестра проверила градусники, записала температуру, раздала таблетки, которые мы с толстым юношей, разумеется, выбросили в окно. А третий пациент, не рассуждая, таблетки проглотил, ему все равно было – таблеткой больше, таблеткой меньше.
Мы продолжили спор вечером, а потом и на следующий день.
Толстый юноша рисовал в тетрадке схемы и диаграммы, показывал мне. У него был набор цветных фломастеров (прислали вместе с сардельками), и рисунки получались очень красивыми.
– Видишь? – говорил он. – Все совпадает. Вот лагерь Майданек (он нарисовал на бумаге кружочек) – а вот СибЛАГ (напротив он изобразил еще один кружочек), вот Бухенвальд – а вот Колыма! Между Сталиным и Гитлером никакой разницы нет. Сталин даже хуже, он свой собственный народ убивал. А Гитлер – только чужих. Значит, нельзя было воевать за Сталина. Генерал Власов прав, понимаешь! У него выбора не было! И Чонкин прав, что спрятался!
– Как это: Гитлер только чужих убивал? Ты его что, оправдываешь? Это что, хорошо разве?
– Я тебе объясняю, что политика большевиков – людоедская! Нельзя было эту страну защищать!
Я разглядывал его диаграммы. Получалось, что, если воюешь против Гитлера, значит, воюешь за Сталина. А за Сталина воевать нехорошо – стало быть, надо спрятаться. И сегодня идти в армию – нехорошо. Ну, вот мы и спрятались в 57-й больнице. А солдат Чонкин – на сеновале отсиделся. А папа толстого юноши спрятался в заброшенной квартире и прожил там четыре года.
Через пару дней толстый юноша выписался. Позавтракал, потом скушал обед, выпил компот и уехал домой. Так мы с ним и не доспорили.
В армию я тогда не пошел, отвертелся от службы, и в Афганистан попал только спустя двадцать пять лет – когда там шла уже другая война. Перед тем как я выписался из больницы, нашего третьего соседа перевели в реанимацию, ему стало хуже. Я не знаю, выжил он или нет.
Скучный мужчина
Мой дядя Алеша всегда говорил негромко и с улыбкой. Он принадлежал к тому типу мужчин, которым не обязательно произвести впечатление. Возможно, он знал, что произведет впечатление в любом случае.
Он был невысокий, худой, одевался как-то скучно. Пиджак скучный, рубашки скучные. В то время москвичи уже научились себя выражать через грубые свитера и небритость, а вот дядя Алеша не умел себя подать. У отца собиралась пестрая, вольнолюбивая публика, что ни лицо – поэма, что ни человек – биография. Опальный философ, непризнанный поэт, этого уволили из газеты, того не печатают. Яркие все люди. На их фоне дядя Алеша не очень-то смотрелся: чисто выбритый, коротко стриженный, в галстуке. И даже галстук у него был скучный.
Меня поражало, что наши выдающиеся гости оказывают дяде Алеше внимание, причем внимание подчеркнутое. И я не понимал, отчего так. Рассказывал дядя Алеша про себя немного, хотя, впрочем, иногда мои родители говорили, что у дяди Алеши интересная биография. Воевал. Ну, тогда все воевали.
Подробности я узнавал постепенно. Например, подслушал однажды фразу, сказанную другим своим дядей – дядей Витей. Сестра моей мамы была замужем за военным моряком, капитаном первого ранга дядей Витей Петровым, человеком далеким от интеллектуальных запросов, сумрачным и пьющим. Бывал он у нас редко, работал где-то в адмиралтействе или министерстве – этих слов я тогда не различал. Помню лишь, когда дядя Витя все же приходил в гости, то норовил сесть подле дяди Алеши – и о чем-то мои дяди вполголоса беседовали.
Однажды я услышал, как дядя Витя сказал моей маме:
– Да пойми ты, Танечка, Алексей сделал для страны больше, чем Зорге!
Вот тогда я впервые узнал, что мой дядя Алеша – разведчик.
Имя, данное при рождении, Алехо Оскар Кантор, родной язык – испанский. Он старше папы на двенадцать лет. Родился, как и отец, в Аргентине, в городе Ла Риоха, в 1910 году.
Взял себе имя Алексей Павлович Коробицын, хотя реальное отчество – Моисеевич, а фамилия – Кантор. Перед смертью он себе реальные отчество и фамилию вернул.
В 1936 году (после того как семья переехала жить в Россию) дядя Алеша уехал воевать в Испанию. Испанский был родным, объясняться было просто. Он стал советником адмирала Кузнецова, обеспечивал проход транспорта, участвовал в Северном походе, знаменитом прорыве через Гибралтар, а впоследствии стал командиром базы торпедных катеров. Потом, после поражения Испании, поступил в распоряжение РУ РККА, и его направили в Мексику, где Алексей Коробицын некоторое время жил, сделавшись мексиканским бизнесменом, даже (как я узнал недавно из публикации в российской прессе) приобрел рудник. Укрепил связи с МИД Мексики, стал почетным консулом этой страны в Кливленде, США, оттуда – уже в качестве мексиканского дипломата – был послан в Берлин. Работал в мексиканском посольстве заместителем консула до самого начала войны. Периодически возвращался и в Мексику, и в Кливленд, обеспечил функционирование разведсети под кодовым названием «Турбан».
В 1942 году он был переведен в Россию. Возглавил разведывательно-диверсионную группу, выброшенную в тыл врага в леса под городом Чечерском Гомельской области. Группа состояла из антифашистов австрийской и немецкой национальности, мой дядя-аргентинец возглавлял отряд (его псевдоним был «Лео»). Задание было конкретным: по возможности нейтрализовать транспортное сообщение на линии Гомель-Брянск, для чего следовало вступить в контакт с партизанскими соединениями Федорова.
К Федорову прямиком они и попали, после того как группа, отстегнув парашюты, собралась в лесу. И Федоров, разумеется, приказал их расстрелять, поскольку группа сплошь состояла из немцев. Алексей Коробицын сумел его убедить согласиться на проверку: по коду, известному Лео, в Ставку было передано сообщение о том, что гомельские партизаны заняли 103 населенных пункта. Условие, поставленное Федоровым, было следующим: если Совинформбюро вечером передаст эту новость – значит Лео свой, если не передаст – расстрел. Совинформбюро сведения о гомельских партизанах передало.
До марта 1943-го, пока диверсионная группа Лео действовала под Гомелем, ими были уничтожены 11 воинских эшелонов и 1485 гитлеровских солдат, ранено 300, взят в плен генерал СС (сведения даны по архивам ГРУ).
В 1944 году группа была переброшена в Румынию, а затем Алексей Коробицын переправился во Францию. Насколько понимаю, последнее дело было связано с немецкими военными кораблями, полученными Францией после капитуляции Третьего рейха. Это были корабли, участвовавшие во вторжении в Южную Францию. Большинство из них, как известно, были перекрашены и снабжены новыми французскими названиями – дабы не было оснований делить трофеи с союзниками. Дядя Алеша, в качестве марсельского капитана, объехал соответствующие порты и передал в Ставку реальные имена кораблей.
Когда война закончилась (ему было всего тридцать шесть), Алексею Коробицыну предложили перейти в ведомство ГБ. Отказываться от таких предложений было не принято – поэтому он просто сказал: «Разрешите доложить о вашем предложении моему непосредственному начальству».
Поскольку подразумевалось, что следить надо будет именно за этим начальством, к Коробицыну больше не обращались. Но и карьера его стремительно закатилась. Тем более что началась кампания по борьбе с космополитизмом, во время которой дядя Алеша демонстративно вернул себе отчество Моисеевич и неудобную фамилию Кантор.
Его уволили в запас довольно рано – неполных сорока лет, при иконостасе орденов и медалей.
Он стал приключенческим писателем. В детстве мне нравилась написанная им книжка про мексиканскую революцию «Хуан Маркадо – мститель из Техаса». Еще он написал детектив «Тайна Музея восковых фигур». Потом про него стали немного писать. Вице-адмирал Ващенко, замначальника ГРУ, назвал его своим учителем, посвятил ему две главы в воспоминаниях. Впоследствии именем Алексея Коробицына назвали корабль. Но он к тому времени уже умер.
К чему я это рассказал, даже затрудняюсь сформулировать.
Человек он был необычайно добрый, мягкий, не пафосный. В те годы в нашей квартире собирались невероятно харизматичные пафосные люди, борцы за демократию, ненавистники режима. Так вот, ни один из них, никогда не обратился к дяде Алеше иначе, как с подчеркнутым, преувеличенным уважением. Меня, помню, это даже изумляло.
Такие вот вольнодумцы, ниспровергатели авторитетов, а ломают шапку перед военным.
У них там – ух! Дела! Решения! Резолюции! Демонстрации! А что дядя Алеша? Но то поколение еще помнило, что такое война. И что такое мужчина, они тоже себе представляли. И никого не смущали скучный пиджак и галстук. Люди того поколения были несколько взрослее, чем мы сегодня. И друзья нашего дома – даром что либералы – все отлично понимали.
В ожидании протокола
Однажды меня задержали и отвели в отделение милиции. Я шел из гостей и был нетрезв, а тут как раз очередная борьба с пьянством. Андроповские это, что ли, меры были, или еще брежневские потуги на сохранение порядка – даже и не упомню, кто царствовал. Видимо, я вел себя несколько, как бы это сказать поделикатнее, рассеянно. И привлек к себе взгляды милиции.
Милиционер откозырял, предложил пройти. Тогда говорили: «Пройдемте». Дело было в метро – прямо в метро находилось и отделение милиции. Я говорю про то, что на Маяковке, возле выхода на Садовую. Провели, усадили на лавку, сказали, чтобы ждал, пока составят протокол.
– И долго ждать?
– Пока не освобожусь.
– А вы заняты сейчас?
– Не твое дело!
Сидел и ждал протокола. Вся жизнь так проходит: вечно чего-то ждешь – то одной бумажки, то другой. То от советской власти требуется бумажка, то от антисоветской – разницы никакой: сиди и жди. И вот, пока ждал, я наблюдал такую сцену.
Задержали несколько безобидных ярыжек – то ли рейд у милиционеров специальный был, то ли план за неделю вырабатывали. Все задержанные были людьми неопасными, даже милыми – ну выпили, и что? Мы сидели на лавке, бок о бок, смотрели затравленно на ментов. Ждали, пока о нас вспомнят. Вот когда вспомнят, тогда составят протокол, напечатают на бланке рапорт о задержании в нетрезвом виде – и придет на работу такая вот казенная бумага с милицейской печатью, тебе на работе выговор и влепят, за пьянство. А как, скажите, в России не выпить? Жизнь такая, что выпить очень хочется. Нехорошо, по-моему, за это привлекать.
Среди задержанных один дяденька был особенно симпатичный, он даже и пьяным-то не был. Так, слегка нетрезв. Правда, он громко икал – и тем самым обращал на себя внимание.
Очень разумный дяденька, в приличном пальто, в кепке, с портфелем. Он икал, а икнув, всякий раз немедленно извинялся.
Помахивал ладонью перед носом, разгоняя винные пары, мило улыбался и говорил окружающим:
– Ик! Пардон! Это – шампанское!
Ну как на такого человека сердиться?
Однако его привели в отделение, усадили по ту сторону перегородки: с внешней стороны находятся работники правопорядка, в глубине комнаты – нарушители. И перегородочка-то так себе, невысокая, но действие свое производит: сразу тебя отделяют от привычного мира. Отняли у дяденьки портфель, вывалили содержимое портфеля на стол.
В портфеле обнаружилась плоская коробка шоколадно-вафельного торта. Ничего криминального, на первый взгляд.
Начальник отделения осмотрел коробку с тортом, попытался вскрыть.
Задержанный его остановил, подал голос:
– Товарищ милиционер, не трогайте, пожалуйста, торт! Прошу вас, товарищ старший лейтенант, не надо! Жене везу!
– Рот закрой! Жене он везет! А выпил зачем? Для храбрости?
– Ик! Пардон – шампанское!
– Шампанское, как же! Водяры нажрался, урод, среди бела дня.
– Шампанское, товарищ милиционер! Сын родился! Торт жене везу!
– Ага, торт везешь!
– В командировке был, товарищ милиционер. На самолет спешу! – Тут дяденька посмотрел на часы, озаботился. – Правда ведь спешу, товарищи милиционеры. Ик! Пардон, шампанское! Остались всего два с половиной часа, граждане дорогие. Я могу и опоздать! Ик! Пардон…
– Сиди, не выступай. Сивухой за километр разит!
– Шампанское! Ик! Пардон!
– Сиди!
Задержанный сел на лавку. Некоторое время он молчал, боролся с икотой – это было видно по мимике. Потом напомнил о своем присутствии.
– Граждане милиционеры! Голубчики! Войдите, прошу вас, в мое положение. Ик! Жена родила. Ик! Радостное событие! Согласитесь! У меня билеты на самолет. Вот они! Вылет через два часа. Ик! Убедительная просьба отпустить меня, чтобы я успел на рейс! Ик! Пардон, шампанское!
Никто не шелохнулся, бровью не повел.
– Товарищи, это исключительно важно, чтобы я успел на самолет!
Ответа нет. В тишине прошло еще пять минут. Видно было, что задержанный дяденька уверен в том, что его аргументы убедительны. Важно только, чтобы его услышали. А уж если услышат – обязательно поймут.
Он терпеливо выждал некоторое время и сказал так:
– Уважаемые сотрудники милиции! Обращаюсь к вам с просьбой. В связи с тем, что у меня родился сын, я должен успеть на самолет. Мне необходимо прилететь к жене, товарищи! Понимаете меня? Уверен, что да!
Никакой реакции.
– Дело в том, – терпеливо объяснил задержанный всем в комнате, – дело все в том, что жена сегодня родила. Такой случай. Нечасто бывает, товарищи. И вот я к ней лечу.
Вылет самолета состоится через один час пятьдесят пять минут. Я могу не успеть на рейс, товарищи! Ик! Пардон…
Тишина, тикают настенные часы. Лейтенант зевает, помешивает чай в стакане.