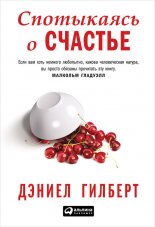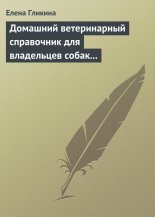Совок и веник (сборник) Кантор Максим

– Just like that! На две половины! На дачах люди с ума сходят. Убивают друг друга из-за пустяка. You got me?
И я подумал, что пятилетний план России не нужен.
Парадокс Зенона
То ли дело Лондон! Жизнь кипит, на бирже играют, современное искусство продают, показы мод устраивают, коктейли выпивают, зубами щелкают – а там что? Ровным счетом ничего. Стоит тихий городок, университет имеется. Ну да, старый университет. И что дальше? Тоска смертная. А гонору-то, гонору!
Примерно так отзываются лондонцы об Оксфорде. Роджер, когда узнал, что я собираюсь жить в Оксфорде, закатил глаза, как умирающий петух, и изобразил на лице тоску и томление. Он поведал мне, что однажды его избрали почетным профессором в каком-то (забыл каком) колледже, так он год только выдержал – и то каждую ночь возвращался в Лондон ночевать. Потому что Оксфорд – провинция! Дыра! Потому что он задыхается без реальной жизни, а реальной жизни – you know what I mean? real life, you got me? – реальной жизни в этом Оксфорде нет.
– То есть ты даже переночевать там не мог?
– Ни разу! Я – ну как тебе объяснить? – горожанин. И мне важно, чтобы жизнь вокруг – реальная жизнь, понимаешь? – кипела.
– Так ни разу и не остался на ночь?
– Я отказываюсь дышать этим воздухом!
Надо сказать, что, несмотря на тягу к большому сердцу большого города, Роджер каждую пятницу едет к себе в Дорсет – и сидит там до понедельника среди тоскливейшего пейзажа. Дом стоит на холме, виды (англичане мастера хвастать видами) открываются на холмы и луга. По лугам и холмам ходят овцы, вдали населенный пункт, где Роджер закупает провизию, а в местном пабе можно отведать характерную английскую пищу. И это – все. Вот туда мой друг стремится всякую неделю, и это место ему дырой не кажется. А Оксфорд в его понимании – скучная дыра.
Я задумался над этим парадоксом.
Лондонцы любят Англию, и готовы хвалить любой, самый паршивый угол своего острова. Они отзываются с симпатией о Линкольне и Йорке, и непременно находят нечто привлекательное в тамошней архитектуре и порядках – возможно, так происходит потому, что никому и в голову не придет сравнить эти городки с метрополией. С высот Лондона можно похвалить даже Манчестер или Ньюкасл – от широты душевной. Мой друг Роджер однажды расписывал мне живописные достоинства Ньюкасла, и я чуть было не поверил – до тех пор, пока не оказался там, был убежден, что это прелестное, увитое плющом, патриархальное местечко. Черта с два – местечко северное, малосимпатичное, блеклое.
Впрочем, в Москве мне однажды так нахваливали Нижневартовск, что совершенно убедили. Информированные люди говорили: неужели ты в Нижневартовск едешь? Вот приедешь – ахнешь! Новый Кувейт, Арабские Эмираты! Нефть оттуда течет рекой, а жители купаются в роскоши! И описали довольных жизнью нижневартовчан – вот ведь, редко так бывает, повезло людям! Так вышло, что они родились в той самой точке мира, откуда богатеи качают свою бесконечную нефть – двумя горстями гребут деньги из Нижневартовска отечественные воротилы. Ну, и жителям кой-чего перепадает, такая случилась везуха у людей. Жители Нижневартовска, дескать, разъезжают по городу на лимузинах и хорошо питаются. На всякий случай сообщаю читателю, что это не соответствует действительности. Если вам рассказали подобное про Нижневартовск, не верьте. Нижневартовск – это бетонный низкорослый барачный городок, облепленный мошкарой и окруженный болотами. Мужчины тамошние (во всяком случае, те, с кем я встречался) с утра пьют отвратительную водку, а по вечерам едят мерзкую колбасу. С болот дует вонючий ветер, и ветер этот причудливым образом сочетает одуряющую вонь и ледяной холод. Город выстроен по квадратно-гнездовому плану (вероятно, строители вдохновлялись чертежами Петербурга), и оттого ветер свободно гуляет по улицам, забирается в убогие жилища, ломится в щелястые двери подъездов. Милиционер, который был приставлен к выставочному залу, где проходила моя выставка, рассказывал про достопримечательности города, а потом вдруг сказал так: и не вырвешься отсюда, блин! Куда, блин, податься? Некуда идти, тайга кругом. И нигде меня никто не ждет – страна большая, а некуда в России деться. И милиционер заплакал. Да-да, это правда, в Нижневартовске я видел плачущего милиционера.
Но что ж это я про Нижневартовск – для чего просвещенному читателю, настроенному на повесть об английском уюте, знать малосимпатичные подробности об этом российском городке и его неуравновешенных милиционерах? Забудьте про Нижневартовск, помнить о нем надлежит лишь акционерам соответствующих компаний, забудьте о нем немедленно! Собирался я написать об Оксфорде, а Нижневартовск случайно возник в моем рассказе. Прочь, прочь отсюда – вернемся к чарующим берегам Темзы!
Вернемся к Бодлейеновской библиотеке, студенческим пирушкам (ибо редко вы проведете день в Оксфорде, не встретив пьяного школяра), лодочным гонкам, традиционному пантингу. Пантинг – это такой особый, несколько нелепый спорт: молодежь набивается в плоскодонку, и один из компании (чаще всего самый дохлый очкарик) делегируется на корму. Там очкарик застывает в позе венецианского гондольера, отталкиваясь длинным шестом от илистого дна, а компания раскладывает закуску, булькает сидром. Дни в Оксфорде тянутся медленно, что в колледжах, что на реке. Очкарик подолгу ковыряется шестом в илистом дне, профессора не торопясь обсуждают один-единственный вопрос – и в эту жизнь постепенно втягиваешься. Ты идешь в библиотеку, проводишь в ней весь день, и только к вечеру вспоминаешь, что голоден. Вечерний обед в колледже, бутылка портвейна, путешествующая из угла в угол профессорского high table – ну чем же плохо? От Нижневартовска здешняя жизнь отличается разительно, и даже трудно представить себе, что этот дивный город может кому-то не нравиться. Однако есть у Оксфорда недоброжелатели.
И в их чувствах любопытно разобраться. В самом деле, почему можно любить предельно скучный Дорсет и не любить Оксфорд? В Дорсете ни погода, ни природа нисколько не лучше – просто там нет библиотек, но все-таки Дорсет любят, а про Оксфорд говорят сквозь зубы.
После недвусмысленной аттестации Роджера, я стал раздумывать, чем же это Оксфорд лондонцам не угодил. И ведь точно, не угодил! Я еще пару раз проверял – кому ни скажу, что живу в Оксфорде, мне сразу в ответ: а вам не скучно? Это ведь такая… гм-гм… удаленная от реальных событий точка. Ну что на это ответить? Сказать, что и Лондон довольно-таки удаленная точка от реальных событий в Кандагаре? Но собеседники явно не бомбежки имеют в виду, говоря о реальных событиях. И начинаешь оправдываться, говорить, что частенько наведываешься в Лондон, дескать, всего час езды от соблазнов метрополии.
Говорю такое – и сам чувствую, недостоверно получается. Дело в том, что из Оксфорда ехать в Лондон неохота. Я спросил тут недавно одного профессора, часто ли он бывает в Лондоне. Тот растерялся.
– Полагаю, раз в месяц. Кажется, не больше… Нет, чтобы быть точным, знаете ли… Думаю, будет совершенно точно, без ошибок, если скажу так: раз в два месяца. А еще точнее: раз в два-три месяца. Да, это, полагаю, исчерпывающий ответ.
– А последний раз когда были?
– В прошлом году.
Вот вам и час езды! Кому ж охота этот час трястись в автобусе, чтобы прогуляться потом по Гайд-парку и посмотреть на туристов на траве? Никому не охота. В музей пойти? Но местный Ашмолеан не уступит никакому музею столицы – тут и Рембрандт, и Якоб Рейсдал, и Паоло Учелло. С годами понимаешь, что одной хорошей картины для счастья достаточно, а в Оксфорде их побольше будет. Словом, мне хватает Ашмолеана. И когда я говорю «всего час езды до Лондона», собеседники мои скептически качают головой. Они сомневаются, что я часто добираюсь до их бурлящего города, не верят, что я держу руку на пульсе современности. А вы, спрашивают, на последней выставке известного художника были? Инсталляции из веревочек наблюдали? Нет? Вот видите… А премьеру «Хрен редьки не слаще-2» посетили? Нет? А еще говорите…
И краснеешь, виноватый, ищешь, чем бы оправдаться.
Почему-то в жителях Оксфорда я не замечал ревности к Лондону. У Оксфорда имеются сложные отношения с Кембриджем, это да. И у Кембриджа непростые отношения с Оксфордом. Обитатели этих университетских городов именуют город-соперник «that other place», а самого названия не произносят. А про Лондон и не вспоминают, нет в Оксфорде такой темы, а чем меньше про Лондон вспоминают, тем пуще лондонцы ярятся.
– Я, знаешь ли, Максим, люблю оживленные улицы, люблю район Белгравия! Характеры, страсти! Цивилизация! Не то что Оксфорд! Разве ты сам не понимаешь разницу? – так мне многие лондонцы говорят, Роджер в первую очередь.
Я разницу понимаю хорошо. Мне от лондонского энтузиазма делается грустно, как, например, от чтения журнала мод. Читаешь такой журнал, смотришь на полуобнаженных девушек и думаешь: куда тебя, милая, понесло? Сидела бы дома, рожала детей – все лучше, чем задом вертеть. Нехорошие, несвоевременные мысли.
Скажу больше, даже Нью-Йорк, уж до чего головокружительный город, не представляется мне особенно интересным. Этот город мне кажется некрасивым, устаревшим, застрявшим в семидесятых годах. Возможно, в семидесятые годы Нью-Йорк и смотрелся современно, а сейчас кажется молодящимся пенсионером – влез паралитик в джинсы, покрасил волосы. Жалкое зрелище, если вдуматься. И архитектура Нью-Йорка меня не привлекает: знаете, есть такая псевдобрутальная эстетика – открытый кирпич, железные лестницы. Так оформляют рыбные рестораны в провинциях – и многим нравится. Братва съезжается в такие рестораны и чувствует, что прикоснулась не только к семге, но и к прогрессивному дизайну. Когда весь город такой, делается ужасно тоскливо. Словно все улицы разом сделал один дизайнер – и я даже представляю себе, как он выглядит: суетливый, в жилетке, с бородкой клинышком – и вот мы ходим по этому радикальному произведению декоративного искусства. Некоторые любят брутальный стиль модных рыбных ресторанов – а некоторые совсем нет. Вот я, например, не люблю.
«В Нью-Йорке вчера произошло то, о чем вы узнаете завтра», – это весьма расхожее выражение. Но штука в том, что существуют люди, которым эта информация не была нужна вчера, не потребуется сегодня и завтра. Вообще не потребуется никогда. Потому что им она неинтересна. Есть много вещей куда более любопытных.
Но разве скажешь такое вслух – горделивому лондонцу?
Сомнение в прогрессе нарушает привычную логику, согласно которой Нижневартовск завидует Москве, Москва – Лондону, Лондон – Нью-Йорку. Но стоит усомниться в состоятельности предмета зависти – и картина мира рушится.
В Оксфорде я часто вспоминаю рассказ Честертона «Преступление Боулнойза». В рассказе описано, как богатый помещик ревнует к своему бедному соседу-профессору, который не нуждается во внимании помещика. Помещик устраивает роскошные охоты и приемы, строит павильоны и дает балы, а сосед сидит в своем одноэтажном колледже с книжкой и не обращает внимания на шум за окном. Помещик из кожи вон лезет, чтобы совершить нечто славное, громкое, значительное. Помещик собирает толпы восторженного народа – один сосед не обращает на него никакого внимания. И даже не от презрения к свету, совсем нет, просто у него книжка интересная, и ему неохота поворачивать голову на шум.
Точно так же обстоит дело с противостоянием Оксфорда и Лондона. И то сказать, книжек в Оксфорде хватает – есть на что отвлечься, чтобы не заметить столичной суеты. Профессор Римской истории Освин Мюррей показал мне на свою библиотеку и сказал: «Здесь две мили книг по истории Рима». В других городах я слышал: «Кенигс-аллея – самая длинная стойка бара в Европе», или «В Нью-Йорке самые высокие дома», или нечто подобное, а вот про мили книжек не слышал никогда. Если представить, сколько еще предстоит Освину прочесть (при том, что первую милю он уже освоил), то понятно, что шансы приобщить его к современному искусству, игре на бирже, сезонам мод – исчезающе малы. К тому же он читает не торопясь. Освин Мюррей олицетворяет историю – а история никогда никуда не торопится, она идет себе и идет.
В связи с этой особенностью истории и ее невольной вовлеченностью в соревнование с прогрессом (ср. соревнование Лондона и Оксфорда) я вспомнил знаменитый парадокс Зенона.
Ахиллес никогда не догонит черепаху, поскольку за то время, что он преодолевает расстояние, их разделяющее, черепаха сделает еще один крохотный шаг – и так будет всегда, «догоняющий не догонит». Для того чтобы догнать, надо стать перегоняющим, бежать не вдогонку за черепахой, но опережая черепаху, бежать по своему собственному маршруту.
Ахиллес (то есть воплощенный прогресс – кстати сказать, Гегель считал Ахиллеса выражением западного духа) неутомимо движется за черепахой (неторопливой историей), но ему не суждено ее обогнать. Всякий раз, когда Ахиллес настигает черепаху и оповещает мир о своей победе и конце истории (см. Гегель, Шпенглер, Фукуяма), черепаха делает еще один маленький шаг, и Ахиллес опять отстает.
Ахиллес старается из последних сил. Лондон дымит трубами, пыхтит клерками, кряхтит банкирами, плюется современным искусством – а Оксфорд отталкивается шестом от илистого дна и неторопливо плывет. Прогрессу никогда не догнать историю, пока он сам не сделается историей – но тогда и догонять уже не стоит. «Современному искусству» никогда не догнать искусства, пока оно не превратится просто в искусство – но тогда соревнование станет ненужным. Сексуальной революции не заменить любовь, пока занятия любовью не станут всамделишней любовью – но тогда и соревнование прекратится.
Я рассказал о своей трактовке парадокса Зенона документалисту Роджеру, и он мою трактовку не одобрил.
– Подумаешь, две мили книг! – сказал Роджер. – Сегодня это никому не нужно. Заглянул в интернет, нашел необходимое – и вперед!
– Все-таки книга и компьютер не то же самое.
– Твоя черепаха, – заметил Роджер раздраженно, – давно стоит на месте. Ахиллес вокруг нее приплясывает, кругами бегает, а черепаха ни с места. Не работает сравнение.
– Скажи, – спросил я Роджера, – зачем Ахиллес погнался за черепахой?
– Как это зачем? Задачка такая. Парадокс.
– Допустим, Ахиллесу нужен панцирь черепахи, – продолжал я. – Но панцирь черепахи на Ахиллеса не налезет. Прогрессу трудно приспособить к делу историю.
– Это парадокс такой, пойми! – убеждал меня Роджер.
– Не понимаю. Зачем вооруженному громиле гоняться за маленьким существом? Вот в чем основной парадокс, по-моему. Бегал бы лучше за Гектором вокруг Трои.
– Тогда бы не получилось парадокса! – Роджер умеет раздражаться по пустякам. – Неужели не понятно, что если бы Ахиллес бегал за Гектором, парадокса бы не было?
– Это как смотреть на парадокс, – сказал я. – Самое непонятное для меня в данной задаче – это мотивы Ахиллеса.
– Возможно, Ахиллес хочет черепаху съесть! Какая разница! Да, он варит из них черепаховый суп! И что? – Роджер закипал.
– Знаешь, Роджер, – меня вдруг осенило, – а может, черепах несколько? Есть жирные, есть тощие. Вот, допустим, Ахиллес – это прогресс. Не на всякой истории западный прогресс расцветет. Есть европейская история, есть китайская история. Даже российская история – и то есть! Это все разные черепахи. Допустим, Ахиллес посмотрел на китайскую черепаху, подумал, что она несъедобная. Погнался за другой черепахой, а китайская тем временем вон как отъелась! Теперь ему китайскую нипочем не догнать!
– Если бы Ахиллес черепах не кормил, – гневно сказал Роджер, – они бы уже давно от голода померли. Куда ж теперь без прогресса! И Китай никуда от нас не денется! Даже черепахе питаться надо – морковку пожевать, салатик…
Роджер бранился и одновременно накрывал на стол – ждал гостей из Оксфорда, пожилую пару. Он пригласил меня присоединиться, и я остался на ужин.
Пара оказалась симпатичной – толстая неповоротливая жена, похожая на черепаху, и сутулый очкарик муж. Они были не университетские, просто жили в Оксфорде: муж, кажется, сочинял что-то про кино. Мы говорили о недавних выборах, вяло бранили консерваторов, признавали, что лейбористы засиделись в правительстве. Стемнело, Роджер предложил друзьям ночлег.
– Все-таки путь неблизкий, – ехидно сказал Роджер. – Понимаю, что в Лондон не каждый день выбираетесь.
– Пока доедешь… – Толстуха махнула рукой.
– Движение паршивое, – сказал очкарик.
– Оставайтесь, – сказал радушный Роджер, – я с утра бегу на студию, потом две коротких деловых встречи, ланч с продюсером, но к четырем освобожусь. Вы были в Тейт-модерн на… – и он произнес неизвестное имя. Теперь столько талантов, не уследишь!
– Спасибо, Роджер, – сказал очкарик, – но мы поедем домой. В Лондоне я не могу уснуть. Душно, шумно. Ни разу не ночевал в Лондоне.
– К тому же в Оксфорде соловьи ночью поют, – добавила толстуха. – А у вас автобусы тарахтят.
Роджер покраснел. Ему стало обидно за Лондон.
Я хотел было напомнить ему про черепаху и Ахиллеса, но меня отвлекла новая мысль. Как это часто бывает, я некстати вспомнил Россию, подумал про Нижневартовск.
Интересно, думал я, в парадоксе Зенона есть ли место для Нижневартовска? Ахиллес – это прогресс и Лондон, черепаха – это история и Оксфорд. А Нижневартовск-то на что нужен миру? И я понял, что Нижневартовск – это морковка, которую черепаха съела.
Бог из машины
Мне сейчас кажется, что его звали Мендоса. Точно не помню, пусть будет Мендоса. Он приехал на длинной белой машине, которая поразила мое воображение. Даже у членов Политбюро, думаю, не было таких автомобилей. Я увидел из окна мастерской, как белая машина въехала к нам во двор – причем машина начиналась в одном окне, а заканчивалась в другом.
Это был кабриолет – кабриолет в Москве 1988 года! – и на шофере, кажется, была бордовая ливрея и фуражка с околышем. На широком заднем сиденье находился сам Мендоса, а по бокам от него две барышни – длинноногие, с локонами, огромными глазами и прогрессивными взглядами.
Голова шла кругом. Так вот работаешь, малюешь картины, ждешь признания, тебе уже тридцать, вокруг тоталитаризм, надежды никакой, а потом – раз, и приезжает белый кабриолет с таким вот Мендосой и такими вот барышнями. Они пришли ко мне в грязную мастерскую в Трехпрудном, чтобы я показал им картины. Барышни шелестели платьями, на Мендосе был ослепительный белый костюм. Мендоса был высок, жилист, быстр. Он двигался по мастерской грациозно и небрежно, не боялся испачкаться краской, он улыбался, и его зубы сияли. А в руке он держал бутылку шампанского.
Я почувствовал, что я великий художник.
Так вот и к Пикассо в мастерскую приезжали ценители. И мужчины тоже несли шампанское, а женщины шелестели платьями. Вот он пришел, коллекционер, настоящий богатый коллекционер – началась новая жизнь! О, я не боюсь вас больше, проклятые советские держиморды! У меня есть Мендоса!
То, что Мендоса очень богат, – было очевидно. Вопервых, машина. Таких машин я сроду не видел, даже в кино. Потом барышни. Это были особенные барышни, не то, что мои тогдашние подруги – девушки в застиранных свитерах. Теперь в Москве на презентациях можно встретить таких удивительных барышень, они обычно выходят замуж за прогрессивных людей и шелестят платьями на загородных виллах, а тогда их совсем не было. Они были русскими, но сказали, что живут в Париже – сказали об этом как-то вскользь, между прочим. Поинтересовались, где живу я, сочувственно покивали. А мы, говорят, в Париже живем. Тогда еще не употребляли выражения global Russian, но это были именно они – те, для кого земной шар уже распахнул объятия.
Барышни в шелестящих платьях, белый кабриолет, белый костюм, белая улыбка – Мендоса показал мне в считанные мгновения другую жизнь, свободную, легкую. Я смотрел на Мендосу, как на картину Рембрандта – се человек! Это вам не секретарь живописного отделения Московского союза художников, это вам не работник Минкульта! Те ходили в мерзейших фанерных пиджаках, и жены их платьями не шелестели. Проклятые большевики! Как я ненавидел их и подлую лицемерную идеологию! Хотите уравниловки? Желаете всех под одну гребенку? Не выйдет! Теперь они не дотянутся до меня! Пробили часы истории, и автомобиль с Мендосой въехал в мой мир.
Я ставил на мольберт картины, а Мендоса, прихлебывая шампанское, смотрел. В ту пору основным содержанием подпольного искусства была борьба с коммунистическим режимом – вот и я тоже писал краснокирпичные бараки и рисовал портреты заключенных.
Мендоса сочувственно разглядывал мои холсты.
Иногда задавал точные вопросы.
– Это кто? – показал пальцем на человека в полосатой робе.
– Заключенный.
– Его арестовали?
Я пускался в длительные объяснения. Мой герой – не уголовник, нет! Видите ли, в тюрьмы попадали не только преступники, часто людей обвиняли в тех преступлениях, которых они не совершали! Да, это были сфабрикованные обвинения! Часто вина состояла в том, что человек просто не такой, как все. Он думает иначе – и это уже преступление.
– Да, обвинения могут сфабриковать, – сказал Мендоса.
Я поразился тому, что он знает русскую историю. Но впрочем, в те годы сочинения Солженицына были крайне популярны.
– Именно так! Сфабрикованные обвинения! Публичные процессы над невинными людьми! И это продолжается, да!
Мендоса понимающе прикрывал глаза. Я чувствовал, что многословен, но должен был сказать этому заморскому принцу о нашей скорбной жизни. Там, в стране белых кабриолетов, он, возможно, не понимает наши русские проблемы. Понимаете, говорил я своему меценату, борьба с тоталитаризмом – вот содержание моего творчества! Россия – это тюрьма. Здесь люди не имеют права на собственное мнение. Инакомыслие – вот что хочу я воспеть в своих полотнах!
И я ставил на мольберт очередную картину. Красный барак, колонна заключенных, забор с вышками – Мендоса все это внимательно разглядывал.
– А вы сидели в тюрьме?
Как про это рассказать? Я стал путано объяснять, что на моего отца донесли в 1952-м, во время компании по борьбе с безродными космополитами, что семья сражалась в интербригадах в Испании, а интербригадовцев автоматически считали троцкистами и по возвращении в Россию арестовывали. Я что-то мямлил про генетиков, про злосчастную сессию ВАСХНИЛ. Рассказывал про диссидентов, про выпуск «Хроники текущих событий». Обычный интеллигентский лепет – милые барышни переводили мой рассказ, время от времени переспрашивая, что именно я имею в виду. Кажется, я утомил гостей: Мендоса слушал рассеянно, с какого-то момента перестал следить за историей моей семьи. В конце концов он остановил меня мягким движением руки – достаточно слов, все уже понятно.
– Отнюдь не все, кто сидел в тюрьмах, совершили преступления, – сказал он.
– Наоборот! – пылко сказал я. – Прямо наоборот! – И я призвал в союзницы длинноногих барышень, пусть они подтвердят, что узники совести в нашей тоталитарной стране – невиновны. Я описал трагические судьбы Мандельштама и Гумилева – барышни перевели, а Мендоса дал понять, что разделяет мои чувства.
– Неверно думать, что человек, которого арестовали, плохой, – подвел итог Мендоса.
Все-таки человек Запада – особенный человек. Он выслушал, отбросил эмоции, обобщил мною сказанное, выделил суть. Простыми словами выразил главное.
Мендоса поинтересовался ценами на картины – вот, настал этот миг: коллекционер хочет приобрести мой холст! Он пригубил шампанское, спросил, есть ли галерея, которая продает мои картины.
– Да, – горделиво сказал я, – есть одна миланская галерея.
И действительно, через неделю должна была открыться моя первая в жизни выставка – меня пригласила галерея в Милане.
– Люблю Милан, – заметил Мендоса. – Славный город, у меня там дом. Поедем в Милан? – спросил он у своих спутниц.
– Ну конечно, – отвечали спутницы, – сейчас в Милане чудесно.
До встречи с Мендосой я не знал, что такое настоящая жизнь. Вот так – запросто – через границы и страны! В Милан так в Милан, в чем проблема! Сам Мендоса был из Латинской Америки (вручил мне визитную карточку, но я посмотреть постеснялся, где он точно живет), но также имел дома в Париже и Милане. Гражданин мира, он подвластен только свободе, поразительный человек! Он любил искусство, сострадал угнетенным и был богат. Что за дивное сочетание свойств!
Мне захотелось показать, что я тоже не чужд мировой культуры.
– А у меня тетка живет в Аргентине, переводит на русский Пабло Неруду, – сказал я и тут же понял, что сказал это некстати: Неруда, кажется, коммунист, он связан, выходит, с тоталитарными режимами. О, стыд! И совсем запутавшись, я прибавил: – И еще она переводит на испанский поэта Маяковского.
– Маяковский? – спросил Мендоса с недоумением.
Мне всегда было трудно объяснить прогрессивным либеральным людям свою любовь к Маяковскому. Преступления коммунистической идеологии слишком очевидны – и упоминать имя певца данной идеологии не всегда прилично. Я понял, что сказал бестактность. Только мы договорились по поводу узников совести – и надо же так вляпаться! Тебе как интеллигентному человеку рассказывают про недвижимость в Милане – а ты с Маяковским лезешь! Хорошо еще, Че Гевару не вспомнил!
Я выкручивался как мог, сказал, что очень люблю латиноамериканскую культуру, что мне дороги имена Борхеса, Картасара, Льосы.
– Неруду я тоже люблю, но понимаю, что все неоднозначно… – мямлил я жалкие оправдания. Приехал знаток прекрасного, демократ, богач – и надо было умудриться заговорить про большевиков!
Возникла пауза, всем стало неловко. Шампанское допили, барышни прошелестели платьями к дверям.
Я проводил гостей до их невероятной машины, соседи по лестничной клетке смотрели на нас с суеверным ужасом. И то сказать, не всякий день эдакие гости наезжают в наши убогие халупы.
Не прошло и часа, как я делился впечатлениями о визите коллекционера со своими коллегами по андеграунду.
– Что, шампанское принес?
– Подумаешь! Что ему шампанское! У него дом в Милане, если хочешь знать!
Личность Мендосы потрясла моих друзей.
– Он приедет и купит картину! – сказал один художник.
– Не приедет, пошутил, – сказал другой.
– А что ему стоит? Подумаешь! День в Москве, другой – в Милане!
Тон наших обычных бесед изменился. Прежде мы костерили работников райкомов и выставкомов, вспоминали о трагической судьбе Филонова и Ван Гога. Но сколько же можно страдать?! Сегодня мы говорили о большом мире, мире ярком и загадочном.
Кто-то вспомнил хрестоматийную фразу Ленина: «Свобода художника при капитализме есть только замаскированная зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания». От хохота мы чуть не попадали со стульев. Вот она, хваленая мудрость великого Ленина! Нет, вы понимаете, чего он боялся?! Что мы попадем в зависимость от коллекционера! Какой идиот! Боже, какой болван!
– Эх, хотел бы я почаще зависеть от денежного мешка!
– И я!
– Ой, возьмите меня на содержание, господин Мендоса!
Через неделю в Милане открылась моя выставка – галерист позвал много гостей, и люди пришли смотреть на полотна, привезенные с той стороны железного занавеса. Всякое свидетельство о мерзостях советской жизни поднимало зрителям настроение. Людям всегда приятно узнать, что они не ошиблись, правильно выбрали место, где родиться.
– Скажите, а там действительно все так плохо?
– Да, ужасно.
– И репрессии, не правда ли?
– Сфабрикованные обвинения, цензура, ложь.
– О, как это печально!
Двери открылись – и вошел Мендоса с барышнями. Он шел через зал, словно бы танцуя, легкий, стремительный, в белоснежном костюме, с улыбкой. Подошел, обнял. К тому времени я уже понял, что дружба в открытом обществе Запада завязывается легко: увидел, испытал симпатию, обнял. Нет здесь этого нашего советского лицемерия, люди не стесняются чувств. И я тоже от всей души обнял Мендосу – мне нравился этот богатый человек с белым кабриолетом.
Мендоса познакомился с галеристом, очаровал гостей. Он с барышнями прохаживался по залу, барышни шелестели платьями, а я, если меня спрашивали, кто это там прохаживается, отвечал:
– А, это мой друг Мендоса, коллекционер. Он из Латинской Америки, но у него, кажется, есть дом в Милане.
И говорил я это небрежно, поскольку уже понял, что так устроен мир, удивляться тут нечему.
Среди гостей оказался немец, корреспондент Штерна. Он отвел меня в сторону и сказал:
– Знакомое лицо, – и показал на Мендосу.
– Еще бы, – сказал я, – такой человек!
– Я знаю этого человека.
– Его многие знают, – я был уверен в том, что говорю. – Может быть, ты его по телевизору видел.
– Его люди меня хотели убить, – сказал корреспондент. – Это колумбийский наркобарон Мендоса.
Здесь история обрывается. Я ушел с вернисажа, не знал, как говорить с Мендосой и с галеристом. На той выставке были проданы две мои картины. Одну будто бы купил богатый итальянец, мне рассказывали, что видели мою картину в его доме. А кто купил вторую, не знаю, вдруг Мендоса? Правды ради, должен сказать, что я не знаю также, чем занимается тот богатый итальянец, который купил первую картину – вдруг он скупщик краденого? Или торговец оружием? Или мафиози? Или он просто ростовщик и отбирает последнюю копейку у бедняка? Или он просто честный менеджер на зарплате у компании, которая принадлежит депутату, который работает на мафию? Или не надо смотреть так далеко?
Тогда я этим не интересовался, не задумывался как-то. А потом вдруг задумался, после этого случая с Мендосой.
Вот вы, например, всегда ли вы уверены в том, что деньги, которые заработали, пришли к вам из чистых рук? Вам кто заказывает работу и платит деньги? Всегда честные люди? Или вам все равно? Вы уверены, что за ваши картины, статьи, улыбки, хождение по подиуму, энтузиазм, пылкие речи – не заплачено деньгами от продажи наркотиков или оружия? Или все гораздо мягче – и вы просто получаете деньги, нажитые на шахтерском труде, не оснащенном техникой безопасности?
Вы уверены, что ваш ухажер, который занимается строительством и девелопментом, не использует на стройке труд бесправных таджиков? Вы уверены, что ваше свободное слово не оплачено трудом на плантациях? Или вы думаете, что это безразлично – просто каждый занимается своим делом, на то и демократия? Интересно, как долог путь от вашей зарплаты – до бомбы, до наркотиков, до казино? Думаете, очень далеко – или не очень?
Мы сегодня Сталина осуждаем, и хорошо делаем – но ведь не Сталин организовал аварию на шахте Распадская, метан без помощи Сталина взорвался. По другой причине.
Я все эти вопросы задал Мэлвину Петтерсону из Брикстона, а Мэл мне ответил так:
– Знаешь, Макс, я всю жизнь котов рисую. Думаю, этот fuking Мендоса котов не любит. Таким гадам котики без надобности. Котов только добрые люди любят.
И я подумал: может, котами и спасемся? Однажды Дик Уитингтон и его кот уже спасли Лондон. Тогда храбрый котик прогнал крыс – а мендос он прогнать сможет?
Марсианские хроники
Если смотреть на вещи открытыми глазами, марсиане должны быть хуже евреев. И менее симпатичны, чем русские. Что могут сделать евреи или русские, мы примерно представляем. И было время, чтобы приготовиться. А что сделают марсиане – неизвестно.
Однако Мэлвин любит марсиан, а евреев как-то не очень. Нет, поймите правильно, Мэлвин Петтерсон – не антисемит. Я представил, как при чтении этих крамольных строк мои еврейские знакомые делают тревожную стойку, подобно пойнтеру, учуявшему добычу. Глаза горят, волосы дыбом. Еще раз повторяю, Мэлвин – не антисемит. Он просто не считает, что евреи являются интересным объектом для изучения. Ну евреи, и что? Ему, в сущности, на них плевать. А вот марсиане занимают его воображение.
В характере Мэлвина Петтерсона меня поражают две черты. Почему огромный брутальный человек весом в 13 стоунов всю жизнь рисует котов? Волосок к волоску, пушинка к пушинке. Сидит жирный громила, склонившись над маленькой бумажкой, и водит перышком, коту хвост вырисовывает. Он даже книжку издал «Cats. How to draw them». Но это еще пустяк. А вот как человек, который недолюбливает немцев, ирландцев, шотландцев и разных прочих шведов, евреев и африканцев, может любить марсиан, вот это правда загадка. Однако любит.
– Знаешь, – говорю ему, – тебе только на Марс ехать, с людьми ты точно не уживешься.
А он жует сэндвич и отвечает спокойно:
– И поеду! Что, сидеть здесь и ждать, пока русские весь Лондон засрут? Еще пару лет потерплю – и уеду.
– А как ты с марсианами говорить будешь?
– Do not worry, mate. Язык найдем.
Раз в год Мэлвин Петтерсон отправляется в Лидс на встречу со своими единомышленниками. Ежегодно в Лидсе проходит конгресс уфологов (это те, которые занимаются неопознанными летающими объектами). Я, по наивности, думал, что конгресс уфологов – провинциальное задрипанное собрание бездельников: пятьшесть помешанных и три домохозяйки. Ан нет, все не так: если кто интересуется, места на конференцию надо бронировать за полгода, а то в зал не втиснешься. Это явление – по популярности и значимости – что-то вроде Байройтского фестиваля. Люди пешком идут с другого конца света, чтобы послушать истории про трехногих пришельцев, покупают билеты за год. Озабоченный Мэл в течение многих месяцев, предшествующих конференции в Лидсе, тяжело ходит по мастерской, кряхтит, загибает пальцы, делает пометки на бумажке, считает фунтики и пенсы. Он складывает стоимость билетов до Лидса и обратно, стоимость билета на конференцию, цену ночевки в отеле. Сумма ему ужасно не нравится, он берет другую бумажку, снова пишет цифры в столбик. Как ни крути, получается почти пятьсот фунтов за два дня – далеко не пустяк! Мэл вообще-то скупердяй, и уж если он раскошелился на такие деньги, значит дело стоящее.
В рабочем столе Мэлвина есть специальный ящик, где собраны брошюры и журналы с конференций. Когда Мэл не занят рисованием котов и не кушает сэндвичи, он достает журналы, разглядывает фотографии инопланетян, иногда подзывает нас, показать самые выразительные.
– Гляди, трехногий марсианин! Нет, ты представляешь? Fucking bullshit! Трехногий! Это как, нормально? А вот ихняя тарелка. В диаметре два километра – I tell you!
– Может, врут?
– Ну, ты даешь! Кто врет? Ученые? Читать ты умеешь? Вот, написано: два километра в диаметре. It is crazy! Completely crazy!
– Мало ли что напишут.
– Это у вас в России, Макс. Fucking KGB подделывает документы. А у нас, в Британии, пишут правду. Фотография, видишь? Real monster!! Just look at that! Этого чудика миссис Пипс сфотографировала в Дорсете. It is serious! No jokes! Три метра роста, глаз как фонарь!
И Мэл зачитывает вслух показания миссис Пипс. Дело было так. Ехала она на малолитражке по сельской дороге. И вдруг – бац! Поперек дороги стоит нечто о трех ногах трехметрового роста и всего один глаз. Пипс бросилась к пришельцу, пробовала объясниться, говорила на всех известных ей языках (Пипс преподаватель испанского, а ее муж араб) – но куда там! Марсианин не удостоил Пипс ни единым звуком.
– Слушай, Мэл, а может она светофор сфотографировала? Или указатель дорожных работ?
Меган и Колин шипят на меня, чтобы не смел острить, – они давно обратились в уфологическую веру, сами собираются ехать на конгресс, а Колин грозится выследить марсианина и нарисовать портрет.
В тот день, про который пишу, я пришел в мастерскую и решил, что Колин свою угрозу осуществил. Причем не один раз. Пол нашей комнаты был завален страннейшими рисунками – то были как будто бы детские рисунки по степени наивности представления о мире, но рисовал очевидно взрослый. Казалось, что художник силится изобразить вещь, которую не вмещает его разум, и оттого линии разбегаются во все стороны, а суть изображения остается неясной. Легче всего было бы сказать, что это рисунки безумца, так действительно иногда рисуют обитатели психиатрических лечебниц. Но что-то заставило меня подумать, что рисовал все же вменяемый человек – просто он не мог нарисовать, у него не получалось, он, видимо, просто не понимал, что рисует. Видно было, что человек силится всякий раз изобразить один и тот же предмет – но что это за предмет, так и остается неясным. Поневоле вспомнились трехногие марсиане с одним глазом. Так, вероятно, могла бы миссис Пипс выразить свои чувства от встречи с одноглазым незнакомцем. Рисунков было много, может быть, сто.
Потом я увидел и художника за работой – то была не миссис Пипс, это был знакомый Мэлвина, модный художник Крис, завсегдатай клуба Blacks. Антураж обычный: грязная футболка, татуировка на животе, серьги в обоих ушах, оранжевый клок волос, косяк на губе. Крис был разъярен, пыхтел марихуаной и матерился.
Ругался он как-то чудно, никогда не слышал, чтобы так выражались. Он все время повторял:
– Bloody sheep! Fucking rabbit!
Брань странная, впрочем, и сам Крис – парень непростой. Он автор модных инсталляций: рояль, обмазанный навозом, фонтан из серной кислоты – яркие, радикальные проекты. Неудивительно, что и ругается такой мастер непросто, не как обыватели, а витиевато.
– Проклятая овца! Гребаный кролик!
Перед Крисом (а он расположился за моим столом, и стол Мэлвина занял тоже) лежала огромная стопка бумаги и карандаши. Карандаши он постоянно ломал, проводя слишком яростную линию по бумаге, хватал новый карандаш и бросался в бой. На каждом пальце у Криса – перстень, то с изображением черепа, то фаллоса. Перстни огромные, мешают держать карандаш обычным способом, художнику приходилось сжимать карандаш всей горстью, как рукоять финки, и удары, которые он наносил бумаге, напоминали движения бандитов из гангстерских фильмов. Я склонился над его рисунками, стараясь угадать замысел. Сегодняшние художники тяготеют к абстракции, но то была не абстракция – Крис явно имел в виду некий предмет, но непонятно какой.
Мастер провел несколько новых линий, сломал несколько новых карандашей и бросил очередной лист на пол.
– Bloody sheep! Fucking rabbit!
К нам подошел Мэлвин и объяснил, в чем дело.
Оказалось, что Крису заказали рисунки в детскую книжку. Собственно говоря, это не вполне его профиль – Крис художник многоплановый, но иллюстрациями он никогда не занимался. Инсталляции, перформансы, хэппэнинги – вот его стезя. А старомодное рисование как-то ему не близко. Однако заказ был приятный, гонорар убедительный – и, в конце концов, ну почему бы и нет? Крис взялся за работу – и обнаружил, что не может нарисовать ни овцу, ни кролика.
По условиям контракта, на картинке требовалось поместить кролика, стоящего на задних лапках и беседующего с овцой. Крис примерно представлял себе эту картинку – он, матерясь и клубя марихуаной, показал нам жестами, как ему видится кролик, и что из себя представляет овечка. Но вот изобразить этих животных на бумаге Крис не мог. Задача, что и говорить, не из легких. То есть для свободомыслящего художника это тяжелая задача. Я, правда, знаю сотни две московских поденщиков, которые с ней бы справились, но то люди, отравленные принципами соцреализма, без широких горизонтов, и вполне возможно, что рисование овец – единственное, что умеют эти ретрограды. А спроси вы таких мазил: а можешь ли ты измазать рояль навозом? – они и растеряются. Только овец рисовать и горазды.
Впрочем, именно это неказистое умение сейчас Крису бы и пригодилось. А умения такого не было.
Крис совсем не умел рисовать. Никак. Все эти рисунки, которые я принял за попытку нарисовать марсианина, были изображениями кролика и овцы – только неудачными.
– Bloody sheep! Fucking rabbit! – в который раз Крис швырнул лист на пол, не давался ему образ овцы.
Есть, вообще говоря, совсем простой способ нарисовать овцу и кролика – к нему прибегают дети. Надо нарисовать облачко, а снизу четыре палочки – вот вам и овца. Два шарика и ушки – вот вам и кролик. Именно этот старый добрый метод я и посоветовал Крису. Нарисуй, говорю, облачко. Это, конечно, не ахти какой оригинальный образ – но в мире искусств, где мажут рояль дерьмом, сойдет.
– Облачко? – спросил Крис.
– Ну да, облачко. И четыре палочки.
– И четыре гребаные палочки?
Он высыпал на бумагу две дорожки кокаина, с шумом втянул порошок сначала одной ноздрей, потом другой.
– Облачко, говоришь? Хорошо. Будет вам облачко.
Рука в перстнях ухватила карандаш покрепче. Крис пырнул бумагу раз, другой, третий. Он был сильным, резким человеком, имел свой взгляд на вещи. Он был, что называется, tough guy, а точнее, tough gay, если иметь в виду сексуальную ориентацию. Крис был во многих отношениях выдающейся личностью. Но облачка нарисовать он не мог.
Он бросил очередной лист на пол. Взял новый.
– Послушай, Мэл, – спросил я Мэлвина Петтерсона, который тоже наблюдал за этой борьбой, – а почему Крис работает у нас? Вообще-то у нас и своих дел полно. Нельзя ли его попросить…
– Понимаешь, – застенчиво сказал Мэл, – я очень хочу выставить свои рисунки в Королевской академии. Там Осенний салон. А Крис знает куратора.
– Ну и что?
– Так я же котов умею рисовать. Крис подумал, что я с кроликом ему помогу. А он мне поможет абстракцию сделать. Я пробую, да у меня ничего не выходит.
– Ты бы своих котов в Королевскую академию отнес.
– Are you crazy? Там только радикальное искусство принимают.
– А ты радикального кота нарисуй! И гони этого Криса в шею.
Мэл посмотрел затравлено, достал из укромного уголка стопку рисунков, показал.
Подобно тому, как отличник, пытаясь подружиться с хулиганами-второгодниками, старательно выговаривает непристойные слова и, давясь, пьет невкусную водку, – Мелвин с присущим ему старанием выводил на бумаге бессмысленные каракули. Однако то, что у Криса получалось само собой, естественно, так же легко, как выкуривание косяка, давалось Мэлвину непросто. Это были крайне неубедительные каракули. Мэлвин, привыкший рисовать шерстинки на шкурках котиков, не мог нарисовать неоправданную ничем загогулину.
Я решил дать ему совет, наподобие того, какой я дал Крису в отношении облака с палочками.
– А ты попробуй выпить, Мэл, – сказал я, – налакайся джина и – вперед.
– Пробовал, – сказал Мэл горько. – Все равно не получается.
– Может, мало выпил?
– Когда много выпью, засыпаю.
– Да, проблема!
– I tell you! Real problem! Если бы поймать момент, когда уже сильно пьян, но еще не сплю…
– Другие, наверное, умеют. Они, наверное, специально момент подгадывают. Пьют, пьют, а как чувствуют, что скоро упадут, – сразу к мольберту. Так, наверное, они и делают.
– Sure they do, – печально сказал Мэл. Ему очень хотелось в Королевскую академию, на выставку настоящих художников. Котов рисовать, конечно, приятно, но есть ведь где-то и настоящая художественная жизнь – с открытиями выставок, журналистами, бокалами шампанского. Всякому хочется в такую жизнь попасть.
Мэл отодвинул Криса, подсел к столу и принялся рисовать кролика. Как всегда с ним бывает, когда он рисует зверюшек, Мэл быстро увлекся, он склонился над бумагой очень низко, стал громко сопеть, выводя тончайшие линии. На наших глазах возник очаровательный кролик, ушки торчком, любопытные глазки, задорный хвостик. И овечка получилась знатная – аккуратная такая, завиток к завитку.
Крис свысока наблюдал за процессом рисования зверей. Он презирал таких бескрылых людей, как Мэл. Сам он за это время сумел преобразовать все жалкие потуги Мэла – единым движением руки. Крису достаточно было единого мановения, чтобы в бессмысленных загогулинах Мэла появился некий, как выражаются в некоторых кругах, драйв. Так, вероятно, канонизированные церковью святые умели прикосновением исцелять недужных. Крис брал бумагу, отрывал угол, или проделывал в бумаге дырку, или комкал лист, а потом перечеркивал все крест-накрест. Словом, после его поправок появлялась уверенность в том, что теперь искусствоведам будет что анализировать – пространство для дискурса бесконечное.
Мэл закончил рисовать кролика, Крис завершил свои чудодейственные исправления, художники обменялись продукцией. Крис упаковал кролика с овечкой в папку, вынюхал еще кокаиновую дорожку – на дорожку – и отправился в большой мир, туда, где галеристы ворочают миллионами, где пробки летят в потолок, а большое искусство поднимает большие проблемы. Мэл горько смотрел ему вслед. Одно лишь согревало его сердце – время близилось к ланчу.