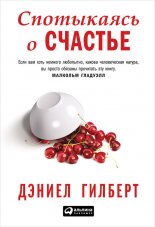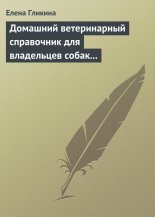Совок и веник (сборник) Кантор Максим

– Я не знаю ни слова по-русски, – сказал Виллис.
– Вы стали настоящим англичанином, – сказал я.
– Не думаю. Я Венецию люблю. Когда-нибудь хочу туда уехать жить.
Больше нам говорить было не о чем. У него дрожали руки и слезились глаза, он показывал мне Мост Реальто, который срисовал с открытки – голубое небо, гондолы. Потом я ушел. А потом случилась вся эта история.
– Знаешь, – сказал мне Мэлвин, чавкая бутербродом, – я часто вспоминаю Виктора. Он был хороший парень. He was a great guy. Не повезло мужику.
– Глупая история, – сказал я, – и все из-за твоей сосиски, Мэл. Пристала к хорошему человеку.
– Нет, Макс, тут виноват сам Виктор. Понимаешь, я уверен, что сосиска польстилась на пейзажи Венеции. Она подумала, раз Виктор ездит в Венецию, значит, он богатый. Зря он рисовал Венецию, вот что я тебе скажу.
– Он любил южные страны.
– Человек должен жить у себя на Родине. Родился в Лондоне – вот и живи в Лондоне. И нечего счастья искать. Дурь одна.
– Ты считаешь?
– Honestly, Max.
– Считаешь, Виктор сам виноват?
– Honestly.
Мэл прикончил очередной сандвич, пошарил вокруг в поисках следующего.
– Наверное, ты прав.
– Конечно, я прав.
Я подумал, что пора ехать в Москву.
Одного достаточно
Над городом
Мы забирались на крышу дома, самого высокого дома во 2-м Обыденском переулке, что на Остоженке, и с крыши смотрели вниз на Москву. Это был самый высокий дом в округе, видно было далеко: купола церквей, высотки, Кремль, заводские трубы окраин. Катя умела разглядеть такое, что я пропускал, она говорила: «видишь вон ту красную тряпочку на подоконнике?» – и я долго высматривал, где же там, на каком таком дальнем подоконнике лежит скомканная красная тряпочка. «Смотри, – говорила она, – какой рыжий кот вон в том окне», и верно, был кот – далеко, в темном окне чужой кухни рыжий кот выглядывал из-за горшка с геранью. В Москве летом солнце печет нещадно, и кровельная жесть делается раскаленной, а потом, когда солнце клонится к закату, кровля остывает, медленно отдает тепло. Летними вечерами темнеет поздно, и мы с Катей сидели на нагретой кровле и разглядывали окна в домах под нами. Снизу поднимался запах жареной картошки, и мы видели женщину в синем платье, стоящую у плиты. В окне напротив, в странной угловой башенке соседнего дома, видимо, обитал художник: старичок в черном берете прохаживался вокруг своего мольберта – а может, нам просто хотелось, чтобы он был художником, и мы принимали вешалку за мольберт. Прямо под нами был еще один уровень крыш – и мальчишки вылезали из окна прямо на крышу и играли над городом в футбол, а воротами служило окно. Мы слышали, как возмущалась их бабушка – но ведь где-то нужно играть детям. За каждым окном жила другая семья – то были дома с коммунальными квартирами, и от окон шел ровный гул голосов, стрекот детских дискантов, звон посуды. Из огромного котла двора поднимался кухонный чад, и мы могли угадать, где что едят. От окна до окна были протянуты веревки, и на них сушилось белье, бесконечные ряды детских рейтуз и синих линялых маек. И – сколько хватало глаз: серые крыши, красные кирпичные трубы, зеленые, еще не вырубленные московские сады. Летел тополиный пух – он разбеливал пейзаж, словно художник добавлял в каждую краску немного белил. И солнечные блики дрожали в каждом окне, и от бликов света все делалось немного нереальным. Город был покрыт белесым маревом жары – и мы говорили, что Господь Бог пролил на наш город большую банку сгущенного молока, и молоко это затекло в сады и окна, в нем плавают московские коты и старички-пенсионеры. Волшебный город плыл в сгущенном молоке лета, и все то, что, предвещало конец и распад города, – его дома с потрескавшейся штукатуркой, обвалившиеся карнизы, кривые водосточные трубы, ветхие заборы, треснутые окна – все это казалось нам свидетельством его вечной жизни. Мы разглядывали трещины в кирпичной кладке и думали, что наш город так же красив как Рим и Венеция. Руины, сказочные руины города, где всякая деталь несет свой рассказ – что же может быть важнее. Это были знаки причастности истории, такие же драгоценные, как зеленая плесень на венецианских палаццо. Город осыпался, как осыпается осенняя чаща, но разве это не величественный миг? Мы опечалились, когда дом напротив неожиданно покрасили желтой краской. Дом словно бы стал чужой, он будто бы поменял судьбу – так и человек, вдруг решающий жить по чужим правилам, меняет внешний вид, и становится неузнаваем для друзей. Однако прошло совсем немного времени, пролились дожди, продули ветра, и новая краска облезла с дома, сызнова проявились привычные трещины в его кладке, вылезли наружу бурые кирпичи, и мы узнали наш любимый дом.
Мы проводили на крыше долгие дни, про это волшебное место знало всего несколько человек в городе, и мы хранили секрет, не делились, с кем попало. Это было наше убежище, наша тайна, наш клад. В ту пору, когда негде было жить, когда даже и мечтать об отдельной квартире не приходилось, эта крыша была нашим домом – и даже больше: стоя на ней, мы чувствовали, что нам принадлежит весь город. Мы говорили друг другу: «идем на крышу?» – и это звучало как приглашение в самое дорогое и самое важное место. Мы входили в самый обыкновенный подъезд, заходили в самый заурядный лифт, нажимали кнопку последнего этажа – никто бы и не догадался, что на последнем этаже есть потайная дверь, как у папы Карло, в его каморке под лестницей. Надо было толкнуть низенькую дверь, обитую листовым железом, за ней пряталась железная винтовая лестница, поворотов в десять. Лестница была сломана, шаталась, оттого приключение делалось опасным. Поднимались по лестнице в темноте, перил не было, держались за руки, чтобы упасть вместе. Последний поворот выводил к новой двери, а за ней – смотровая площадка, в самом красивом месте Москвы, напротив Пушкинского музея и Кремля. Дом со спрятанной крышей стоял в солнечных дворах Метростроевской (так называлась Остоженка), в яблоневых садах (их еще не вырубили тогда), он был немного разрушен, до гюберроберовской притягательной романтической стадии. Богачей тогда в Москве не было, нувориши еще не восстановили домов эпохи «модерн», а строчек Ахматовой про Литейный проспект «еще не опозоренный модерном», мы не знали. А даже если бы узнали – нипочем бы не поняли: простые вещи никогда не понятны сразу. Сегодня этот дом уже не похож на себя – в отремонтированных квартирах живут менеджеры и брокеры, а мальчишки уже не играют в футбол на крыше. И картошкой больше не пахнет из грязного двора, и линялых маек нет на веревке. Наш полуразрушенный дом казался загадочным и красивым: модерну идет тлен, и мы бранили большевиков, запустивших архитектурный памятник: стиль начала века, жирный и пошлый стиль, казался нам вершиной художественного вкуса. Столько странных завитушек, витражи с пчелами (помню, на черной лестнице были витражи с пчелами), кованые решетки балконов, греческий орнамент в вестибюле, зеркала. Мы вовсе не чувствовали безвкусицы – нет, мы были словно в театре, и разглядывали бутафорские шпаги и шляпы с перьями. Москва – как Прага или Берлин – покрыта домами эпохи модерна, и, пока дома были ветхими, в них гудело эхо ушедших эпох, нам казалось, что эти дома несут волшебную тайну истории, кривого закоулка судьбы. Так несостоявшаяся история мерещится нам в прошлом нашей страны или в чертах собственной биографии – но лишь появляется возможность сделать несбывшееся явью, мы узнаем о том, что мираж был лучше реальности.
Мы сидели на нагретой кровле крыше, и Катя рассказывала мне о своей семье, которая потом стала и моей семьей. Она рассказывала о бабушке Сонечке, которая в голодные годы делала детям по праздникам бутерброды с черной икрой – то были специальные бутерброды-домино, икринками она выкладывала тритри, два-четыре, то есть две икринки против четырех, и детям нравилось. Она рассказывала про другую бабушку – Еву, которая сказала чекистам, когда ее пришли арестовывать: «Дозвольте детям ручки поцеловать». И я никогда не забывал этих слов, я представлял себе маленькую женщину, которую уводили чекисты, и то, как она упрашивает их разрешить поцеловать детей. Почему именно ручки? Не знаю, может быть потому, что у детей ручки пахнут свежим хлебом, это мы потом с Катей открыли. Катя научила меня очень многому, а если я что-то плохо усвоил, это лишь моя вина. Мама Кати, и ее тятя с дядей оказались в сталинские годы в интернате для детей-репрессированных, а потом и на лесоповале – но странным образом, в Кате не было ненависти к режиму, она смотрела на жизнь спокойно – тем же взглядом, каким мы с ней разглядывали с крыши далекие окна и яблоневые сады. Где-то жили очень счастливые люди, где-то менее счастливые, но жизнь, когда видишь ее всю сразу, не измеряется этими вспышками счастья и воспалениями несчастья. Есть нечто более важное, только не сразу понимаешь, что именно.
Глядя на крыши, мы думали о том, как нарисовать этот город, его людей, его жизнь.
Начало
Первое, что я услышал, когда захотел рисовать, было: «картины больше нет».
Как это нет? – недоумевал я. Меня данное утверждение потрясло: я-то собирался именно писать картины. А вот так, сказали мне, не будет больше картин – и все. Кончилось время картин. Когда? – спрашивал я растерянно. А вот недавно как раз и кончилось. Так ведь, говорил я, Пикассо, или, допустим, Ван Гог – это же совсем недавно. Нет, – отвечали мне, – то время бесповоротно прошло.
Говорили это люди умственного вида, те, кого на улицах называют интеллигентами. Я помню кумира московской интеллигенции, нервного философа, ну или почти философа – он читал пылкую лекцию в закрытом клубе для инакомыслящих, настаивал на том, что живопись кончилась, картина умерла. Молодые люди с возбужденными лицами аплодировали оратору. А я не понимал, чему они хлопают, чему радуются. Тому ли, что никто из них не будет рисовать как Пикассо и Ван Гог? Или тому, что они даже не хотят попробовать так рисовать?
Скорее всего, они радовались тому, что с них снято бремя возможной ответственности – отныне никто не спросит с художника: а что же он такое создал. Спросят нечто иное: а над чем он посмеялся? То есть, еще проще, отныне как раз важно, что именно художник не создал. Иванов не написал симфонию, Петров не написал роман, а Сидоров не написал картину. Этим данные индивиды и интересны – отказом от созидательной деятельности. Картина, написанная масляными красками, картина с фигурами и жестами – отныне в этом было что-то порочное, занудное, как в пятилетнем плане развития советского хозяйства. То ли дело свободолюбивые новаторы! Неужели, думал я, пресловутые «размышления с кистью в руке», о которых говорил Сезанн, более уже не нужны?
Малевич не нарисовал картину – ведь на месте черного квадрата могли быть «Подсолнухи» Ван Гога или «Ночной дозор» Рембрандта – и это отсутствие картины стало самым значительным художественным жестом столетия. Картины более нет, романа более нет – эти формы искусства безнадежно устарели. И теперь – так, во всяком случае, решила умственная публика во всем цивилизованном мире – данного вида деятельности больше никогда не будет. Совсем-совсем никогда? – допытывался я у старших товарищей, мне было лет четырнадцать. Значительные, сильные личности, авангардисты и прогрессисты отвечали твердо: никогда. Будут смешные поделки: инсталляции, пятна, загогулины, пародии, перформансы – но все это будет как бы понарошку, не всерьез. И взрослые люди, с седыми висками, с печальными глазами, с суровыми лбами – они скакали по сцене, какали в горшочки, натягивали между деревьев веревочки, матерились, шутили. Это было востребовано временем, это было свободолюбиво и новаторски. А картины писать было уже нельзя.
Лишь где-то в глухих провинциях, в среде партийных бонз, в советских унылых вузах может быть и могла еще существовать старая форма искусства – замшелая эта живопись. Там профессора-пенсионеры учили неумных подростков штриховать теневую часть графинчика на натюрморте – но скажите, какому свободолюбивому юноше хотелось в этот кладбищенский институт, в этот паноптикум искусств? Вперед, к дерзаниям – и только так можно было преодолеть проклятый застой и косность коммунистической диктатуры.
Однако мне было трудно расстаться с живописью. Мазок Ван Гога рассказывал мне больше, чем лекция современного властителя умов, в мазке Ван Гога было больше страсти, он был, если угодно, реальнее, чем окружающая реальность. Встречаясь с новаторами, я вспоминал картины Гойи и Ван Гога – и от такого сравнения новаторы мне казались людьми недалекими, и даже пошлыми. В те годы я носил в кармане пальто письма Ван Гога, и все время читал их в метро, то был довольно простой способ сверить показушную реальность и подлинную страсть. В какой-то момент мне даже казалось, что один Ван Гог и может сегодня научить чему-то, все остальное – ненастоящее.
Живопись, которой обучали в институтах, живописью не была – студентов учили приемам так называемого реалистического письма, а приемы эти не существуют вне замысла картины, вот в чем штука. Невозможно научить стрелять из лука, никуда не целясь, – это бессмысленное дело. Живопись – занятие живое, как это и слышно в самом слове, а учили живописи люди не вполне живые, они учили живописи, которая ничего живым образом не описывала. Живопись – так я привык думать – призвана описывать конкретную жизнь, поднимать рассказ о ней до притчи, до символа. Но для начала требовалось рассказать о нашем времени, о том, что нас окружает: о бетонных заборах, пятиэтажных блочных домах, серых драповых пальто. О том, как булькает на плите эмалированный кофейник, как жарят в стеклянной забегаловке утреннюю яичницу. Это была наша реальность, наша природа, ее требовалось написать так же бережно и подробно, как некогда голландцы писали свои придорожные трактиры и песчаные дюны, а итальянцы – свои ведуты. Нашу жизнь пропагандировали чиновники, над ней трунили капиталисты, но про нее реальную мало кто рассказывал, эта конкретная ежедневная жизнь не имела летописца, а значит, пребывала беззащитной перед временем. Все вокруг кричало, требуя воплощения. А студентов художественных вузов заставляли писать натюрморты с расписными чашками, натурщиц в манерных позах. Помню, мы рисовали голую даму, сидевшую на столе, покрытом красной материей, с гитарой в руках. Профессор создал данную постановку, движимый представлениями о пластике – меня же поразила бессмыслица задания. Я спросил: «А что за тема данной картины? Секретарша в райкоме партии?»
Противостояли соцреалистам – новаторы и диссидентствующие авангардисты, люди прогрессивных взглядов и по видимости более образованные, но только по видимости. Я, как и многие, недолюбливал профессоров институтов – они вовсе не представляли, чему учат. С новаторами было веселее – и находиться в их компании было естественнее, особенно в брежневские годы. Мы все были против советской власти, мы все были за свободу, все – против догмы соцреализма. Некоторая неловкость наступала, когда мне показывали произведения современного искусства. Неожиданно я поймал себя на простой мысли: картины в музеях я могу рассматривать долго – картины рассказывают сложную и интересную историю, в которую надо вникнуть, и часто это не удается с первого раза. А произведения современного искусства я не могу разглядывать долго, потому что их содержание очень скупо – хватает на одну шутку, но не на длительную беседу.
Что же получается? Неужели мастодонты живописного реализма мне ближе, чем дерзновенные первопроходцы? Право, меня самого это озадачивало. Как многие в те годы, я читал запрещенную литературу, прятал под подушкой Оруэлла и Солженицына, я был, что называется, свой среди инакомыслящих – но ведь не до конца, вот в чем штука! Когда в умственном обществе я произносил фразу: «Я пишу картины», – на меня смотрели, как на человека, сознавшегося в очень некрасивом или очень смешном поступке. Слова «я занимаюсь живописью» звучали среди прогрессивной молодежи примерно так же как «я хожу в детский сад» или даже еще хуже: «я верю в дело коммунистической партии». И мне тактично старались дать понять, что это дело безнадежно устарело, что это уже «дежа вю», что такие тряпки в этом сезоне не носят. И пропасть между мной и современной культурой увеличивалась. Взрослые, солидные люди занимались серьезными вещами: они хихикали, – а меня тянуло к холстам. Я пьянел от запаха краски, от вида палитры со сверкающими цветами. Я хотел писать картины – картины мира. Я всегда знал, что я их напишу, и картины мне снились.
Живопись – та великая живопись, которую я всегда любил, – была живым и страстным языком, на этом языке лучшие люди человечества кричали, умоляли, каялись, грозили, признавались в любви. Картины Брейгеля, Гойи и Ван Гога говорили со мной громко и страстно, а в окружении поделок современного искусства я попадал в немой и глухой, безъязыкий, пустой мир.
Если спросить любого из деятелей современного искусства, что является целью его деятельности, ответ будет один – свобода! А как же иначе? Именно ради нее, ради манящей свободы и делаются инсталляции, шутятся шутки и ставятся кляксы. Но вполне самостоятельным языком данный вид деятельности не является – словарный запас этого языка крайне беден, синтаксис скуден.
Собственно говоря, современное нам искусство и не создавало своего языка – оно лишь отрицало язык официальной культуры, пародировало его, доводило бессмыслицу официоза до полного абсурда – и тем самым показывало его ничтожество. Через отрицание тотального утверждения отвоевывалось пространство частной свободы – и, коль скоро свобода есть цель искусства, отрицание стало именоваться искусством, несмотря на то, что собственного языка создать не могло. Язык – вообще понятие сугубо положительное, если угодно, понятие сугубо тотальное. Странным образом оказалось, что пародируется не столько соцреализм, но прежде всего опыт живописи в целом, сама эта дисциплина оказалась скомпрометированной в глазах свободолюбивой современности. Словно сама живопись, использованная тоталитарными обществами для агитации, стала воплощением тоталитаризма – и ее директивность отталкивала. Живопись действительно директивна: невозможно быть художником и не уметь рисовать, невозможно мыслить вообще, не имея мысли конкретной. Плохо закрашенный холст останется плохо закрашенным холстом – если рассматривать его с точки зрения искусства живописи; но вот оказалось, что для современных умов этот плохо закрашенный холст может стать состоятельным высказыванием. Требовалось ответить на простой вопрос: не является ли признание неряшливости состоятельным искусством таким же идеологическим трюком, как догмы соцреализма?
Всякая идеология рождает свой инвариант языка, она не создает языка собственного, она является лишь тенью речи. Плохо покрашенный холст – это просто недоговоренная фраза, дряблая линия – это просто косноязычие, но, оправданное идеологией, неумение делается самостоятельным языком.
Так сформировалось особое поле так называемого современного искусства – продукта вторичного по отношению к искусству прежних веков, не существующего вне отрицания предыдущего опыта. Скажем, картина Рембрандта может быть опознана в качестве искусства вне зависимости от того, знаком зритель с творениями Рафаэля или не знаком. Сила этой картины в автономности высказывания, в его утвердительности. Цвет и страсть, мысль и сострадание – они в принципе не могут быть вторичными. А произведение современного искусства не состоится в качестве произведения, если не знать, что оно отрицает опыт Рембрандта (или кого-то еще), и этим лишь интересно. Когда сравниваешь лексику современного искусства с лексикой живописи от Ренессанса до начала двадцатого века – кажется, что сравниваешь богатый язык и скудный диалект. И тогда я подумал: неужели у свободы, принятой как цель развития общества, нет своего языка? Считается, что именно сегодня люди достигли невиданной доселе свободы. Так неужели свобода – безъязыка? Она может лишь забавно шутить и кривляться, но разве кривляние – это речь, достойная свободы? И о какой свободе идет тогда речь?
Неужели свобода выражается в том, чтобы шутить над несвободой? Хорошо ли это в принципе? Кроме всего прочего, я не видел в нашей убогой жизни поводов для смеха, мне не хотелось жизнь вышучивать. Вот есть мои родные, их тяжелые, но прекрасные биографии, их растрескавшиеся от времени, но сколь же величественные лица – посмею ли я шутить над ними? Позволю ли я шутить над дорогой мне судьбой? Не посмеяться над убогостью бытия следовало – но просто рассказать про это бытие; наша жизнь не была карикатурой на некую жизнь высшего порядка – она была обыкновенной жизнью, небогатой, но нормальной; эта жизнь заслуживала не насмешки, но внимания и любви: ведь миллионы достойных прекрасных людей прожили так свои дни. Разве следует считать их жизнь ошибкой? Вот так они любили, так болели, так грелись у радиаторов, так варили желудевый кофе; это была не шибко красивая жизнь, но ценность жизни не в ее глянце. Нельзя смеяться над людьми, потому что у них кофейник эмалированный, а не никелированный, нельзя объявить их жизнь несовершенной на том основании, что они живут в блочных пятиэтажках. А это именно тот критерий, с которым подошел так называемый «соцарт» к советской жизни. Вышучивали все – не лозунги лишь, но самый менталитет обитателей советских пустырей. Желая понравиться парижским рантье и мюнхенским спекулянтам (или разделяя их представления о прекрасном), художники рассказывали о том, как смешны их бабушки на коммунальных кухнях, как комичны их некачественные колготки. Казалось бы: дурные колготки, паршивые кухни – ну и что с того? Вот голландцы, например, сумели написать обитателей ветреных дюн достойными людьми, не уступающими в красоте венецианцам, хоть Северное море и холодней Адриатики. Способ создания подлинного искусства на удивление прост: следует рассказывать о своей жизни с любовью, естественным образом, своим собственным языком – и только, этого достаточно. Тогда возникают уникальные образы, написанные так, как не сможет никто другой, – потому что любовь уникальна.
Полноценная жизнь выражает себя прежде всего в самостоятельном, не зависящем от мнения чужих авторитетов языке. Это должна быть прямая речь, фраза без кавычек. Классицизм и барокко, они создали свою эстетику, свой язык. Свой, первичный, язык был создан в эпоху Возрождения. Своя эстетика, несомненно, была у революции начала века – это Брехт, Маяковский и Пикассо, а какая эстетка, какой язык у свободы сегодня? Свобода должна говорить серьезно – хотя бы потому, что цель у нее нешуточная: отвоевать для каждого пространство счастья и достоинства.
Этот вопрос стал болезненным после показательной победы над тоталитаризмом прошлого века: какой именно язык выразит освобожденную от догмы личность? Неужели декоративные украшения богатых интерьеров – и есть эстетика современной свободы? Неужели насмешка над прошлым есть цель свободного настоящего? И может ли именоваться свободным такое общество, которое декорацию и кривлянье приравнивает к свободному высказыванию?
Возможно ли создать сегодня произведение первичное по отношению к нашей реальности, не опосредованное отрицанием тотального, не опосредованное иронией и рефлексией? Ведь вторичной свободы не бывает по определению. Свобода – это прямая речь, без кавычек.
Я художник – и писатель, причем одна профессия вытекает из другой, они существуют не параллельно, но являются одним целым. Я пишу большие романы и рисую большие картины, причем картины складываются в книгу, каждая из картин – это глава в повествовании. Так я пишу историю моей страны, нашего общества. Таким образом, я надеюсь создать новую эстетику и восстановить прерванную традицию.
Помимо прочего, я не смог бы перестать рисовать и писать, потому что этому меня научил мой отец, и мой долг перед ним неотменим.
Искусство сопротивления
Очень долго я думал, что главное в жизни, это умение сопротивляться окружающей среде. Вы так – а я наоборот, и это был основной принцип, он казался мне исключительно важным. В школьные годы мы выпускали газету «Красный лапоть», потом газету с белогвардейским названием «Наше слово», а потом журнал «Голос». Мы это – я и Андрей Добрынин, мой ближайший друг школьных лет, какое-то время мы даже сидели за одной партой. Школьное прозвище Бункер пристало к Добрынину навсегда, во всяком случае, я его иначе никогда не называл. Мы с Бункером выпустили больше сотни газет – некоторые сохранились.
Сейчас вышел трехтомник сочинений Бункера, а в ту пору Бункер писал в школьных тетрадках свои язвительные стихи, и швейковский юмор советской эпохи предвосхищал соцарт, появившийся несколькими годами позже.
Настал момент, когда соцарт и тот особый стиль речи и мышления, который он воплощал, сделался метаязыком российской интеллигенции. В поздние восьмидесятые этот стиль стал повсеместным – видимо так, такой долгой отрыжкой, прощалось коллективное сознание с фразеологией утопии. Наши отцы и деды говорили пылко и высокопарно, а мы стали говорить с усталым цинизмом. Очень быстро критерием ума стала насмешка – и любой интеллектуал, для того, чтобы его принимали всерьез, должен был обучиться острить. Это напоминало парижские салоны времен Марии Антуанетты, в которых серьезная речь не поощрялась. Подобно французским щеголям, советские интеллигенты говорили кокетливо и едко, избегали прямой речи, страшились показаться серьезными. Странно было наблюдать немолодых людей, читающих со сцены абракадабру, рисующих неумелые карикатуры. В школьных газетах это смотрелось бы, возможно, и неплохо, но даже когда мы, мальчишки, дурачились в школьные годы, то не забывали, что существуют темы, где шутка неуместна.
Точнее сказать, существуют темы, которые невозможно освоить только шуткой. Например, смерть или война. Мы были маленькими – и такие темы приходили нам на ум не часто, но присутствие большой истории, ее тяжелое дыхание, ощущали даже мы. Противопоставление культуры высокой, официальной (культуры университетов, монастырей, двора) и культуры низкой (культуры площадей, которую Бахтин именовал карнавальной), было явлено нам в юности на примере противостояния официальной советской культуры – и ернической, фольклорной. Соцарт утверждал, что официальная советская культура заведомо дурна и пошла – однако заменить ее соцарт оказался не в силах, он служил кривым зеркалом эпохи, и только. Существовал ряд тем, на которые протестная культура просто не умела отреагировать, не обладая соответствующей лексики для описания явления. Невозможно было обсудить ни тему большой войны, ни тему большой политики, ни тему мигрантов и беженцев, ни тему мировой экономики. Одним словом, вышло так, что протестная культура все по-настоящему серьезные темы оставила в ведении советской лексики – а вышучивала лишь частности. Когда сегодняшние волнодумцы возмущаются тем фактом, что у власти в демократической стране остались партийцы и бывшие чекисты, им можно возразить просто: но ведь именно партийцами и чекистам приходилось много лет подряд решать государственные и исторические вопросы, никто больше ими заниматься и не хотел. Можно было позволить себе написать на заборе, что Ленин – дурак, это смотрелось, как мужественное суждение, но написать на том же заборе, что дураком является также и Черчилль, никто не отважился. Такого огульного суждения, вероятно, не одобрил бы западный зритель, а его одобрения заслужить (пусть интуитивно) всем хотелось. Насмешка над советской властью конвертировалась в успех довольно бойко – и тут же становилась гражданской, исторической позицией. И здесь содержался определенный парадокс, который я почувствовал тогда. Над большевиками мне очень хотелось посмеяться – но будет ли такая насмешка точной гражданской позицией? Избирательная смелость в отношении вопросов истории – вещь негодная. В отсутствии суждения по вопросам общей истории, насмешливый комментарий к истории Советской смотрелся неубедительно.
Прививка от соцарта была произведена дома (у нас в семье не принято было кривляться), но стиль этот, привлекательный и липкий, в конце концов, стал общим языком московской интеллигенции. Избежать этого стиля общения с некоторых пор было уже невозможно – не имея вкуса к открытому сопротивлению, интеллигенты стали вышучивать абсурдность бытия, и любая фраза отныне стала до известной степени шутливой, сказанной не всерьез, а так – уколоть пространство.
Талант Бункера именно этого свойства – он замечал несуразности жизни, это специальное чувство смешного однажды привело его в компанию молодых, вечно острящих поэтов, которые называли себя «Куртуазные маньеристы». То было запоздалое издание «Обериутов», впрочем, как и многие объединения тех лет, дублировавшие группы двадцатых-тридцатых годов. В России тех лет появлялись кружки и кружочки, члены которых считали себя гениями, понимали друг друга с полуслова, а сказать целое слово не собирались совсем. Значение серьезного слова было сведено к нулю – тот, кто пробовал говорить серьезно, слушателей не находил. Так – отрыжкой, блевотиной – выходила из общества серьезность советского быта. Вы что, за общественную мораль? Ха-ха-ха! За равенство трудящихся? Ха-ха-ха! Серьезность намерений социализма – вот что подвергалось насмешке в первую очередь. И люди, нимало не задумываясь над тем, что говорят глупость, бросали коммунистам упрек в том, что коммунисты собираются построить общество равных, братский союз республик. Дальнейшие события показали, что общество легитимного неравенства даже не надо пытаться строить, такое общество возникает само – от сырости и дури; но тогда, в те блаженно-снулые годы, не было ничего более остроумного, нежели указать на абсурдную серьезность коммунистической утопии. Сегодня ошибочно полагают, что советская интеллигенция протестовала против социализма, поминают пресловутые беседы на оппозиционных кухнях. Но нет, ничего подобного никогда не было! Серьезные оппозиционеры, те, которым было что сказать (Солженицын или Зиновьев) были одиночками, и лишь шутников было избыточно много – почувствовать себя свободным человек мог, только если кривлялся. Это скоморошечья эстетика в те годы находила подтверждение в популярной книге Михаила Бахтина о Рабле. Интеллигенты зачитывали до дыр эту книгу (помню ее желтый матерчатый переплет), а бахтинские положения о «народно-смеховой культуре», о «карнавале» стали индульгенцией для бесконечных капустников на подмосковных дачах, игр в буриме и концептуального искусства. Деятели искусства восприняли бахтинский рецепт буквально и стали именовать себя и свой круг «карнавальной культурой». Имелась в виду простейшая препозиция: советская власть сильна, сделать с ней мы ничего не можем, а главное и не знаем, что именно делать, так закроемся же в нашей благостной компании, отгородимся от серьезного орвелловского мира и будем кривляться. Разве не этому нас учат Бахтин и Рабле? И никто – решительно никто! – не вспомнил, что наряду с так называемой «карнавальной» культурой, во времена средневековья существовал Данте. Да и сам Рабле (использовавший смеховую культуру как мясо и плоть своей мистерии) написал книгу исполненную серьезного высокого пафоса. Но видеть это тогда не могли, да и не хотели. Никто не читал толстовской книги «Воскресение», из которой можно сделать горькие социалистические выводы, но решительно все читали балаганные страницы Булгакова, из которой вытекало, что весь социализм – есть недоразумение, и относиться к нему можно лишь как к абсурду, и смеялись, с неувядающим хохотом на устах обращались к истории нашей страны. Хармс и Олейников стали популярнее, нежели Чехов или Маяковский, а если кто-то произносил вслух фамилию Чернышевского, то хорошим тоном считалось фыркнуть в кулак. Вплоть до сегодняшнего дня мы вышучиваем Советскую власть и коммунизм, в то время, когда возникли иные проблемы и иные драмы. Но началось это кривлянье крайне давно – еще в ту пору, когда на кухнях, под строгим секретом, с обязательным присловьем «чтобы никому ни слова!» передавали про то, что арестован Марченко, что Сахаров объявил голодовку – и немедленно в знак протеста исполняли матерную частушку. Тогда, когда рядом с нами действительно существовали диссиденты, и действительно проходила чья-то жизнь полная опасностей и лишений, и однако именно в это время появилось направление в искусстве, которое исключало всякую серьезность. И особенно исключало всякую серьезность сострадания чужой беде, соучастия в сопротивлении. О любом событии следовало говорить с таким особенным вывертом, с таким просвещенным цинизмом – что весь талант художника тратился на то, чтобы выработать интонацию в общем хоре скоморохов. В пост-советские годы было много забавных шутовских объединений: ничем, в сущности, не отличаясь от соседнего объединения, молодые люди спешили обозначить себя как отдельную группу с программой. Собранные вместе, в одной комнате, молодые люди производили впечатление цветения, так скромные полевые цветы, оказавшись в букете, вдруг приобретают яркость. Возможно, скромные цветы инстинктивно тянулись в букеты – а может быть, обычный российский коллективизм собирал протестантов в колонны и кружки. Помимо прочего, эти объединения воспроизводили этику поведения советского коллектива – и с той же партийной рьяностью, что требовалась на пионерской линейке, участники очередной свободолюбивой группировки принимались гуртом вышучивать мертвую и неопасную советскую власть.
Бункер оказался в развеселой компании вольнодумцев, дивной компании, которая писала куртуазно-ернические стихи, он влип в эту компанию, как в клей – и провел в клею долгие годы.
Первым из группы догадался выйти самый талантливый – Дима Быков (тогда еще тощий, как щепа, во что трудно поверить). Покидать группу в России всегда опасно, сколь бы смехотворной группа не была. Выйти из КПСС или комсомола страшновато, но выйти из группы концептуалистов (метаметафористов, маньеристов, колумнистов, и пр.) увы, почти столь же опасно. Всякий раз, когда я порывал с очередной группой (говорил, что концептуалисты занимаются ерундой, или выражал несогласие с демократическими фундаменталистами), я знал, что нарушаю более серьезное табу, нежели при выходе из комсомола. Из комсомола я вышел легко, написав в райкоме комсомола заявление «прошу исключить меня из рядов ВЛКСМ по причине природной склонности к одиночеству», но демонстрация инакости по отношению к либерально-литературно-художественной группировке так легко с рук не сойдет. «Единая Россия» или НСДАП вольнодумца, возможно, и простит, а, скорее всего, просто забудет о его существовании, но маленькая группа салонных единомышленников – не простит отщепенца никогда. Главное, что нарушает отщепенец, покидая свой кружок, это ощущение нравственного комфорта у согруппников – а именно за нравственный комфорт мы все и боролись, свергая Советскую власть. Кому-то могло показаться, что боролись за социальную справедливость, за униженных и оскорбленных, за абстрактную правду, наконец. Это не так. Боролись, как выяснилось за комфортность убеждений – и вот этого, достигнутого в боях комфорта, легко не отдадут, и под вопрос не поставят.
Диме Быкову, кажется, было двадцать, когда мы познакомились, и он уже тогда был напористо серьезен – и не усидел в остряках. Помню, что мы с Катей передали ему ключи от нашей старой квартиры, откуда перезжали в другую. Квартира оставалась пустой – в аварийном доме на улице Чайковского, в знаменитом гинзбурговском «корабле». Полагаю, никакие «куртуазные маньеристы» и «мухоморы» не могли бы создать столь величественных декораций распада утопии: рушился дом великого конструктивиста Гинзбурга, в этом доме именно доме работал анти-конструктивист Быков.
Что касается Бункера, то он засиделся в «куртуазных маньеристах» из воспитанности, так из вежливости стесняются уйти из скучных гостей. Бункер всегда был ответственным – даже в нарушении общественных норм, ответственно он подходил и к своим ерным «обериутским» стихам. Бункер уже был автором поразительных по серьезности стихов (с какими он и останется в литературе, полагаю), но слишком долго играл в соцарт. Сегодня я думаю, что так произошло именно потому, что некогда мы с ним засиживались после уроков в школьном коридоре, рисуя карикатуры на советских чиновников и сочиняя анти-пионерские вирши.
Все эти школьные стенгазеты («Красный лапоть», etc) однажды оказались у завуча школы, сумасшедшей дамы с истерическим сочетанием имени и фамилии – завуча звали Искра Лизогубова. Неуравновешенная, страстная, беспощадная Искра устраивала публичные суды над учениками – помню, меня судили всем классом за непочтительное сочинение по поводу «Молодой гвардии». Искра Лизогубова передала наши газеты по инстанции, после чего нас забрали в милицию. Мне было четырнадцать лет, и я очень хорошо помню, как неприятно было сидеть в коляске милицейского мотоцикла. Милиционер укрыл меня кожаным пологом, пристегнул полог так, чтобы на меня не дуло – я запомнил его усатое лицо, думаю, это был добрый человек. Меня доставили в милицию – а ночью, в 50-м отделении милиции, я написал Балладу арестанта, подражая Уайльду:
- Меня еще никто не бил,
- Ни слова мне в укор,
- Лишь только револьвер давил
- Мне ребра с двух сторон,
и т. д. Главным было то, что я попадал в желанный отряд диссидентов, становился в ряд взрослых. То было детское желание оказаться на баррикадах, говорить громко и серьезно, – хотя, спроси меня кто в те годы, с чем я собирался бороться, я бы внятно объяснить не сумел. Но колесо уже завертелось, и я был горд тем, что оно вертится.
Диссиденты
В то время как мальчики клеили на стены школьные стенгазеты, выходили подпольные книги «самиздата», иностранные корреспонденты привозили издания YMKA press, из рук в руки передавали «Хронику текущих событий», журнал «Континент». Существовало диссидентское движение, и мы о нем знали. Мы шутили и рисовали карикатуры – а кто-то занимался серьезным делом, этих смелых людей арестовывали, ссылали в Сибирь, сажали в тюрьмы. Андропов еще не пришел к власти, и гениальная тактика – высылать инакомыслящих на Запад – еще не использовалась, и все смельчаки покамест были неподалеку, многие жили в нашем городе. Столичная жизнь так устроена, что, несмотря на гонения, диссиденты оставались частью общества, они даже были специальным культурным феноменом, притягательные как военные, загадочные как киноактеры. У них была своя особая манера поведения, своя особая речь, особый стиль общения. Кое-кого я успел узнать, и мерил свою жизнь и поступки по ним – точно так же, как мальчишки 30х годов мерили свою жизнь по комиссарам в кожанках. Мы старались копировать поведение гонимых, их правила поведения становились нашей этикой. Мы произносили слова «репрессии» и «лагеря» без особого страха, но взволнованно – так мальчишки поколения моего отца говорили слова «Гвадалахара» и «интербригады». В наше время самыми романтическими героями были диссиденты, и некоторые из них были друзьями нашего дома.
В нашей семье отношения были построены так, что все поколения жили вместе, и друзья были общими. С детства я сидел за столом с большими, и отец брал меня с собой в гости, я был включен в серьезные разговоры. И когда мои друзья приходили ко мне, мой отец с ними беседовал. Сначала я стеснялся этого, как всегда стесняются дети родителей. Но потом стал гордиться тем, что мой папа сидит с нами. Он расспрашивал моих друзей об их планах и – странное дело! – они подчас рассказывали моему отцу больше чем мне. И еще одна странность была в этих разговорах моих друзей с моим папой: отвечая отцу, мои друзья всегда хотели сказать о чем-то важном, признаться же в отсутствии больших планов не решился никто.
Однажды папа упрекнул меня в том, что я поздно пришел домой, он вообще беспокоился, если я задерживался. А я сказал, что допоздна гулял по городу с друзьями – беседовал! В моем ответе был вызов: я, мол, дискутирую с единомышленниками, мы обсуждаем проблемы жизни, мы спорим о насущных вопросах – а вот ты просто сидишь за письменным столом! Мол, что мне семья, если я занят проблемами общества!
Отец услышал в моем голосе вызов и ответил так: «В твоем возрасте я тоже гулял по городу с друзьями. Как и вы сегодня, мы ходили до утра по ночной Москве – с Сашей Зиновьевым, Гришей Чухраем, Мерабом Мамардашвили, Юрой Левадой. Мы спорили о будущем, хотели изменить нашу жизнь. В нашей институтской компании мы обсуждали рецепты и возможности строительства справедливого общества. Мы спорили о том, насколько культура общества детерминирует социальное строительство. Мы спорили о возможности социализма: воплощена ли идея в нашей советской реальности – или же нет. Мы сомневались в том, можно ли использовать программу Маркса, придуманную исключительно для социума Западного мира, – в культурной традиции восточных деспотий. Мы искали точку приложения усилий. Я пошел после армии на философский факультет именно потому, что считал: нашу жизнь можно изменить только, если обладать знаниями основ, пониманием категорий бытия. И мы строили грандиозные планы, гуляя по Москве. Ты скажешь, что мы ничего не реализовали. Да, верно, в этом трагедия нашего поколения. Но многое реализовалось в личных судьбах. А о чем сегодня говорите вы? У вас есть планы? У вас есть программа? Какая?». И я не нашелся, что ответить.
Мои сверстники хотели бунта, но непонятно какого и во имя чего, мы хотели настоящего искусства, а как это артикулировать – не понимали. И самое обидное, наши протесты подкреплялись оглушительным невежеством. Помню, я спросил у модного арт-критика, каковы его убеждения, и критик ответил пылко: «Плюрализм!». Убеждений, собственно, не было – было яркое желание иметь некие убеждения, но таковых не появлялось по простой причине: убеждения появляются лишь от знаний, а в отсутствие знаний место убеждений занимает идеология.
Знаний не было совсем. Однажды на большом институтском собрании моя однокурсница крикнула: «Доколе не будут печатать Гегеля и Декарта, Платона и Аристотеля? Почему нас пичкают марксизмом-ленинизмом и не издают подлинной философии?» Аудитория взорвалась криками: «Доколе! Даешь Декарта!» Преподаватель научного коммунизма опешил. Дело в том, что все упомянутые мыслители были давно опубликованы и в количестве экземпляров, неведомом западным книготорговцам.
Другое дело, что этих книг никто не читал, и они были никому не нужны. В Москве Мамардашвили читал лекции о Прусте и Декарте, отец писал свою монументальную работу о проектной типологии истории – но все это, казалось, не имело отношения к борьбе за демократию. Молодые люди боролись – но не утруждали себя чтением, творили нечто интеллектуальное – но знаниями обременять себя не пытались. Не столь давно бойкий журналист (Калужский, кажется, или Казанский) предложил мне «поговорить о культуре в терминах Платона», нисколько не подозревая, что во времена Платона термина «культура» не существовало вовсе. И это типично для современной свободолюбивой журналистики.
Так ткалась протестная культура, амбициозная, велеречивая и пустоватая.
Из моих собеседников тех лет я больше всего помню людей поколения отца: Зиновьева, Ракитова, Леваду – а бурные беседы с молодыми людьми стерлись в памяти.
Мне повезло – и многих из отцовской компании я знал, а с некоторыми даже близко подружился, когда повзрослел, и детское знакомство перешло в дружбу. В нашей квартире на Красностуденческом проезде долго жил поэт Коржавин (в миру его звали Эммануил Мандель, я запомнил его как дядю Эму), приходили – когда мы уже переехали на 3-ий Михалковский проезд, в темную квартирку на первом этаже – Александр Александрович Зиновьев и Мераб (так, по имени, Мераба Константиновича фамильярно называли многие в те годы). Главным же было то, что эти опальные и опасные разговоры, чтение альманахов «Грани» и сборников «Изпод глыб», заставляло думать об искусстве – как об инструменте, как о средстве высказывания. Следовало сделать нечто такое, чтобы сравняться с теми, кто вышел на баррикады.
Сегодня мне кажется, что брежневское время можно сравнить с временем Екатерины – подобные сравнения грешат неточностями, но некоторые основания все же есть: то было время карательных мер в отношении восстаний (Пражской весну подавили – как при Екатерине Польское восстание и Пугачевский бунт), небольших аннексий (афганская или турецкие войны), но в целом это было тихое время, давшее возможность подморозить ценности, сохранить идеалы нетронутыми. Звучит кощунственно в свете разоблачений коммунизма – но, парадоксальным образом именно в социалистической России выжило романтическое отношение к искусству как к поступку. Именно проклятое серое брежневское время стало питательной средой для русского искусства – холодная война дала возможность диссидентскому движению и свободолюбивой морали долго сохраняться свежими, не портиться. А стоило миру оттаять – и мир протух.
Холодная война пригодилась для эстетических доктрин ХХ века, как морозильная камера для хранения сырых продуктов. Мы дожили до циничных времен финансового капитализма и постмодерна, не растратив энтузиазма революционных и военных лет – и все благодаря холодной войне. Когда на московской сцене 80-х годов появились «шестидесятники» (люди, которым в шестидесятые годы было по сорок лет), они производили впечатление размороженных героев кинокомедии. Так, застывший в глыбе льда, герой является миру спустя века – и не понимает, как устроен трамвай и кинематограф. В просвещенных странах некоторое время еще сохранялся запал Сопротивления: слова «совесть», честь», «правда» – выдержали заморозку и были предъявлены обывателю свеженькими.
Однако обыватель увидел относительность этих прекраснодушных понятий.
Свергать диктаторов хорошо, используя слова «честь» и «правда», но практическое использование чести и правды в экономике не налажено, это вам не газ с нефтью. Рынку искусств эти понятия были без надобности. Шестидесятников быстро согнали со сцены деловые люди, которые тоже называли себя оппозиционерами бывшему режиму.
И они впрямь были оппозиционерами: противопоставляли финансовый капитализм – промышленному развитию, рыночную экономику – плановой, индивидуализм – коллективизму. В какой степени эта оппозиция родственна той, которую представляла интеллигенция, вооруженная свободолюбивой риторикой, непонятно. И утешали себя: в сущности, так и должно быть – мы завоевали свободу, а свобода, она для всех, и для этих людей тоже.
Прошло еще совсем немного времени, и страной стали править офицеры госбезопасности, получившие мандат на власть от тех богачей, которых привела оппозиция. И случилось так, что именно диссиденты и их ученики привели на трон новую власть – но кто мог догадаться об этом в брежневские годы? Те, диссиденты-шестидесятники, отважные люди, рисковавшие свободой, остаются образцом и романтической легендой – как и комиссары 20-х годов.
Искусство их стремительно утратило актуальность и превратилось в антиквариат.
Читать и смотреть
Я вырос среди книг, в большой семейной библиотеке. Огромные книжные шкафы (казались высокими, как горы, и столь же неприступными) занимали все пространство комнат. Книги собирало три поколения – литература была преимущественно философская и историческая, оттого недоступная ребенку в принципе. Я забирался на стремянку, под верхние полки, открывал книги, которые, казалось, содержали в себе ответ на все вопросы, специальные, взрослые книги – и приходил в трепет. Однажды я прочту это, и буду знать ответ. Книги были везде: на полках, на столах, на стульях, на полу стояли стопки книг, не поместившихся в шкафах, – отец оставлял книги там, где их читал, а читал он постоянно. Заложенные карандашами, спичками, с подвернутой страницей, они были все сплошь исчерканы его пометками. Книги создавали своего рода среду обитания; видимо, именно так Борхес представлял себе рай, однажды он описал рай как бесконечную библиотеку.
Недавно я нашел письмо отца, написанное им в сорок первом году из армии своему отцу, то есть моему деду. Отец писал, что хотел бы прочесть все книги, написанные на свете, – это наивное желание не показалось мне смешным, но напротив, совершенно естественным. Если мой отец почти что добился цели – он многое знал и понимал, наверное, все, – то для меня цель была бесконечно далека. Впрочем, я научился получать энергию даже от тех книг, которые не сумел еще прочесть. Мне кажется, огромное значение имеет библиотека – то, как она живет в доме, какое место занимает в быту. Глядя на корешки книг с именами авторов, я представляю авторов живыми, и говорю с ними, даже не открывая книг. Я не призываю к невежеству, не оправдываю тех, кто ленится читать, – я говорю сейчас о другом.
Я думаю (и настаиваю на этом предположении), что книга (как и картина) излучает определенную энергию, излучает ее спонтанно и постоянно – вне зависимости от того, обращаются к данной книге или нет. Конечно, в руках подлинного знатока она отдаст свою энергию без остатка, но даже когда она стоит на полке всеми забытая, она продолжает излучать тепло. Мысль и страсть великого человека, однажды спрятанная под корешком, оказывает энергетическое воздействие на окружающее. Аура книг столь же сильна, как аура картин – искусство проникает в человека помимо его воли, вопреки его желанию. Мы смотрим на корешки книг на полке, и – даже если не читали этих книг – мы уже напитываемся их прекрасным волнующим духом. Разве возможно удержать дух Шекспира под обложкой, неужели не понятно, что дух выходит за пределы картонного переплета, на то он и дух. Мы часто видим в музеях экскурсии равнодушных к живописи людей, они проносятся по залам, будто бы не замечая искусства, – однако эти люди пришли в музей не напрасно: они напитываются энергией картин, они вдыхают воздух картин, пьют аромат картин. Искусство действует, как океан – можно дышать морем, стоя у берега, для того чтобы жить морем, совсем не обязательно непременно быть моряком. Я люблю шататься по музеям – не глядя на картины, но вдыхая их воздух. Это лечебный воздух, как и воздух библиотек, как воздух Атлантики.
Это один из важнейших компонентов искусства: аура, которую образует картина или книга. В присутствии картины Ван Гога нельзя – по крайней мере, трудно – совершить дурной поступок. И объясняется это весьма просто: Ван Гог вложил столько бескорыстной любви и сострадания к людям в свои картины, что его холсты стали излучать любовь, эта любовь продолжает существовать и распространяется по комнате, в которой картина висит. В этом факте даже нет ничего сверхъестественного: полагаю, это обычный физический закон, закон сохранения энергии. Вообще, энергия, истраченная на рисование, никуда не исчезает, даже если, по выражению Ван Гога, «пот в картине спрятан». Энергия любви – то единственное, что не поддается повторению, то, что невозможно имитировать. Приемы письма можно перенять, но подлинную страсть взять напрокат невозможно. Морис Вламинк, исправно подражавший Ван Гогу, не написал ни единой картины, излучающей любовь, хотя приводил себя в возбужденное состояние и писал размашисто и страстно. Это ведь в принципе невозможно: как может художник-коллаборационист (Вламинк принял режим Петена, ездил в Берлин на поклон к Геббельсу) сделаться продолжателем традиции того, кто ни разу не кривил душой? В картине все видно, мазок ничего не прячет – можно лукавить в мемуарах, хвастать в газете, петушиться перед кинокамерами, но, как говаривал Сезанн, «когда-нибудь все расскажут сами картины». И если картина настоящая, она сможет сказать многое. В Брюсселе, когда принималось решение о бомбардировке Сербии, собранию пришлось задрапировать картину Пикассо «Герника» – в зале висела авторская копия. Вблизи этой картины подобные решения принимать было стыдно. И напротив, существуют произведения, не обладающие столь выраженным дидактическим эффектом – более того, есть произведения, учащие если не дурному, то безразличному отношению к людям. В сущности, все монументальное искусство – начиная от Вавилона и кончая демократическими империями сегодняшнего дня – демонстрирует нам такое величественное равнодушие к человеку, обучает этому равнодушию толпу. Языческий знак (то есть, именно тот принцип, который взял за основу авангард) воздействовал на толпу как безличная беспощадная сила, тем знак и привлекателен для тотальных режимов. Потребовалось героическое усилие христианской эстетики, эстетики Возрождения, чтобы энергия, которую мастер отдает картине, изменила свой заряд на гуманистический. И если внимательно смотреть на картины Возрождения, на картины Рембрандта и Ван Гога, они могут этому научить.
Мои отец и брат, моя семья и те прекрасные люди, которых посчастливилось знать, учили меня смотреть и читать. Многие книги я помню с голоса дорогих мне людей: «Песнь о Роланде» старший брат прочел мне в трамвае, когда вез в детский сад, а диалог «Горгий» Платона отец прочел мне, сидя на поваленном дереве в Тимирязевском парке.
Было уже поздно, мы долго сидели в парке, сгустился сумрак, а отец неторопливо читал, проговаривал всякую фразу медленно, чтобы я понял, и когда он дочитал до последней фразы, было уже совсем темно. Я помню, он сказал мне: «По-моему, мы побывали на небесах». И потом мы долго возвращались по темному парку домой, и папа мне рассказывал о Платоновской академии, и я думал, что мы с ним, и нашим Владимиром, моим старшим братом – и есть та новая Платоновская академия, которая вернет всему свету утраченный смысл, даст заново названия вещам.
Отец часто читал нам вслух – мне и моему брату. Чаще всего – стихи Маяковского, он знал всего Маяковского наизусть. В те годы это было не особенно модно – в интеллигентных кругах чтили Ахматову, любить Маяковского было неловко. А отец – любил, и читал его стихи громко. Однажды, когда он читал стихи при Лиле Брик, та сказала ему «Лучше вас читал эти стихи только сам Володя (то есть сам поэт Маяковский. – М. К.)». Отец очень гордился этой оценкой, впрочем, вполне соответствующей действительности, полагаю я. Он так удивительно читал, что захватывало дух, слушая его, я не мог усидеть на месте, начинал ходить по комнате. «Этот день воспевать никого не наймем, мы распнем карандаш на листе!» – так именно мне и хотелось рисовать, чтобы бумага звенела от напряжения. Влияние Маяковского было огромным в нашей семье – тетя Лиля, жившая в Аргентине, переводила его стихи на испанский, а отец строил свою эстетику, исходя из принципов Маяковского. Да и сам наш быт был устроен по правилам Маяковского – ничего лишнего: книга, стол, стул, чашка чаю. Что еще человеку нужно?
В честь Владимира Маяковского был назван Владимиром мой старший брат – и, называя его по имени, я всегда чувствовал, что произношу магическое слово.
Старший брат составлял список литературы, которую я должен прочесть, приносил редкие книги – через него (а потом через Андрея Цедрика, потом через Владимира Кормера) в наш дом стала попадать так называемая «запрещенная литература» – «самиздат» и «YMCA-press», «Посев», книги Оруэлла, Солженицына, Замятина. Брат знал литературу как никто другой, – он помнил все прочитанное, и все мог объяснить. Очень часто запрещенную книгу нам давали всего на одну ночь (было такое правило в Москве тех лет, задерживать книгу дольше считалось неприличным и небезопасным) – и мы с братом передавали друг другу машинописные страницы: так был прочитан «Август четырнадцатого», так мы читали «Доктора Живаго». Отчетливо помню продавленный, с торчащими пружинами диван; полутемную комнату – почему-то настольной лампы не было. Помню нас, сидящих в разных углах дивана; пачку машинописных листков между нами. Владимир, когда читал, нагибал голову, его огромный крутой лоб я потом рисовал на картинах: он читал столь устремлено, что со стороны можно было подумать, что он выполняет нужную, тяжелую работу. Так он, в сущности, и относился к своим книжным занятием – с упорной, упрямой серьезностью. Своим знанием литературы я обязан именно брату, и то, что я знаю и помню – составляет малую толику того, что знает и помнит он. Сам Владимир – автор прекрасных книг о судьбе русской культуры: он научил меня читать и понимать Чернышевского, Соловьева, Ключевского. Он же написал пронзительные повести о нашем времени – «Два дома», «Крепость», «Я другой» – в них сохранился аромат тех дней, – чувство согретых дыханием холодных комнат, запах пыльных шкафов библиотеки, скрип паркета в коридоре, звяканье ложки в стакане вечернего чая. Придет время, и по его книгам люди будут изучать то время – он, точнее многих других, сумел понять и увидеть детали, расслышать шорохи, уловить дуновения. Это была зыбкая эпоха, надо было уметь в мимолетном видеть вечное. Он это, думаю я, хорошо умел. Мы сидели часами на крохотной кухне на Фестивальной улице, за окном было черно, а мы говорили и говорили. Мы жили дружной семьей, до полночи спорили о литературе, об истории, о великих страстях, мучавших великих поэтов, о том, какие мысли движут мировой историей – и пока жил отец, объединяющий наши с братом расхождения, – это был бесконечный, прекрасный праздник. Мы много – и, боюсь, непродуктивно спорили с братом о русской культуре, о том, куда России следует повернуть: в сторону ли европейской цивилизации, как считал мой брат, или оставаться на месте – как в пылу спора не раз говорил я. Теперь – увы, запоздало – я раскаиваюсь в этих спорах. Благородное желание Владимира видеть возможность перемен, вероятно, было достойнее моей трезвости – хотя тогда, когда мы спорили, мне казалось, что трезвость необходима. Владимир верил в цивилизацию, как верят в лекарство, полагал, что мировые правила помогут преодолеть российскую природу, я над этим трунил – а зачем трунил, уже и сам не знаю. Куда как более ядовито над этой романтической и такой прекрасной надеждой посмеялась отечественная действительность. Пока мы выискивали слабые пункты в защите другого, со страной случилось то, что случилось – русский круг замкнулся, колесо повернулось еще раз, и наш спор оказался бесполезен. Спор выиграли совсем не интеллектуалы, и вовсе не нашими аргументами они пользовались при решении спора. А вот тепло и радость, что была потеряна нами ради этих пустых разговоров, уже никогда не вернуть. Я бесконечно любил старшего брата, он был для меня вторым отцом, и сегодня я могу лишь сказать, что мне горько за то, что я его незаслуженно обидел в наших спорах. Эти споры были будто бы о главном, но именно главное мы и пропустили. В конце концов, именно брат научил меня любить Джека Лондона и Сирано де Бержерака, тех, кто идет до конца и не сдается. Сейчас написал про это потому, что в наших юношеских беседах мы сотни раз изобретали романтические сюжеты, описывали битву, которую нам надлежит принять за свободу. Там, куда идем мы сегодня – а после смерти отца я вижу этот путь отчетливо – останется место только для одной, последней битвы. Я всегда мечтал, что в этой битве мы с братом встанем спина к спине. А теперь вижу, что это уже вряд ли случится, мы уйдем врозь, и не встанем уже спина к спине у мачты.
Что бы ни было, как бы ни повернулось, мой долг перед ним огромен. И о многих – самых важных – вещах мы думаем одинаково. Если бы мы с ним составили список имен – а мы часто играли в эту игру в детстве – тех писателей, кто оказал на нас влияние в этой жизни, – думаю, что список получился бы почти одинаковым. Играли мы обычно по вечерам, сидя на кухне – каждый брал по листочку бумаги и писал имена десяти самых главных писателей, десяти самых главных философов, десяти лучших художников. К этой игре нас приучил мой папа – он придирчиво изучал наши списки, уточнял, кто влияет на его сыновей.
Сегодня мой список выглядит так.
Наибольшее влияние на меня оказали следующие художники и писатели: Платон, Шекспир, Гойя, Толстой, Ван Гог, Пикассо, Брейгель, Хемингуэй, Карл Маркс, Данте, Роберт Бернс, Генрих Белль, Микеланджело и Маяковский. Я сознательно помещаю в этом списке писателей, философом и художников вперемешку. Мне было бы странно отделить энергию, излучаемую литературным образом, от энергии, содержащейся в картине, – в конце концов это разные, но весьма родственные эманации одного и того же сгустка смыслов, эйдоса, если пользоваться термином Платона.
Именно так, через отношение к книге, состоялось и мое отношение к живописи. Я всегда хотел, чтобы картина была столь же содержательна, как и книга.
Картины всего последнего периода задумывались и писались именно как главы романа. Не понимаю спонтанного рисования, не осознающего, что именно происходит на холсте и почему, – подобная художественная деятельность существует, причем в изобилии; помимо декоративных достоинств, других достоинств в ней не нахожу. Все можно объяснить, все можно рассказать и все следует рассказать словами – и смысл, который художник тщится передать кистью, обязан существовать в словесном выражении также. Нарисовать нечто возможно, только если изображение, как говаривал Маяковский, «отстоялось словом». Не так давно, я спорил с американским философом по поводу достоинств абстрактной живописи Ньюмена – этот мастер проводит вертикальные линии на холсте, этим и интересен. Я сказал собеседнику, что предпочитаю Рембрандта. «Но у Ньюмана – просто другой мэссидж», воскликнул мой оппонент, сторонник прогресса в искусстве. Я ответил, что с этим обстоятельством не спорю, мессидж – так мессидж. Однако, я хотел бы уточнить, какой именно мэссидж содержится в полосках, сравнить этот мэссидж с рембрандтовским, и если мэссидж Ньюмана окажется несколько беднее по содержанию, нежели то, что сообщает в своих картинах Рембрандт, то и место, соответственно, данный художник должен занять более скромное. Мой отец, когда речь в компании художников заходила о том, должно ли быть в картине содержание, всегда цитировал первую строку Ветхого Завета «Вначале было слово».
Отец
Он – аргентинский еврей, родился в Буэнос-Айресе в 1922 году, восемьдесят восемь лет назад. В Москве его звали Карл, а настоящее имя – Карлос Оскар Сальвадор. Отец говорил: «Я – портеньо». Портеньо, житель порта, так себя называют граждане Буэнос-Айреса. Отец умер два года назад, в феврале, в снежной стылой Москве. А хотел вернуться умирать на родину, в Аргентину.
В Аргентину семья попала так. Дед Моисей был ученый-минеролог, диплом получил во Фрайбурге, но при этом состоял в партии анархистов. В девятьсот пятом году его арестовали, он бежал из сибирской ссылки, переплыл с контрабандистами Черное море. Затем перебрался в Аргентину, где ему дали место профессора в университете Ла Плата. Там встретил Иду, она, кстати сказать, была основателем компартии Аргентины, учителем Витторио Кадовильо. Моисей и Ида вступили в брак, родился папа.
Под самый закат нэпа деда пригласили в коммунистическую Россию разрабатывать Керченское месторождение. Сели на корабль, приплыли, у меня есть фото маленького папы на палубе, он машет флажком. В Аргентине у папы осталась сестра Лиля, поэтесса.
Дальше – работа деда в Керчи, Тимирязевская академия, где дед долгие годы заведовал кафедрой минералогии, дружба деда с Вернадским, испанская война, испаноязычная семья на фронте под Гвадалахарой (все, кроме папы, – годами не вышел).
Папа пишет стихи пролетарского содержания, любит Маяковского. Мечтает о мировой победе добра, справедливости и коммунизма. Он страдает, что не воевал в Испании. Потом большая война. В армии пишет стихи: «Что б ни были мы и где б, но только б землю России реки наших судеб иссохшую оросили».
Потом победа, философский факультет, дружба с Зиновьевым, Мамардашвили, Левадой, это был замечательный курс. Затем – донос студенческого друга А. Суханова. Дело простое: Сталин поднял тост за долготерпение русского народа, а отец в кругу друзей сказал, что Ленин такого тоста бы не произнес. Как ни странно, спас папу Маяковский – на концерте подследственных папа читал «Товарищу Нетте», генерал, сидевший в зале, сказал: «Человек, который так читает стихи Маяковского, не может быть предателем». История невероятная, но правдивая: отец не сел, просто получил поражение в правах. Проходит это в рамках борьбы с безродными космополитами – исключают отовсюду, разговаривать с ним и здороваться опасаются. Отец вспоминал, что из состава курса только некий студент Иванов демонстративно подошел к нему и сел рядом. И еще храбрый Зиновьев громко спросил в аудитории: «Карл, а ты что, еврей?» – «Еврей, Саша». – «Ну, в следующий раз будешь умнее». Работы долго не было никакой. Потом устроился (философ) в Рыбном институте. Так прошло семь лет.
Дед умер вскоре после войны, этих страстей не видел. В пролетарскую революцию, похоже, он уже не верил. Сестра Лиля приезжала несколько раз – но потом ее пускать перестали. Семья окончательно стала русской, приросла к России, и латиноамериканская родня не поощрялась. Лиля присылала длинные письма на тонкой голубой бумаге и посылки: пончо, сомбреро, цветные фотографии Буэнос-Айреса. Это я уже помню хорошо – выходил в снежный двор, завернувшись в пончо, а местная коптевская шпана на меня глазела.
Помог отцу случай – в оттепель образовался журнал «Декоративное искусство». Храбрый главред, Михаил Филиппович Ладур, художник-оформитель парадов, пригласил отца заместителем. Отец спросил его, не боится ли тот звать отщепенца в журнал. Тот не боялся. Вскоре отец сделал из ДИ лучший журнал по эстетике тех лет – а тогда и слова «эстетика» практически не существовало. Печатали в ДИ Мамардашвили, Зиновьева, Гумилева, Пятигорского. По распоряжению Суслова, отца сняли с работы спустя десять лет – за номер, посвященный авангарду. Смешно: сегодня я браню Малевича за тоталитаризм, а в шестидесятые годы отец лишился работы за публикацию о нем.
Самое удивительное, что отец всю жизнь был именно философом, остальным занимался по случаю. Пришлось работать в Рыбном институте – работал в Рыбном, получилось в ДИ – работал в ДИ. Потом оказался в Институте истории международного рабочего движения – и там работал. Главным было не это. «Какая разница, где ты, – любил он повторять, – важны собеседники, которых ты сам себе выбираешь. Я говорю с Кантом и Платоном». Всю жизнь он писал огромный труд «Двойная спираль истории», первый том которого мы опубликовали, собрав из рукописей, незадолго до смерти папы, а второй том сейчас расшифровываем. Это концепция проектной сущности истории, здесь неуместно ее излагать. Книгу, разумеется, не было шансов напечатать, но отца это не печалило: «Гомера тоже не печатали», – любил он повторять. Это гигантская работа – и думаю, гениальная. Так считали и близкие друзья отца – Зиновьев, Левада, и прочие. Они привыкли к тому, что отец странный – не нуждается в признании. Он не был карьеристом, но не стал и диссидентом. Провел жизнь за маленьким письменным столом, среди книжных полок. Думаю, он был доволен жизнью: довел все, что хотел, до конца. Примирил несхожие линии судьбы, нашел объяснение русскому марксизму и коммунистической утопии, показал, как христианская парадигма формирует историю. И только одно его изумляло: он не понимал, почему должен умереть в России. В Аргентину отпустили один-единственный раз, на похороны сестры. Он бродил по родной улице Корриентес, говорил по-испански. И умереть хотел именно там – там, где родился, где тепло, где дует ветер с Атлантики.
Я сотни раз рисовал его портреты, не знаю лица прекраснее. Он был очень добрым, но очень гордым человеком. Несгибаемым.
Последние слова произнес по-испански: «Donde estoy?» Где я нахожусь?
Самым важным событием в моей жизни были прогулки с отцом вокруг нашего дома на Фестивальной улице. Мы выходили вечером, часов в девять, и шли гулять, дворами новостроек, через заросшие пустыри. Отец пересказывал философов, мы беседовали о Ницше и Сократе, Толстом и Шекспире, он спрашивал мое мнение так, словно я был серьезным собеседником; иногда мы садились на скамейку, и он читал Платона или Библию до тех пор, пока не наступала темнота. Зимой, когда темнеет рано, мы читали наизусть стихи, ходили кругами по переулкам и читали стихи по очереди, пока не делалось совсем холодно. И главными были беседы о Марксе и марксизме, поскольку отец считал себя марксистом, а Маркса понимал как создателя такого проекта бытия, который продолжает ренессансную парадигму. Отец рассказывал мне, как он видит историю – в череде наследующих друг другу проектов бытия: от Библии – к Ренессансу, от Ренессанса – к марксизму. Ренессансный проект для него воплощался в фигуре Рабле, им написаны прекрасные страницы о «Гаргантюа и Пантагрюэле». В этих отношениях он увидел отношения Бога-отца и Бога-сына, великую парадигму бытия. Так проблема наследования, проблема отца и сына, понятая в контексте истории, сделалась для меня основной в искусстве.
И отец рассказывал мне историю нашей семьи, для него (как теперь и для меня) существовала весьма ясная семейная традиция. Определяющей чертой традиции являлось то качество, которое за неимением иного, лучшего слова, я привык насмешливо именовать сентиментальной романтикой. Папа никогда не стеснялся высоких чувств и патетики – и это в те годы, когда патетика была в принципе скомпрометирована партийными лозунгами, когда все интеллигенты стеснялись прямой речи, высокопарных призывов. А в нашей семье патетики не стеснялись, напротив – стеснялись цинизма. Ни мой дед, ученый-минеролог и драматург, ни моя бабка, коммунист и основатель компартии в Аргентине, ни мой брат, историк русской философии, ни мой дядя, разведчик в годы Отечественной войны – никто из них не боялся показаться смешным, произнося красивые фразы. Так было принято в семье – верить в высокое предназначение человека и не стесняться этой веры. С этой верой они прожили, ею вдохновлялись. Излишне говорить, что такая высокопарная риторика плохо уживалась с принятой в те годы ленивой иронией, кривой усмешкой.
Отец словно не замечал, что его вера выглядит смешной. Он говорил так: время всякий человек чувствует и проживает по разному – для иных существует окоп времени, в окопе они пережидают свою жизнь; для кого-то есть волна времени, на ее гребне они добиваются успеха; но некоторым дано чувствовать весь океан времени, все его необъятное пространство, его движение и его бури.
Для меня главным и единственным учителем был отец. Отец научил меня всему, в том числе рисованию. Сам он не рисовал, в нашей семье до меня не было художников, но он исключительно хорошо знал историю искусств. Вся история искусств – от Греции до нашего времени – осознавалась им как единый процесс, он умел в рассказе показать, как линия Праксителя воскресает в рисунке Пикассо, как Брейгель перекликается с Ван Гогом. Для него не существовало старого искусства – и искусства нового: всякое искусство было предельно актуально. Книг по искусству в те годы было крайне мало, и они были весьма дорогими, у нас альбомов было немного. Мы с папой часами разглядывали дешевые альбомы Домье и Ван Гога, Пикассо и Брейгеля, и папа учил меня смотреть картины. Еще был Пушкинский музей, выставка Винсента Ван Гога, приехавшая в Москву в семьдесят пятом. Картина – это событие, учил отец, картина – это роман, это история жизни и судьбы. Картина – это мир, в который надо войти. Каждая деталь, каждый ракурс, каждый взгляд, сочетание цветов – все это исключительно важно, случайностей быть не должно. Гляди, говорил мне папа, как смотрит Ван Гог в своем автопортрете, встреться с ним глазами. Видишь, показывал он мне репродукцию «Чуда святого Исидора», из толпы на нас глядит сам Гойя, видишь его напряженные глаза? Посмотри, как Микеланджело строит рассказ своей капеллы: от хроник – к притчам – от них – к образам пророков и сивилл. Так и возникает история: через хроники – к символам и проектам бытия. То были черно-белые альбомы, и мы только воображали себе цвет этих картин – позднее, когда я увидел эти картины в оригинале, я понял, что мы редко ошибались. Из этих дешевых альбомов перед нами вставали герои-художники, решившие отвечать за свое время, рассказать миру о людях, которых знают и любят, о своей боли, о беде других. Они были настолько реальны, что вырастали перед нами, несмотря на размытую печать, плохие репродукции. Ничего более достойного, чем их жизнь и судьба, я придумать не мог – и я хотел рисовать картины.
На мое шестнадцатилетие папа подарил мне маленький альбом Гойи – то была карманная серия издательства «Темз энд Хадзон». На первой странице он написал стихи: «Покорством испытания по корни их растлили, Но все ж спаслась Испания, воспрянет и Россия. Добрый молодец, гой еси, стань ты Гойею на Руси». Я всегда помнил эти строчки, сегодня, когда моего папы нет со мной, эта книга стоит на моем столе в мастерской. Нет, не стать новым Гойей, но быть достойным своего отца и его веры, быть достойным этого посвящения – я всегда хотел только этого.
Главное, что сумел показать мне папа, – это то, что искусство есть наиболее полное воплощение истории, через искусство история познает себя. «Искусство есть мера истории» – это любимое выражение моего отца. Руководствуясь именно этой мыслью, я стал писать роман «Учебник рисования».
Любимая мысль отца состоит в следующем. История неоднородна – она делится на процесс, который отец именовал «социо-культурной эволюцией», и на собственно историю – то есть движение духа, проектный замысел бытия. Эти два процесса идут параллельно друг другу, иногда движения пересекаются, редко совпадают, часто интересы истории и социо-культурной эволюции вступают в противоречие. Социо-культурная эволюция, в принципе призванная воплощать исторический проект, весьма часто проходит вопреки этому проекту, профанирует его, предает. Социо-культурная эволюция мнит себя самодостаточной, подчас ей кажется, что предел совершенства достигнут, эти пики самолюбования социальной эволюции называют развитой цивилизацией. Отец представлял себе движение социо-культурной эволюции и движение истории как две переплетенных спирали, иногда он рисовал схему исторического движения, напоминающего структуру ДНК. Всякий раз, когда линия социо-культурной эволюции перехлестывает линию исторического проекта, когда социальное развитие становится доминирующим, историческое сознание совершает новое усилие, новое восхождение. Преодолевая социальное развитие, история создает новый проект бытия, достойный предназначения людей. Такое движение отец называл «двойной спиралью истории», этому посвящена его главная книга, которая так и называется «Двойная спираль истории. Историософия проектизма». В его концепции искусству отводилась главная роль – искусство и является, по Карлу Кантору, проектом исторического бытия, именно как движущая сила истории оно и существует.
Карл Кантор несомненно был философом-идеалистом, весьма вероятно, что его можно отнести к религиозным философам, в последние годы жизни он стал довольно религиозным человеком: говорил и писал языком библейских пророков. Находиться рядом с ним было счастьем, самым значительным уроком, какой только можно получить.
Мне повезло: я встречал в жизни много весьма умных людей, некоторые из них были признаны человечеством в качестве больших умников, но никого мудрее своего отца я не знал. Полагаю, что его книга является главной книгой прошлого века – ничего более значительного написано не было.
Когда я говорил, что мои картины – это главы книги, следовало сделать одно важное уточнение. У этой книги есть главный герой. Мой отец. В сущности, я всегда писал историю нашей семьи, а через историю семьи рассказывал историю общества. Но прежде всего это была история жизни отца, его портреты. Я писал его много раз, всегда, когда начинаю рисовать мужское лицо, я провожу линию его лба, строю его надбровные дуги. Для меня это лицо стало в каком-то смысле образом человеческого лица вообще. Мне крайне повезло с моделью – с такой значительной моделью. Я близко знал и чувствовал человека, который был необычайно значителен, а мне был представлен интимно, я знал тепло его щеки – не только полет мысли. Некоторым художника так везло, но очень немногим. Так Нестерову повезло рисовать Флоренского, Гольбейну повезло рисовать Эразма, Кранаху – Лютера.
Образ отца задал всему моему творчеству определенную высоту, ясную точку отсчета – сразу же сделалось ясно, что героем моего мира является мыслитель. Лицо отца, его суровые черты возникали во многих картинах – в центре композиции «Зала ожидания», в фигуре больного из «Моления о чаше», в «Одинокой толпе». В любой сложной, многофигурной картине, где люди сбились в кучу, гонимые ветром или приказом, всегда найдется главный герой – тот, кто анализирует, понимает происходящее, кто противостоит толпе. Этого героя я часто наделяю чертами отца. Впрочем, всех своих друзей, тех, кого люблю и часто рисую, я помещаю в картины: Зиновьева, например, или Сергея Шкунаева. На одной из последних картин «Трое нищих» я нарисовал их троих – отца, Шкунаева и Зиновьева. Но главным героем всегда становился именно человек, наделенный чертами отца. И здесь важно сказать, как именно я понимаю его черты. Некогда папа сказал примечательную фразу, потом я не раз ее повторял: «дух продувает отверстия, формует лицо человека». И действительно, лицо у моего отца было особенным, можно сказать несколько экзотическим, с резкими чертами – но эти особенности физиогномики определялись не происхождением и не социальным положением, а неустанной работой мысли. Он много думал, и лоб его обрел ясные очертания, сделался высок и светел, он не боялся говорить внятно, и рот его от такой речи обрел твердую форму. В отце я писал не московского интеллигента, не нервного человека еврейской национальности – в те годы было написано много таких персонажей; нет, я писал именно и прежде всего – мыслителя. Собственно говоря, главную тему моей живописи можно определить и так: судьба думающего человека в государстве.
Иногда я думаю, что мои картины – в какой-то, крайне несовершенной, конечно, форме – есть иллюстрации концепции моего отца. Например, у меня есть даже картина «Две версии истории», она сейчас в Ирландии, в музее Белфаста. Это, конечно же, не вполне «Двойная спираль истории», но принцип двойного спирального движения я заимствовал именно из концепции отца. Отец ценил эту картину. Он любил мои картины – впрочем, он сам и учил меня, как надо рисовать.
Для меня был крайне важен предметный мир моего отца – точнее сказать, отсутствие вещей. Отец был бесконечно равнодушен к быту. Из всех благ и соблазнов он ценил только книги и канцелярские принадлежности – бумагу, блокноты, карандаши (то есть орудия труда). Его спартанское отношение к предмету сделалось основой моей эстетики.
Я люблю только простые и необходимые предметы – чашку, ложку, стакан, книгу. В мире, где я поселил своих героев, нет избыточности, все скупо. Например, в ранних натюрмортах я писал очень ограниченный набор предметов – убогий такой обед: сосиска, стакан кофе. Я формулировал про себя это так: я пишу «анти-голландский» натюрморт. Голландский натюрморт, это, как известно, изобилие и достаток покойной частной жизни. А в нашей семье все было как-то наспех, по-походному: съел сосиску – и сел к столу, работать. И натюрморты тех лет в точности отражают быт моей семьи, или, точнее, ее безбытность. Полагаю, это была сознательная установка, так именно отцу и хотелось жить, хотя окружающие могли подумать, что быт или заработки не сложились изза рассеянности, брезгливости к советской карьере. На самом деле отец даже не был брезглив – он просто не замечал того, что было не главным.
Главным он считал духовное общение – и когда он произносил эти слова «духовное общение», они звучали не высокопарно, но чрезвычайно естественно. Самым же презрительным в его словаре было слово «мещанство». Вероятно, это он унаследовал от своего любимого Маяковского.
Если отец говорил о человеке, тратящем жизнь на приобретение благ, он презрительно кривил губы, поднимал брови и удивленно спрашивал: «Неужели этот человек вещист?» Слово «вещист» – звучало как пощечина. Служить вещам, быть рабом вещей – то был худший приговор, который звучал в нашем доме.
Отец любил повторять строчки Маяковского:
- Чтоб жить не в жертву дома дырам,
- Чтоб мог в родне отныне стать.
- Отец по крайней мере миром,
- Землей по крайней мере – мать.
Он и был для меня всем миром, а в жертву дырам дома не было отдано ничего, хотя дыр накопилось предостаточно. Отклеенные обои, разбитое стекло лампы, сахарница с отбитой ручкой, треснутая чашка – вокруг был беспорядок, дом приходил в запустение, лишь стараниями мамы сохранялась чистота. Жизнь была подчинена одному закону: порядок только в бумагах и книгах – остальное неважно. Всю свою жизнь папа просидел за одним и тем же столом, залитом чернилами, на одном и том же стуле, с продавленным сиденьем. Ножка у стула была треснута и замотана синей изоляционной лентой, на этом шатком стуле отец проводил по пятнадцать часов в день.
Глядя на эту жизнь, такую беззащитную, не закрытую от времени ничем, кроме книг (ведь устроенный быт создает, во всяком случае, иллюзию стены между тобой и миром), я думал о том, что своими картинами я постараюсь оградить эту жизнь от времени. Я, если угодно, старался увековечить ее, эту безбытную жизнь.
Прекрасные лица дорогих мне людей – неужели они не заслуживают того, чтобы навсегда остаться в памяти, чтобы найти точные линии для их воплощения? Я хотел рисовать портреты – тех, кто не склонился перед эпохой, тех, кто воплощает достоинство, но рисовать черты таких людей в шутку – невозможно. Помимо прочего, призвание искусства – обессмертить то, что, увы, бренно, что подвластно времени и недугу, что может пострадать от произвола власти.
Я сотни раз написал лицо своего дорогого отца, его высокий лоб, резко очерченные губы, орлиный нос – я не знаю лица прекраснее. И всегда, когда рисовал его, я – против воли – думал и о том, что когда-нибудь напишу его последний портрет, в гробу. Долгие годы, когда отец болел, я держал в мастерской загрунтованный холст, готовясь к такому портрету.
Когда папа умер, я не находил в себе сил рисовать, но я должен был его нарисовать в гробу, и я поехал в морг, и договорился – мне позволили принести мольберт и краски, и в морге я написал два холста. Его положили на низкую скамейку, он был одет в свой серый пиджак, который я передал служителям прошлым вечером. Отец лежал передо мной, и мы продолжали говорить, как и всегда, когда он позировал. У него было спокойное величественное лицо, ему всегда удавалось быть величественным без всякой натуги – крайне естественно. Получилось и в этот раз. Я писал почти без ошибок, я вообще могу рисовать его лицо с закрытыми глазами. А в тот день рука совсем не дрожала, хотя я и не понимал, почему рука не дрожит.
Живопись
Живопись – искусство открытое, живопись не спрятана от понимания ничем. В отличие от музыки, которая длится во времени, и требуется прослушать произведение до конца, чтобы вынести суждение; в отличие от литературы, которая также требует протяженного чтения, живопись предъявляет себя сразу – картину видно всю целиком, в единый миг. Эта открытость делает искусство живописи крайне уязвимым – кажется, что им может заниматься любой, особенно в связи с принятыми сегодня допущениями.
Друг юности, рано умерший и еще не оцененный по достоинству художник, Андрей Цедрик однажды в раздражении бросил великолепную фразу: «Везет же музыкантам: если кто из них сфальшивит, они могут сразу это определить и сказать: у вас, голубчик, слуха нет, не занимайтесь вы больше музыкой. А как быть художникам? Отчего считается, что у всех есть право фальшивить в линии и цвете? Это ведь так же точно режет глаз, как фальшивая нота – слух. Ведь у них (Андрей имел в виду окружавших нас новаторов) прежде всего нет глаза. Какое же может быть искусство?»
С Андреем Цедриком связаны прекрасные годы юности – мы бродили с ним по московским пустырям и свалкам, заброшенным дворам, ставили рядом этюдники. Мы искали мотивы, которые передали бы нашу жизнь. В письмах Ван Гога есть такая фраза: «Мотив содержится в самой природе, вопрос лишь в том, как извлечь его оттуда». Сходную мысль высказывал и Микеланджело, рассуждая о глыбе мрамора и о заключенной в ней статуе. В то время мы еще не сочиняли картин, но наша живопись была и не совсем этюдной – мы искали такой мотив, который претендовал на обобщение реальности. Мы бродили по Москве и старались вычленить из городских пейзажей то, что является символом времени, – странно, но рассуждали мы именно в этих терминах. Одним из таких мотивов-символов сделался пустырь, необжитое пространство меж домами, заброшенное и заросшее сорной травой. Первым стал рисовать пустырь именно Андрей – он поставил этюдник посреди пустого пространства и стал писать то, что перед глазами: обломок водопроводной трубы, кустик засохшей травы. Мне хотелось нарисовать пустырь не «изнутри», но «снаружи», показать его как социальное явление, как символ бытия. Андрей же писал так, словно проживал жизнь этого пустыря, строил свою картину так же, как сам пустырь зарастал травой.
Тогда, разумеется, о больших обобщениях речи не шло: нас привлекали такие странные уголки реальности, которые эту самую реальность неожиданным образом передавали полнее, чем парадные фасады. Андрей придерживался взгляда, что следует отдаться мотиву, раствориться в нем, он любил приводить историю о Курбе, который стал писать пейзаж, не вполне различая в сумраке, что именно пишет. Писал въедливо, получилось похоже на кучу хвороста – он подошел ближе: то, что он писал, действительно оказалось кучей хвороста. Иными словами, Андрей настаивал на том, что реальность сама не знает, что именно воплощает, надо отдаться ей, и тогда некое понимание соткется в процессе работы.
Мы спорили: я считал, что понимание диктует выбор мотива, и следует подчинить изображение знанию о предмете. Спустя много лет я довел эту метафору до полного воплощения, написав большую картину «Дикое поле» и «Люди на пустыре». Оглядываясь назад, я вижу, насколько этот спор находится в традиции платоновских диалогов. Впрочем, мы тогда уже читали Платона.
Андрей создал серию удивительных картин – он рано умер, не успев стать по-настоящему известным, хотя заслуживал восхищения и славы; я считаю его одним из самых значительных художников, встреченных мной в жизни; осталось немного картин – но их стоит изучать.
Андрей Цедрик был удивительным знатоком искусства; нет, не знатоком, это неточно сказано – он был обитателем искусства, жил в этом доме легко и свободно, говорил с другими обитателями как с равными. В одном из своих немногих интервью он сказал так: «Более всего люблю иконопись и крито-микенское искусство; среди художников нового времени ценю Рембрандта и Ван Гога». С какой великолепной свободой он относился ко времени! Новое время для него (и я полностью разделяю эту мысль) начиналось с того момента, когда авторитет иконы был утрачен, и потребовалось создать такое светское искусство, которое не уступало бы иконописи в осмысленности и высоте задачи. Прочие стилеобразующие факторы – дело вторичное. Отсчет времени идет оттуда, и вопрос до сих пор не решен. Именно так и думал Андрей. Соображение о том, что в нынешнем сезоне модны фотореалисты, а в следующем будут модны концептуалисты – было для него смешно. Но тогда именно так и строили свою карьеру рьяные молодые люди – они старались войти в самые прогрессивные ряды, с тем же рвением, с каким вступали некогда в комсомол. Стоило поглядеть, как Андрей беседовал с модной молодежью тех лет – он был мастером, в его присутствии несостоятельность модника делалась очевидной.
В те годы я стал писать краснокирпичные бараки. То были странные дома, сегодня я бы назвал этот стиль не барачным конструктивизмом (а собственно говоря, эти бараки есть типичное воплощение барачного конструктивизма), но советской готикой. Я имею в виду не самый облик дома, но сакральный характер этой архитектуры – она не утилитарная, как мнилось ее создателям, она магическая. Эти постройки были загадочными: не то дома, не то тюрьмы, не то больницы, вокруг них клубилась история. Их закопченный красно-бурый цвет напоминал об истории – если угодно, о цвете знамени революции, но одновременно о лагере, одновременно – о войне и крепости.
Я написал много таких домов, пока не пришел к некоему обобщенному образу – для меня этот красный дом стал своего рода портретом государства, общества, в котором живем. С этого момента принцип творчества оформился – я стал выдумывать такие картины, которые описывая реальность, делались бы ее символом.
В период с 1985 по 1989 годы (можно его назвать «больничным», или «желтым», или, например «кафельным» периодом, потому что в тех картинах одним из основных мотивов было изображение кафельного пола) я искал живописную метафору регламента – как передать, что наша жизнь расписана по параграфам, подчинена казарменным правилам. Я рисовал больницы, вокзалы, тюрьмы, дешевые столовые, и мне надо было найти такой язык, который передал бы бюрократический характер бытия – но остался бы при этом живописным. Я стал включать в изображения такие элементы реальности, которые подчеркивают монотонное расписание жизни – я рисовал кафельный пол, то есть стереотипные квадратики, однообразно расчерченное пространство. Отчетливо помню, как ходил длинным коридором больницы, смотрел себе под ноги, считал квадратики кафеля и думал: однажды я все это опишу, я превращу этот кафель в искусство. Также я придумал, как передать характер одежды моих героев, я вырезал куски материи из полосатых пижам, клетчатых рубах и наклеивал эти куски материи на холст. Облаченные в такую однотипную одежду, персонажи сразу превращались в узников лагеря или в пациентов больницы – даже если тема картины была иной. Такие коллажи сделаны в картине «Семья», «Зал ожидания», Свидание», «Отец и сын». Весьма существенно, что для коллажей я использовал старые отцовские рубахи, то есть чрезвычайно близкие мне вещи. Ту же роль, что и полоски на пижаме, играла кирпичная кладка – у меня много картин с изображением кирпичной стены, самый ряд кирпичей делался для меня метафорой бытия. Я также использовал любую деталь с назойливо повторяющимся ритмом: характерную для тех лет структуру чулок – в полоску, половицы пола, вилки, одним словом все, что передавало монотонность, повторяемость, неотменимый регламент жизни.
Руководствуясь тем же соображением, а именно: живопись должна показать, как преодолеть унифицированную реальность, наглядно превратить регламент в красоту – я стал однажды делать рельефы из дерева и железа. Я строил заведомо неудобные, непригодные для живописи конструкции, использовал решетки и проволоку, все то, что самим материалом противоречило живописи, потом обклеивал поверхность рельефа материей, грунтовал, делал левкас. Получалась почти что иконная поверхность – но на совершенно невозможной, перекореженной основе. Я полагал, что художественный образ (то есть образ человека, которого я рисую, и чьи черты хочу сделать символическими) должен обладать столь же непростой судьбой, как и живой человек. Живопись должна как бы пережить трудность возникновения, состояться вопреки среде. Так я писал «Картотеку», где помимо тяжелого рельефа, использовал еще и канцелярский прием портрета: каждого из своих любимых героев я изобразил анфас и в профиль. Человек, думал я (впрочем, и сейчас я думаю так же) состоится в сопротивлении, в неподчинении заданному бытию.
Однажды я придумал делить сам холст на части – разрезать изображение на фрагменты, структурировать его, как кирпичную стену или кафельный пол. Так написаны «Шеренга» или «Разговор глухонемых». Одним словом, я делал все, чтобы затруднить жизнь своим героям – а они тем не менее выстояли, и я их ценю за это. Когда я сегодня встречаю мои старые картины (у коллекционеров или в музеях), я подхожу не к картинам, но к героям, к людям. Мне обязательно надо тронуть их руки, я подхожу к картине и глажу их руки – в каждой картине для меня несказанно важно изображение рук. Вообще было бы любопытно написать исследование – как разные художники изображают руки. Птичьи лапки персонажей Козимо Тура и мраморные пальчики героев Липпо Мемми рассказывают нам все – все то, что говорит картина в целом, рассказывают уже пальцы героев. Вспомните, каким душераздирающим жестом прикасается жених к груди возлюбленной в «Иудейской невесте» Рембрандта, этот жест потом почти что воспроизвел Пикассо в своих «Нищих» – но лишь почти. Не существует ни одного – ни единого, никогда, ни в какие времена – подлинного художника, который не создал бы своих собственных, лишь его героям присущих рук.
Главным же событием, случившимся за эти годы, было выработанное понимание цвета. Мне требовалось найти такой звук цвета, который бы соответствовал чувству, испытываемому нами от шероховатых и холодных кирпичей, от жухлой травы, от твердой сухой руки друга, от ветра, от библиотеки в пустой комнате. Каким цветом выразить это странное чувство от библиотеки в пустой комнате? Я повторял про себя слова Гогена: «когда я слышу стук моих деревянных башмаков по каменистой почве Бретани, я думаю о том красном цвете, который создам». Это точно сказано. Цвет – настолько пластичная субстанция, что может передать практически все, надо лишь сформулировать задачу. Глядя на обшарпанные здания больниц и тюрем, вокзалов и столовых, я искал нужный звук цвета. Ясно, поверхность цвета не должна блестеть, но одновременно цвет должен быть глубоким. Я подмешивал в краску растворенный на огне воск, иногда подмешивал мелкий песок, чтобы добиться эффекта штукатурки. Так я писал больничные стены в «Утреннем обходе». Постепенно я научился делать цвет каменным, добиваться того, чтобы краска превращалась в цветной камень. Этому невозможно обучить, никакая школа этому не учит, каждый должен научиться сам. Но вне этого умения – не существует живописи.
Обучение
Я ни у кого не хотел учиться – мне было достаточно отца. Да и какие учителя могли быть, когда рядом с тобой уже есть такой человек? Беда в обучении рисованию состоит в том, что научиться отдельно приему нельзя – требуется поверить в цели мастера, тогда мелкие приемы техники, которым он учит, станут совершенно твоими, прирастут к руке. Отдельно же научиться класть светотень – невозможно. Именно поэтому и существовали средневековые мастерские, в которых мастер становился как бы отцом ученика. Ученик попадал прежде всего в семью – и учился именно как член семьи, оттого и был обучаем. Анонимно – ничему научиться нельзя.
Даже в современных сообществах авангардных художников, где ремесла в собственном значении этого слова уже не существует – даже и в таких кружках единомышленников обучение (или приобретение неких навыков) проходит только при условии общей веры. Нельзя обучиться плевать на холст или лаять собакой, если вы не верите, что действуете по правилам семьи. Надо уверовать в то, что плеваться – это хорошо и прогрессивно, только тогда плевок выйдет артистичным, а так-то, по ординарной невоспитанности, плевать всякий пьяница горазд.
Исходя из сказанного, я еще раз должен подчеркнуть, что моим единственным учителем был отец; я обучался в мастерской Карла Кантора, долгие годы был его подмастерьем. Я читал книги, где следовал его подчеркиваниям, я слушал его беседы с друзьями, я повторял его суждения – до тех пор, пока не выучился говорить сам.
Что же могли сказать мне учителя в институте, о чем же именно? Институтские учителя ничему не учили, просто совсем ничему; что говорить о цели творчества – помню, я спросил у профессора о чрезвычайно простой вещи, как он рекомендует грунтовать холст, и вызвал раздражение. Я раздобыл в букинистическом старинную книгу рецептов Кареля ван Мандера, грунтовал по его рецептам, но мне было интересно, что же с тех пор изменилось. Институтский профессор воззрился на меня в изумлении несказанном – ни он, ни его коллеги никогда и не думали про ремесло. Холст они покупали готовым в магазине, подрамники им сколачивали в комбинате, а смешивать краски они не умели совсем.
Если и сохранялось в Москве какое-то знание о живописном ремесле, то в частных мастерских, в мастерских полу-опальных художников, не вошедших в нормальную колею советского официального искусства.
В детстве я посещал несколько таких частных студий. В тягучие брежневские времена существовали спрятанные от идеологии углы, где иные художники занимались так называемым «честным» искусством. То был весьма распространенный термин, имелось в виду, что художник рисует не по партийному заказу, не потому, что состоит в профсоюзе художников, а по велению сердца. Еще существовала квартира Роберта Фалька, и его вдова Ангелина Васильевна устраивала не то среды, не то четверги, допуская на просмотр фальковских работ возбужденных интеллигентов. Молчаливые и взволнованные, они сидели на стульях и кожаном диване, а вдова вносила в комнату и ставила на мольберт натюрморты. И казалось – именно в тот момент, когда серенький натюрморт водружали на шаткий мольберт, – что это событие каким-то образом противостоит советской власти за окном. Было ли так на самом деле – сегодня я не вполне в этом уверен. Подобным же образом показывали работы своих родственников наследники Зефирова, Чернецова, Соколова. Я ходил по этим московским квартирам, мы все – я и мои тогдашние друзья – переживали в эти минуты нечто такое, что, вероятно, переживали карбонарии, обмениваясь листовками. Вот оно, сокровенное, потаенное, пережившее гнилой режим, выжившее под спудом. Мы вглядывались в натюрморты, пожимали друг другу руки, мы говорили друг другу: все же искусство выстояло!
Проклятая привычка видеть все словно бы со стороны – а эта привычка служила дурную службу, в особенности в общении с авангардистами и опальными художниками – мешала мне до конца отдаться процессу вольнолюбивого созерцания.
Я вдруг ловил себя на мысли, что все мы, затаив дыханье, разглядываем пейзаж с березками, или интерьер с креслом у торшера, – разглядываем произведения ничем, в сущности, не примечательные. Ну что же в этом такого свободолюбивого? – спрашивал я себя, да и окружающих спрашивал о том же, порой самым бестактным образом.
Помню посещение вдовы одного мастера, которая показывала розовые акварели замученного режимом супруга. Все было правильно, все как надо: низкий потолок блочной квартиры, печальные лица, траурный портрет мастера на стене. И все пристально вглядывались в акварели и молчали, молчали. А если и говорили, то отрывочные, скупые слова: дескать, страшна наша Россия. А я недоумевал: что за основания идти на плаху за изображения розовых березок. Сталину, очевидным образом, от этих картин ни горячо, ни холодно не сделалось. Да и разве отличаются эти картины от других – тех, которые рисуют адепты режима.
Ах, то была честная живопись. «Честное искусство» – то был пароль тех лет, распространенный тогда так же широко, как сегодня термин «актуальное искусство». И столь же бессмысленный. Искусство не делится на «актуальное» и «неактуальное», поскольку всякое подлинное искусство актуально. А что касается честности – весьма трудно сказать, было ли то домашнее рисование честным по отношению к ненавидимому режиму. Поразительно, но за все годы так называемой коммунистической диктатуры не было создано ни одного холста, ее обличающего, рассказавшего о лагерях.
Назову лишь два исключения. Существует зловещее «Новоселье» Петрова-Водкина – изображены пролетарии, въезжающие в разоренную квартиру, вероятно, квартиру репрессированного. Новый хозяин квартиры похож одновременно на Ленина и Сталина – курит трубку, придерживая ее у губ сталинским жестом, и носит монгольскую бородку, как Ильич. Петров-Водкин ничего не делал случайно, он создал образ пролетарского хозяина, слепив его из двух типажей. За два года до этой картины Петров-Водкин написал портрет Ленина, практически точно воспроизведенный в картине «Новоселье». Впрочем, данной вещью критический пафос ограничился. Есть у Петрова-Водкина еще холст, изображающий испуганную семью, ждущую ареста; вещь, написана в тридцать четвертом году, из осторожности поименована «Тревога. 1919 год» – и рассматривать ее в контексте критики режима не получается: художник оценивается в меру смелости своего поступка. Есть также паукообразный Ленин, командующий парадом, его изобразил Климент Редько – и это, пожалуй, все, не было больше критических холстов. Тот же Редько кончил свою карьеру рисованием узбекских пионерок – весьма унылые картинки. Не появилось никого, кто бы действительно написал обличающие режим картины, не возникло ни Гойи, ни Домье, ни Делакруа. Никто не нарисовал «Расстрел 3-го мая», «Семью на баррикадах», «Резню на острове Хиос». Была в стране Колыма, унесшая жизней не менее чем Герника, – но вот холста «Колыма» не написал никто. И понять, почему так – невозможно.
А разве сегодня, когда художники празднуют открытия модных кафе и бутиков – что-то в России поменялось?
Над моей кроватью в детстве была прикноплена репродукция Домье «Семья на баррикадах», по этой картине я представлял себе миссию искусства. Семья восставших была похожа на мою семью – и во главе семейства, в мужчине с седой копной волос, с крутым лбом, я узнавал отца. И я сам тоже был рядом, там, у его локтя – как и надлежит сыну – там изображен такой взволнованный круглоголовый подросток. Как я любил эту картину! Таким и должно быть мое искусство, думал я, искусство обязано рассказать о нас – оно должно увековечить наши семьи и нашу страсть, рассказать о наших мыслях, о наших баррикадах. У нас сегодня нет ружей и патронов, но вместо них краски и кисти – и к тому же у нас есть пример Оноре Домье. Я ждал, что опальные художники подвальных мастерских напишут так же страстно – расскажут о нашей жизни, о нашем сопротивлении. Оказалось, что они рисуют натюрморты с засохшими цветами.
Впрочем, сегодня мои слова звучат зло, а это несправедливо по отношению к тем прекрасным людям. В конце концов, то была дивная атмосфера, в опальных мастерских все дышало подлинностью, непродажностью – а разве этого мало? Сегодня словом «непродажность» можно лишь испугать современного творца, а тогда «непродажность» была условием порядочности. Были истовые вдовы, замотанные в платки, были фотографии мастеров, были их засохшие палитры. Вне этой атмосферы не могла бы сложиться пресловутая московская школа; как бы ни смешон был этот термин, но такая школа существует, я сам к ней тоже в какой-то мере принадлежу.
Московская школа, она как московская речь – с «аканьем», с размазанной дикцией, с расплывчатыми деепричастиями. Она очень добродушная и довольно вялая. Весьма трудно московским языком сказать нечто определенное или резкое. Московская школа – это такое особое, рыхлое письмо, с дробными мазками, небрежными касаниями, с аморфной, «серобуро-малиновой» средой живописи, которая будто бы передает характер нашей московской природы: лужа, а в луже отражается мутное небо, да еще стена с щербатой штукатуркой. Если стену с обвалившейся штукатуркой, и лужу, и сырое небо будет писать венецианец, он напишет это пронзительными цветами, а москвич все пишет серым, грязным замесом, который у живописцев называется «фуза». Собственно говоря, возникает этот мутный цвет от неряшливости, по причине неточно сформулированной задачи. Но можно ведь сказать и иначе. Можно сказать так, что московские художники писали не конкретный предмет, и тем более не конкретную картину, но московскую жизнь вообще. Ну вот она такая, наша жизнь, серая, мутная – то оттепель, то репрессии, и всегда опасения, всегда оглядка. Как тут еще писать – если ничего определенного нет в принципе: то ли будет колбаса, то ли нет, то ли дадут конституцию, то ли отнимут. Иногда московские художники творили за границей – но узнаваемые черты московской школы они несли повсюду: и в парижских пейзажах, и в венецианских этюдах (а были счастливцы в те годы, коих власть выпускала творить за рубежом, были и те, что эмигрировали) везде возникал все тот же самый размыленный цвет московской палитры. От московской школы возникало тяжелое мутное чувство – кисть увязала в палитре, как сапог в грязи, выволочь кисть из этой серой каши было невозможно. Институтское обучение все было вот таким – мутным.
Впрочем, мне посчастливилось брать частные уроки у нескольких художников, которых я чту по сегодняшний день.
Первым упомяну Евгения Додонова, мало известного у нас экспрессиониста пятидесятых годов, стилистически напоминающего Филонова. Евгений Андреевич долго сидел в лагере, он был молчаливым, упорным человеком, человеком исключительно достойным. Его облик ничуть не напоминал типичного московского художника. Обязательные черты (борода, свитер, водка, мат – то, что привлекало корреспондентов и являлось атрибутами истинного творчества) отсутствовали в его облике. Додонов был вежлив, выбрит, ходил в чистеньком стареньком костюме и всем ученикам говорил «вы». Рисовал он как-то тихо и упорно. Сегодня мне кажется, что именно так, въедливо, бесстрастно и медленно, рисовал и Павел Филонов. Странным образом в этом экспрессионизме не чувствовалось надрыва – как нет этого надрыва и в работах Филонова – мир кривился и рассыпался, но происходило это так спокойно, будто нормальным и прямым мир не был никогда. Например, в работах Филонова я никогда не чувствовал драмы, трагедия не случилась с его героями – они не пострадали оттого, что скривились, они попросту были такими от природы. Что-то было в этом методе от научной работы, от разглядывания насекомого в микроскоп: видишь мелкие детали, они непонятны и волнуют; однако переживания за судьбу насекомого – нет, и зритель не испытывает волнения.
Серия сложных рисунков Додонова была посвящена лагерной теме, он никогда и никому их не показывал – мне показал лишь однажды, всего три листа небольшого формата. Я помню странное, непонятное мне самому тогда чувство – я мечтал увидеть эти работы, тема меня волновала несказанно; но никакого волнения при взгляде на них я не испытал. Полагаю, работы Додонова станут широко известны, он один из самых значительных художников последних лет советской власти. Вероятно, главный урок он преподавал самим своим обликом – несуетливого, достойного человека, совсем даже не художника с виду. Его неспешная, вежливая, но исключительно твердая манера говорить так отличалась от бурного самовыражения пустословов. Я посещал его студию в течение года, и, что было для меня исключительно важно, он и мой отец симпатизировали друг другу. Посещение студии прервалось из-за смерти Евгения Андреевича, впрочем, и учеником его я себя никогда не считал – то были вежливые, уважительные отношения, без страсти, без веры.
Назову также Яна Райхваргера и мастерскую Владимира Вейсберга, которую Ян представлял. Он был любимым учеником Владимира Георгиевича, и через его уроки я познакомился с методом Вейсберга, несколько раз рисовал в его мастерской.
То был довольно забавный метод обучения. Во все цвета добавляли белую краску – ее выдавливали горкой посреди палитры, а вокруг располагали веером основные цвета, в последовательности радуги. Суть метода была в том, чтобы создать единую среду – такое белесое прозрачное марево. Такое марево бывает в новостройках, в пустых комнатах блочных домов – мы все жили в этой атмосфере. Сам Вейсберг создавал эту среду виртуозно, он сумел – и в натюрмортах и в портретах – воспроизвести атмосферу безбытного советского быта, очень дорогую мне атмосферу бедной советской квартиры. На столе стоят странные, ненужные предметы – какие-то призмы, цилиндры, непонятно, ни зачем предметы нужны, ни как это люди с ними живут. Сами люди (у него есть портреты обитателей этих пустых комнат) кажутся почти растаявшими в дрожащем белесом воздухе. Но вот именно такой – прозрачно невнятной и была жизнь. Такой, по сути, она и осталась.
Я отчетливо помню самого Владимира Георгиевича, крупного мужчину, с откинутой назад стриженой головой, с отрешенным взглядом. Помню, он как-то зашел на выставку модных опальных художников, постоял посреди зала, рассеяно посмотрел по сторонам. На нем была одета какая-то линялая рубаха, байковая в клеточку. Я потому запомнил, что мой отец носил точно такие же, эти рубахи перешли ко мне по наследству. Рубаха у Вейсберга была расстегнута на животе, и белый толстый волосатый живот выглядывал в проем рубахи. В. Г. был похож на психа, сбежавшего из больницы – он совсем не соответствовал пафосному духу подпольной выставки. Может быть, так казалось еще и потому, что Вейсберг был настоящим художником, знал это про себя и все это про него знали. В тот вечер он постоял среди зала, поводил стриженой головой справа налево, да и пошел прочь. Он не любил просвещенные компании, презирал хлыщей.
Ученики Вейсберга научили меня держать палитру, а это особая наука, теперь редко кто держит палитру в руке. Палитру следует держать так же бережно, как скрипку, и обращаться с ней надо столь же уважительно – этот урок я получил именно тогда. Я посещал студию почти год, потом ушел – мне хотелось рисовать большие картины, а в мастерской картины были не в чести – вера данного кружка состояла в том, что надо лепить среду, прилежная лепка среды и считалась искусством. Вейсберг и его школа – явление, несомненно, значительное, но мне хотелось иного, я мечтал нарисовать героя.
Позднее, когда я уже писал свои картины, когда я поставил перед собой задачу создать среду и пространство для своих героев, я не раз обращался к тем урокам. Но мне требовалось написать иную среду – мир пустырей и бетонных заборов, тяжелое небо над городом, спертый воздух больниц. Я должен был написать страну лагерей и краснокирпичных бараков, написать – потому что никто этого не сделал, кроме меня. Никто этого не написал – значит, надо было мне. И написать это я хотел так, чтобы отвоевать пространство для отдельно стоящей фигуры, чтобы рассказать о человеке, не растаявшем, но выстоявшем в этой среде.
Я писал свои картины только для себя, и по собственным рецептам. У меня не было ни учителей, ни советчиков – только те зрители, мнением которых дорожил, а они были вовсе не художники. В те годы, когда я учился рисовать, мы смеялись над пресловутым «искусством для искусства» – искусство (и Возрождение, и Ван Гог, и икона показывают нам это) создается для всех людей; если оно не выражает общезначимого, оно не искусство. И главные уроки я получил не от профессиональных художников. Однако время, проведенное в упомянутых московских мастерских, помогло – мне показали, что работать можно, несмотря ни на что. Люди, о которых я рассказываю, не продавали картин, редко выставлялись, были исключительно одиноки. И они имели мужество рисовать, рисовать вопреки признанию, вопреки правилам, вопреки успеху – и ничто их не остановило, только смерть.
Третьим упомяну Сергея Есаяна, фигуру исключительно колоритную – и типичную для диссиденствующей Москвы тех лет.
У него было экзотическое отчество – Арамаисович, и мы называли его Арамисович, да и весь облик его отсылал к приключенческим романам. Помню его танцующим в красной рубахе на столе – он был похож на пирата: чернобородый, большеносый, и двигался он с упоительной грацией.
То была хрестоматийно диссидентская мастерская, в ней собирались иностранные журналисты, опальные поэты, историк Гумилев, гитарист Панин, философ Зиновьев. Приходили восхититься живописью иностранные корреспонденты и меценаты, директора музеев и просто богатые дамы. То была исключительная атмосфера – вероятно, Париж 20-х годов жил именно так: в оглушительной бедности, но с шампанским на столе. Впоследствии выяснилось, что большинство корреспондентов были спекулянтами, парижские меценаты – жуликами, а мнение директора музея ничего не стоит, если банкир и куратор строят иную игру – но разве можно это было предполагать.
Гремело, булькало, звенело, мелькало – и все такое свободолюбивое, что дух захватывает. На творчество вся эта свистопляска действовала разрушительно, но Есаян был настолько талантлив – что, казалось, ему все нипочем. С больной головой – к мольберту. Брал кисть своей длинной узкой рукой, прихлебывал водку, затягивался папиросой (курил только папиросы), раз, раз – и вот на холсте появляется фигура. Никто так не умел рисовать в те годы. Размашисто и одновременно точно он писал свои длинные фигуры изглоданных ветром людей – куда-то они влеклись, эти скелетоподобные существа, по серым равнинам. Собственно говоря, это были первые настоящие большие картины настоящего художника, которые я увидел живьем, увидел, как они пишутся. Важнее всего, что Есаян писал их вопреки всему: моде, начальству, времени, правилам. Он именно что выплескивал эти картины из себя, а чему они там соответствуют – в струе ли они арт-процесса – он и не думал вовсе. Он мог часами говорить о лессировках Рейсдаля, или о том, как Брейгель пишет небо, – и это поражало. Помимо прочего, именно так относился к искусству и мой отец – для него тоже все искусство было одномоментно, все происходило разом – и сегодня, с нами.
Есаян никого и никогда не учил, учеников не имел – он, если угодно, сам был воплощенным искусством, яркий, летящий, виртуозный. И те, кто видел его, проникались ощущением полученного урока. Когда Сергей Арамисович уезжал, мы все были уверены, что имя Есаяна будет греметь по Европе, он не уступал в пластическом даре Джакометти или Муру. Однако ничего этого не произошло. В то время модным и востребованным уже становилось другое искусство – искусство не прямой речи, а закавыченной. Виртуозность Есаяна никому уже не была нужна – а может быть, ему не хватило сил сделать эту виртуозность оружием: было нечто крайне беззащитное в этой его ухарской богемной живописи. Есаян совсем не вписался в новый круг галеристов и кураторов – ироничных, циничных, коммерческих. Он был нормальным великим художником, ему по старинке требовались друзья и поклонники, бутылка на столе, разговор о прекрасном, а отныне такие растяпы уже были не нужны. За ним шли совсем другие люди, строящие карьеру с механической расчетливостью. Помню, как ревниво они провожали Есаяна в эмиграцию: им казалось, что Сергей Арамисович первым дорвется до кормушки, и уже никого к ней близко не подпустит, как поступили бы они сами. Приходил на проводы ныне модный концептуалист, стоял, ревниво поджав губы. Впрочем, потом все успокоилось – Есаян не прославился. Обошлось.
Сергей Есаян умер в эмиграции, умирал тяжело. Безвестность и нищета преследовали его всю жизнь; наверное, в какой-то мере они стали причиной его недуга – думаю, так случилось и с писателем Владимиром Кормером, благополучно забытым еще при жизни. Для меня по сей день остается вопросом: нашел бы Есаян в себе силы еще нечто написать, если бы к нему пришла известность; сумел бы Кормер сказать что-то еще, если бы его книги заметили – или смерть наступила закономерно, просто пришла, когда стало надо прибраться в доме. Кончается искусство, и художник тоже уходит.
Я виделся с ним несколько раз в Париже, в его бедной мастерской, он показывал последние работы, нервничал. Собственно говоря, судьба Есаяна явила печальный урок столкновения чистого искусства с миром художественного рынка, это был весьма наглядный урок. Никогда он не выказывал ни ревности, ни обиды по адресу удачливых коллег-мистификаторов. Лишь в последнюю нашу встречу, и то после пары бутылок вина, сказал горько: «Знаешь, они, по-моему, совсем не любят искусство». И точно, то искусство, которое представлял Есаян – радостное, легкое, виртуозное пластическое искусство, – уже никому не было нужно. В некий момент оно стало не нужно и самому Есаяну. Последние его работы щемящие – он лепил из гипса серую стену блочного дома с квадратиками окон, то ли тюрьму, то ли парижскую многоэтажку. Мне тогда показалось, что это был образ смерти.
Парижская мастерская – в блочном эмигрантском восемнадцатом аррондисмане – была тесная и душная, в ней он уже не смог бы танцевать на столе, как когда-то в Печатниковом переулке. Однако и там он умудрился принять с бесшабашной восточной щедростью: что-то жарил на маленькой плитке, резал помидоры, длинной сухой рукой лил в стакан вино. К нему заходил друг и сосед, художник-эмигрант Рогинский, они говорили на забытом теперь языке подвальных мастеров, непризнанных творцов, они приняли на себя судьбу туберкулезной парижской школы. Причудливым образом московская школа – в ее лучших проявлениях – унаследовала тот бедный парижский шик, да и судьбу этих парижан Есаян воспроизвел. Эмигрант, как они, отверженный, как они, гордый, как они. Он был смертельно болен, бледен, беден – и рисовал.
Кажется, он вынужден был зарабатывать подделками – связался с какой-то темной компанией перестроечных антикваров. В те годы русским нуворишам загоняли километры поддельного Ларионова и сотни фальшивых квадратиков Малевича, целая индустрия была налажена по производству авангардных загогулин и бессмысленных полосок, а богатые болваны вываливали за это огромные деньги. Кто-то привлек Есаяна к этому делу, а ему как виртуозу ничего не стоило нарисовать «под Ларионова». Мне не хочется его ни в чем обвинять: он был удивительным человеком, и прожил понастоящему драматичную жизнь, такую, какая выпала на долю его любимым героям. Так жили художники 20х годов, о которых он любил рассказывать, он буквально повторил их судьбу. Его смял рынок – а сегодня его работы продают на аукционе Сотби. Пройдет время, они станут повсеместно признаны.
Мне хотелось рассказать о Есаяне, о Евгении Додонове, о Вейсберге прежде всего потому, что они воплощали забытый нынче дух московских мастерских – вольных, опальных, благородных.
Я отмечаю этих трех просто потому, что они художники, я связан с ними профессионально, – хотя прежде художников следовало бы назвать философов и писателей, они повлияли на меня куда в большей мере. Прежде всего, Александр Зиновьев, я много писал про него: книга «Зияющие высоты» оказала на меня огромное влияние. Чтобы не повторяться, скажу лишь, что Александр Александрович стал моим близким другом в последние годы своей жизни – и мы провели замечательные часы в моей мастерской. Я долгие годы – пока был мальчишкой, а он жил в эмиграции – хотел заслужить его похвалу, и, когда он стал другом, это было невероятным подарком судьбы. Назову также и еще нескольких, тех, с кем, с кем я познакомился в зрелые годы.
Витторио Хёсле, мудрец и глубокий философ, стал моим близким другом, у него я многому научился. Витторио пришел ко мне в мастерскую на Трехпрудном, когда нам обоим было по тридцать лет (впрочем, кажется, он на год младше меня). Уже в ту пору он был знаменит, приехал в Москву читать лекции в институте философии, и читал, разумеется, на русском – он знает семнадцать языков. Впрочем, в тот первый вечер, вечер знакомства, мы беседовали по-английски, видимо, он проверял, знаю ли я хоть что-то. Мы заговорили сразу же, с первого момента встречи о главном: о важности категориальной философии. И, поскольку это была любимая тема моего отца, я сумел поддержать разговор. Витторио – гегельянец; это очень немодно сегодня. А в те годы, годы упоенной влюбленности интеллектуалов в постмодернизм и деконструктивизм, отрекомендоваться гегельянцем было столь же дико, как сталинистом. Витторио, однако, своей любви к Гегелю вовсе не стеснялся, напротив. Он всю жизнь настаивает на том, что есть объективные истины, и всей своей жизнью подтверждает этот тезис: он объективно добродетелен – и не впускает в свое существо ни тени компромисса. Если послушать Витторио Хесле, то быть хорошим – довольно просто и совершенно логично. Витторио – католик и философ, сочетание для него естественное. Витторио до неприличия прям, дотошно пунктуален, до педантизма аккуратен, болезненно честен, истово любит философию, предан своей семье – короче говоря, он настолько не артистичен, что дружить с ним непросто. Он не может – органически не может – понять бытового вранья («скажи, что меня нет дома»), житейского компромисса, моральной трусости. Его дружба стала для меня и сокровищем – и испытанием. Мне бывало бесконечно стыдно перед Витторио, и я всегда радовался, если мог заслужить его похвалу. Сейчас он директор института в католическом Университете Нотр Дам, Индиана – и, по-моему, занят тем, что пытается возродить Платоновскую академию. Во всяком случае, последняя конференция, в которой я принял участие, была посвящена понятию «красота». Двадцать ученых – они съехались на диспут, как схоласты во времена средневековья – занимались забытым делом: заново искали определение этой ускользающей категории.
Назову еще историка Сергея Шкунаева и итальянского философа Тони Негри. Говорить с ними всегда было большой радостью. Они отличались от Витторио Хесле уже тем, что оба отдавали дань быту и жизни (Витторио, как кажется, живет вне быта, так же как мой отец). И Тони и Сергей принадлежат к тому типу людей, что любят застолья – с Тони мы не раз пили вино на площади Санта Мария Новелла в Венеции, однажды я нарисовал его портрет. Это был простой карандашный рисунок – соавтор Тони, Майкл Хардт поспорил со мной, что я не нарисую портрет за десять минут. Портрет же Сергея Шкунаева я оставил прежде всего в книге «В ту сторону», но также и в большом романе – он изображен под именем Сергея Ильича Татарникова. Сережа действительно походил на татарник, так как описал его Лев Николаевич в «Хадже Мурате»: неуживчивый, неудобный, непреклонный в своих мыслях и пристрастиях. Ни карьеры, ни состояния этот человек сделать не сумел, он жил в бедности, упрямый и достойный, побежденный жизнью, из тех, кого новое поколение бизнесменов презрительно именует «лузерами». Он проиграл, и мне радостно сознавать, что свой проигрыш он встретил как победу.
Пустые годы
Прежде – в глухие брежневские годы – независимых художников не выставляли, были разве что полуподпольные выставки. Независимые (то есть независимые от признания властью, но зависимые от мнения иностранных знатоков и авторитетов в своей среде) создавали собственные правила, позволяющие учредить иерархию внутри своей социальной страты. Необходимыми компонентами биографии были коллективные манифесты, групповые независимые выставки, иными словами – участие в альтернативном художественном обществе. Никто не собирался быть вполне изгоем, хотя иные и называли себя изгоями. Вовсе выпасть из социума не хотели, нет, перетекли из одной общественной страты в другую, столь же строго оформленную. Как во всякой иерархированной среде, довольно быстро критерием стала не сама работа – но лояльность к среде. Преувеличивали значение товарища, зная, что он ответит тем же, – и упрекнуть за это трудно: так выживали.
Я был едва ли не самым молодым участником подпольных выставок и невероятно гордился. Мы привозили свои опусы в подвалы и на чердаки, звали восторженных зрителей, нам казалось, мы создаем историю.
Художники так называемого андеграунда вспоминают подпольные выставки как события героические. Время это достаточно успешно мифологизировано, участники рассказали много потрясающих воображение историй, почти все эти рассказы – лицемерие и вранье. Героического было крайне мало. Практически вся энергия уходила на дикое пьянство, хвастовство, полуночные посиделки, общение с иностранными корреспондентами. Никакого академически продуманного труда в те годы не существовало, более того, само понятие труда было извращено. Трудом стали называть одномоментную акцию – вопль, свист, линию, небрежно проведенную по доске. Выставляли недоделанные, среднего качества, наспех намалеванные работы, девяносто девять процентов которых не имело никакого смысла. Но каков же контекст! Никто из творцов ничего не читал, кроме журналов по современному искусству и двух случайных книг, это были невежественные, амбициозные люди – но люди красивые и страстные, убежденные в интеллектуальной значимости сделанного. И действительно, с оппозиционным режиму искусством происходила любопытная вещь – оно, подобно зеркалу, отражало значение того, что опровергало; так бумажные деньги объявляют себя эквивалентом стоимости товара. Бессмысленные поделки наполнялись исключительно значимым содержанием, противостоя продуманному советскому режиму: историческое значение социалистической диктатуры как бы присваивалось теми, кто ее отрицал, стоимость отвергнутого постулата присовокуплялась к опровержению. И очень скоро протестное андеграундное творчество стали называть «новым искусством», «вторым авангардом», эта деятельность обрела статус классики. То была виртуозная интеллектуальная спекуляция, завершившаяся крайне удачно – то есть, как сказали бы теперь, это была «удачная сделка». Многих авторов позвали работать на Запад, в том числе позвали и меня. Мне несказанно повезло, мои картины сразу же приобрели музеи, сначала один музей в Германии, потом еще и еще, потом музеи в других странах; то была удачная карьера. Я ходил по чужим городам пьяный от капитализма и успеха. Я ведь это заслужил, говорил я себе, разве нет?
Богатые пожимали мне руки, и я купался в заслуженном успехе. Я ведь заслужил, говорил я себе, я же честно работал, а теперь они меня признали, что может быть естественнее?
Вопрос был прост: а что теперь, что дальше?
Период – примерно с 1991-го по 1999 год – я сам считаю пустым. Нет, я сказал не вполне точно. Я, пожалуй, написал несколько хороших картин, но и слишком много картин случайных, сделанных наспех. Я все время куда-то торопился – выставка за выставкой, музей за музеем, я попал под обаяние идеи о современном процессе искусства, идеи чрезвычайно пошлой. Вообще говоря, искусство никуда не торопится, оно просто пребывает – только так у него есть шанс что-то разглядеть вокруг себя. А я рисовал и рисовал – мне казалось, я уже знаю достаточно, мой опыт и так велик – остается лишь его зарисовать. И это состояние пьяного самодовольства длилось лет пять или шесть. Удивительнее всего то, что эта торопливость касалась лишь продвижения внутри самой профессии – знания о мире убывали в обратно пропорциональной прогрессии.
Помню себя и своих коллег – людей симпатичных: как истово мы обсуждали проблемы ценообразования в современном искусстве, сколь важным, принципиально важным казался нам этот аспект. Никто не улыбнулся, не взглянул на себя со стороны. И никто не сказал нам: опомнитесь – вы же не сделали ничего выдающегося, ну просто помазали немного краской. Так себе деятельность, не шибко героическая. «Архипелаг» не написали, «Сикстинскую капеллу» не создали. Неужели вы и впрямь считаете, что мир вам что-то должен? Услышь мы это тогда – о, как мы бы возмутились! Мы бы нашли что возразить! Мы, носители свободного духа, мы, говорящие из-под глыб, мы, возвысившие свободный голос в дикарской стране – разумеется, мы должны быть отмечены по заслугам, вот что! С какой серьезностью авторы небрежных поделок относились к своему существованию, к своей роли в искусстве! Главным следствием этого уважительного отношения к своим свершениям стал новый круг знакомств. Прежде в зрителях у так называемых авангардистов ходили так называемые интеллигенты – но то было во времена нищеты художников. Когда же цены на картины сделались высоки, то и ценители (приобретатели) творчества подобрались соответственные. Теперь ими стали жирные финансисты, верткие дамы, ввинченные в определенные круги, пронырливые чиновники, циничные учредители фондов, держащие нос по ветру кураторы современного искусства, – одним словом, люди не особенно с интеллектуальной точки зрения состоятельные, но безусловно состоятельные со всех иных точек зрения. Если характеризовать новую среду обитания художников кратко – она стала темной и вязкой, интеллектуально ущербной, постыдной. Но признаться себе в этом было совсем не просто.
Художники осваивали привычки и тактику общения сильных мира сего, они оказались включенными в ценности большого, взрослого мира. Они учились говорить о вине, делать вклады в банки, придираться к официантам в ресторанах, освоили принципы торговли, они пристально следили за модой, умели поддержать светскую беседу о современном искусстве. И никто не сказал себе, что это бездарное времяпрепровождение.
У меня был хороший случай проверить, насколько эти благоприобретенные навыки пригодны в общении с порядочными людьми. В 1994 году я приехал в гости к своему другу философу Витторио Хесле (мы сдружились в 1988-м, иногда навещали друг друга, переписываемся же постоянно). Витторио преподавал тогда в университете города Эссена. Мы сидели допоздна в маленькой квартирке, заваленной книгами, пили жидкий чай, и моих рудиментарных, еще не вовсе позабытых знаний хватало, чтобы поддержать разговор – но я почувствовал, что разговор дается с трудом. Конечно, воспитание и семья еще помогали, я еще мог вспомнить кое-что из прочитанного, но сколько же времени и сил я уже отдал дряни – и как больно было осознать это в присутствии светлого Витторио. В доме не было обильной еды, не было украшений, хозяин ничего не знал о бордоских винах, он был совершенно наивен в области моды, он напомнил мне моего отца, умевшего в жизни лишь думать о философии, но не представлявшего, как наладить карьеру современного философа. Витторио служил мысли – и ничему кроме мысли, он был совершенным рыцарем – таким, каким в принципе и должен быть интеллектуал Запада, художник. Только художник давно перестал быть таким, а стал вертлявым лакеем. В принципе мне всегда было достаточно примера моего великого отца – но Витторио помог тоже. Я вышел из его маленькой комнаты, стоял в университетском дворе и не мог даже дышать, задыхался от стыда за поганую художественную жизнь. Однако надо было работать – готовиться к очередной выставке, впереди были новые вернисажи, как же пропустить?
Только когда началась бомбардировка Белграда в 1999-м – я очнулся окончательно. Мир менялся стремительно, я вдруг почувствовал себя слепцом, изображающим перед другими художника, то есть того, кто воплощает острое зрение. В тот апрельский день я сидел в холле гостиницы с очередным коллекционером – после Венецианской биеннале их появилось много, и я упивался минутами славы. И ведь предлагал я не пустые картины (так говорил я себе), отнюдь нет – я показывал людям историю моей родины, проблемы тоталитаризма. Помню, мы обсуждали как раз что-то такое свободолюбивое с богатым шведом в холле гостиницы – и на экране большого телевизора возникло изображение Белграда. Мне стало нестерпимо стыдно – за бездарно прожитые последние годы, за фальшивое соревнование с фальшивыми людьми, за всю эту художественную карьеру, бесконечное вранье, вранье, вранье.
Краснофигурные композиции
Может быть, самым важным из того, что сделал, являются большие композиции – «Государство», «Восстание пигмеев», «Две версии истории», «Руины империи», я бы определил эти картины как «краснофигурный» период, термин, разумеется, использую по аналогии с античными краснофигурными вазами.
Рисуя эти композиции, я исходил из простой посылки: я анализирую тоталитарное государство, изображаю жестко сконструированные страты, то есть как бы иллюстрирую Платона – что же более соответствует Платону, нежели эстетика краснофигурной вазы? Я писал структуру Государства, концентрические круги общественных страт, детерминированный казарменный мир. Поскольку красный цвет – есть цвет России и революции, мне показалось крайне уместным представить наше общество в виде краснофигурной вазы – там, где изготовляют идеи социальных устройств, могла быть изготовлена и такая красивая – хотя и бесчеловечная – поделка. Во всяком случае, можно было попытаться представить казарменную идею в виде прекрасной конструкции.
Картина вообще должна быть красивой. Предмет изображения может быть печальным, даже трагическим, но картина обязана быть красивой – в этом и есть смысл искусства, таким образом оно и выполняет свою задачу – преодолевает беду. Крестные муки Спасителя – тема невеселая, однако изображения страданий сделались темой картин, которые прекрасны и даже нежны. Значит надо писать так, чтобы самый отчаянный сюжет, самое болезненное высказывание перешли в область эстетики – и перевели проблему из бытовой в метафизическую. В «Расстреле» Гойи есть фигура казнимого – он раскинул руки, подобно Христу на распятии. Пронзительный белый цвет его рубахи горит как огонь – своим сиянием этот свет изживает горе события, выжигает страх, наделяет силой. Я бы хотел суметь написать такой красный, чтобы он горел, как этот огонь.
Я старался нарисовать символ, обобщенную формулу общества, но сделать это предельно реалистично – как по отношению к тому, что происходит, так и по отношению к реальности самой концепции государства, сформулированной еще в период краснофигурных ваз. Мысль – она ведь имеет форму, она есть эманация, исходящая от эйдоса, от высшего разума, и оформляющая себя через предмет или событие, через чувство, через логическую конструкцию, которая в свою очередь имеет зримое выражение. Например, можно нарисовать концепцию Маркса, данная концепция имеет зримый образ – в этом заявлении нет ничего экстраординарного. Скажем, поэт Данте явно и осязательно представлял себе устройство вселенной, настолько явно, что художнику Боттичелли большого труда не составило повторить дантовский образ – и это дает нам убедительный пример того, что подлинно ясная мысль поддается изображению. И разве самый вид человека (созданного, как известно, по образу и подобию Божьему) не доказывает того же самого?
Иными словами, художник должен проделать путь обратный тому, который описывает Платон, говоря о движении воспоминаний. По Платону, художник изображает тень тени, поскольку самый предмет есть лишь воплощение тени, отброшенной на экран нашего сознания (так назовем платоновскую пещеру). Столяр делает стол, который воплощает идею стола, а художник создает представление о воплощении идеи стола, или – изображает тень тени. (Сам того не ведая, Шекспир воспроизвел это движение теней в диалоге Горацио и Гамлета: «Значит, наши нищие суть лишь тени теней»).
Христианский художник исходит из того, что образ являет собой полноправное единение как самой идеи, так и ее телесного выражения – это нам явил своим бытием Христос. Собственно говоря, художественный образ проживает тот самый цикл, который завещан нам земным бытием Спасителя – и вне этого цикла христианского искусства не существует.
Данный парадокс составляет интригу ренессансной эстетики – будучи по своим интенциям платоновским искусством (художники находились под влиянием Марсилио Фичино и Платоновской академии, изображали античные сюжеты и т. п.), ренессансная картина являет образы такого рода, которые в принципе противоречат Платону. Образ существует вне и помимо иерархии, он отменяет платоновскую иерархию нерасторжимым единением самой идеи и ее воплощения.
Яснее всего это видно в «Триумфах» Андреа Мантеньи. На огромных холстах движется пестрая процессия пленников и конвоиров, шествующих в триумфе победительного цезаря. Эта бесконечная череда пестрых фигур являет нам буквальную иллюстрацию концепции Платона (согласно которой наше сознание улавливает тени «далеких торжественных процессий», проходящих мимо пещеры, в которой мы обретаемся, и наше сознание и есть лишь тень тех пышных процессий). Движется бесконечная толпа, воплощая собой величие государства – вот это именно чувство сопричастности движению и должно бы напитать наше восприятие: мы есть часть огромного триумфального процесса – и только. Однако толпа, изображенная Мантеньей, не есть просто символ, как то было бы выполнено в эстетике платоновского времени; толпа состоит из живых образов – из страдающих, униженных людей и их тщеславных охранников, из пустоглазых триумфаторов и поруганных женщин, из золотых кумиров, из порушенных судеб, из суеты и слез одновременно.
Я привожу эти великие примеры искусства только лишь для того, чтобы ясно обозначить, что именно я брал за образец, – я отчетливо понимаю, насколько я далек от своих учителей. Но учиться следует только у великого.
Сломанное дерево
Под окном моей московской мастерской растет тополь, кривой, корявый, изуродованный молнией. Однажды, во время большой грозы, в него ударила молния, осталась лишь половина дерева, но каким-то невероятным усилием дерево продолжало расти. Оно похоже на человека, изувеченного судьбой, но превозмогшего все – и распрямившегося. Я всегда пишу этот сломанный тополь – всякий раз, возвращаясь в московскую мастерскую, начинаю работу с того, что пишу это кривое мужественное дерево. Оно для меня – символ стойкости, символ сопротивления; когда пишу его, думаю о тех прекрасных стойких людях, которых знал и памяти которых хочу быть достойным.