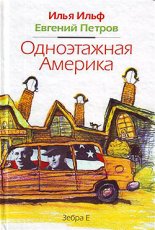Массажист Куберский Игорь

«Пусть тебе приснится Пальма-де Мальорка…»
Из песни
1
Шеф остался в казино, где уже успел просадить двадцать тысяч баксов, и теперь, естественно, будет играть, пока не вернет хотя бы одну. Меня с Макси он услал на борт. Она ему явно мешала. Из-за нее он поставил не туда. Он послал ее на три буквы. Она обиделась, но не ушла. Он подозвал меня. Я вышел с ней на улицу. Вокруг стояла жирная ночь, над головой – жирное небо с жирными звездами. Жирная вода, почти без движения. Макси спотыкалась на своих высоченных каблуках и материлась почем зря. Она его ненавидела. Она ненавидела, когда он посылал ее на три буквы. К сожалению, в последнее время слишком часто. Она вспоминала о своей бедной мамочке из Вятки и о бедном русском народе, который голодает. Она давно не была дома и считала, что там по-прежнему голод, который, собственно, и погнал ее на Запад. На Западе ее жизнь не очень-то задалась, она работала стриптизершей в разных странах, имеющих отношение к Средиземноморскому бассейну, – она любила тепло и море – в Барселоне мой шеф на нее и запал.
Макси – потому что по батюшке Максимовна – красивая девица, не спорю. Но не в моем вкусе. Точно копия куклы Барби, только живая, говорящая. Совершенно непонятно, каким образом производит таких живых Барби наша глубинка. Но это факт. Говорил же старик Достоевский, что русская душа открыта настежь всему западному, или как-то так. Такой западной Барби не встретишь и на самом Западе.
Почему не в моем вкусе? Кукла – она и есть кукла. Но шеф к ней привязан. Маленькие некрасивые мужчины только с такими, как она, и преодолевают свои комплексы. Можно сказать, что он ее любит. Она же его – нет. Поначалу, может, любила. Дорогие тряпки, отели, рестораны, отдых на Маврикии, на Галапагосах… Как тут не полюбить. Но теперь – нет. Теперь она вспоминает свою Вятку, какого-то Кольку, одноклассника, и то и дело задерживает взгляд на моих бедрах, на животе. Все это у меня покрыто мускулами, каких нет у шефа, худосочного и сизо-белого, как процеженное молоко, несмотря на Маврикий и Галапагосы. Просто кожа шефа не воспринимает солнце – удел всех рыжих, когда летний вариант отличается от зимнего лишь количеством веснушек.
То, что Макси тайком посматривает на меня, мне не нравится. Женщины – это всегда головная боль. Они очень часто живут самочувствием своего лона. Что такое вагина? Незаживающая рана, мокрая и смертельно опасная, там вечно варится какое-то варево, зелье, и ничем этот дьявольский процесс не остановить. Там готовится яд, которым потом пропитывают яблоко, протянутое тебе. Попробуй, красавчик…
Макси продолжая материться, занимает нос в резиновой лодке о двух сумасшедших моторах, я завожу один из них. Он утробно взрыкивает, как тигр в джунглях, и спустя минуту мы на яхте. Она стоит посредине бухты – вокруг на нитку набережной нанизаны сверкающие бусины света. Это ожерелье огней, где бы мы с шефом ни останавливались, всегда волнует меня. Мне кажется что за ними, огнями, другая жизнь, не чета моей. Другая, настоящая. Как будто еще минуту назад я не был там собственной персоной. Так устроена наша психика – счастье, тепло, покой – всегда на расстоянии взгляда, но не рядом, не с нами.
На яхте один лишь шкипер Саид, турок из Измира, знающий по-русски сто самых необходимых слов. Измир – значит, Смирна, древнегреческие дела. Все турецкое побережье – это Древняя Греция. Там куча памятников. Не понимаю, как греки смогли с этим смириться. Саид немного с приветом, чем напоминает мне аборигенов Балеарских островов, где мы теперь болтаемся. Все островитяне (а Саид родился на Лесбосе) таковы. Инцест, нехватка свежей пришлой крови. Привет Саида выражается в необычайной улыбчивости – его можно принять за просветленного, он всегда всему рад. Жизнь как бы преподносит ему бесконечные подарки. Можно позавидовать. Ведь жизнь – это то, что мы о ней думаем, а вот какая она на самом деле? Может, на самом деле ее и нет вовсе. Когда я буду старым, я поселюсь где-нибудь здесь, на Мальорке. А пока… Пока я служу шефу. Я его бодигард и массажист по совместительству. Раньше у него было еще два охранника, но я всех пережил, точнее – выжил. У меня куча преимуществ – не пью, не курю, не сорю деньгами, к тому же я ни разу не спал с его телками. Шеф платит мне пять тысяч баксов в месяц – этого здесь вполне хватает, а в России я и вовсе кум королю.
Я говорю Саиду, чтобы отогнал лодку к причалу и ждал шефа. Саид уплывает, подарив нам улыбку счастья. Любое поручение вызывает у него экстаз. В темноте растворяется белая грива взбаламученной винтами воды. Как борода Нептуна.
Жирное небо в жирных звездах.
Макси цокает каблуками возле бара, делает себе коктейль – «мартини», содовая, еще какой-то ликерчик. Ее любимый букет – чтобы послаще и подушистей.
– Выпьешь со мной? – поднимает она в мою сторону бокал.
Я отрицательно мотаю головой. Могла бы и не спрашивать.
– Выпей со мной, пай-мальчик. Шеф не возражает, чтобы ты выпил со мной. Давай! Расслабься. Сколько можно бдеть? Крыша поедет. Будь мужиком.
– Я не пью не из-за шефа.
– Что, здоровье бережешь?
– Мне нравится быть трезвым.
– На, расслабься.
Макси с двумя полными фужерами подходит ко мне и наставляет на меня полушария своих едва прикрытых снизу грудей. Я знаю, что они идеальны. Она привыкла загорать нагишом. Но я никогда ее не хотел. Мне кажется, что вместо лона у нее машинка с вибромассажем. Машинка с десятью или сколько-то там ритмами вибраций. А лоно – это личина, нет, больше – личность. У дуры и лоно глуповато. В сексе я не размениваюсь на пустяки. Макси для меня пустяк, пустячок, пустышка. Я не торчу от красоток. Мне нужно другое. Чтобы было что-то в глазах. Мне нужна любовь. Я, может быть, последний романтик среди этого тотального блядства.
С берега под цветовые вспышки с фасада казино доносится сумасшедший гитарный перебор Пако де Люсии, крутится вертушка огней, кто-то еще подъезжает на крутых тачках… Когда это кончится, господа? Когда наконец вы промотаете свои состояния?
Казалось бы, уже давно распался союз нерушимых республик свободных, а я все не могу привыкнуть, осознать, что у нас больше нет той страны, той, по которой я привык колесить с юности. Ташкент, Ереван, Алма-Ата, где проходили всесоюзные соревнования, Рига, Таллин, Киев наконец, а еще Крым, где было столько всего… Ничего этого для меня больше нет. Моя родина обнищала и распалась. Моя родина похудела. Раньше она очертаниями своих границ походила на быка, теперь – разве что на тупоносую гиену. Даже Макси наполовину хохлушка, – это с Украины у нее такие распахнутые очи, такой тугой и звонкий, как бубен, зад. Если бы шеф захотел, Макси могла бы смело конкурировать с претендентками на звание Мисс Европа и Мира. Но он этого не захотел. Он держит ее взаперти, только для себя. А у Макси получилось бы. У нее все для этого есть. С точки зрения формы. Вообще сейчас время форм, красивых форм. Содержание не обязательно. Форма – это и есть содержание. Красиво? Оу, йес!
Такие, как Макси, встречаются раз в десять, ну, пусть даже в пять лет. И вот этот раритет стоит передо мной, нацелив в меня снаряды своих грудей, и хочет непонятно чего. Просто внимания? Женщина всегда претендует на внимание. Женщина осознает самое себя, лишь когда на нее смотрят, когда она нравится. Она материализуется под взглядами. Она гораздо эфемерней мужчины. Эфирное созданье, она готова жить в мечтах. Женщина несамодостаточна. Потому и такая головная боль от нее. Она все время теребит тебя. Она открыта и ждет, чтобы ее чем-нибудь поскорей наполнили.
Я решительно мотаю головой. Пить я не буду. Одна почка у меня не совсем на месте. Точнее, она – блуждающая. После одного эпизода моей спортивной карьеры она покинула свое законное место и теперь блуждает, знакомясь с другими органами моего тела. Где она теперь, я не знаю. Возможно, в тазу, за мочевым пузырем, на который она поддавливает. Я всегда помню о ней. Иногда на меня находит страх – а вдруг она совсем оторвется… Зачем же гробить ее коктейлем. Представляю себе гримасу почки, когда она примет эту порцию яда.
Макси оскорбленно отходит от меня, залпом выпивает содержимое фужера и говорит голосом оскорбленной капризули, готовой, если что не так, настучать шефу:
– Ну хорошо… тогда сделай мне массаж, – и боясь, что я откажусь, торопливо продолжает с просительными нотками, – у меня спина болит. Правда… И в сердце отдает. Сегодня я как-то не так нырнула. Спиной ударилась.
Спиной? Когда это она ныряла? Вроде, целый день рядом провели. Я сам любитель рассечь водную гладь, нырнув с борта, с перил, поскольку выше – неоткуда. Спина – это серьезно.
– Что же ты молчала? – озабоченно спрашиваю я.
– Потому что днем спина не болела, – оживившись, говорит Макси, охотно спускаясь по лесенке в каюту.
– Подожди, только душ приму, – продолжает она, – а то я потная. Тебе будет неприятно. – Она делает паузу, на тот случай, если я скажу, что мне наоборот – более чем… Но я молчу.
«Какая забота о моих чувствах», – молча усмехаюсь я, надувая миниатюрным электронасосом довольно внушительный матрас, бархатистый на ощупь. Неплохая штука для массажа, но для сна – не сказал бы. Позвоночник – пациент довольно капризный. Для него нет идеальной поверхности. Для каждого позвоночника она своя, особая. А двух одинаковых позвоночников не бывает.
Макси выходит, обернутая толстым махровым полотенцем, спокойно обнажившись, расстилает его на матрасе и долго укладывается сверху, так чтобы у меня было время рассмотреть все ее неповторимые прелести. Как будто мы их не знаем. Она делает вид, что выполняет неприятную, но неизбежную процедуру, – я же вижу, что ей не терпится ощутить на себе мои ладони. Она любит массаж. От первых моих прикосновений она впадает в транс. Можно брать ее голыми руками. Такова реакция многих женщин. Они как подопытные морские свинки запрограммированы на определенные раздражители.
Я уже сказал, что тело у Макси, как у… Нет, кукольным его я все же не назову. Оно живое, упругое, ягодицы дышат телесным теплом, вымытая промежность благоухает лавандой, ступни шелковые, атласная кожа. Короче, наша Маша лучше всех.
Я начинаю с позвоночника, но она, глубоко вздохнув, мурлычет:
– Ножки. Сначала ножки. У меня ножки устали, ломит…
– Поменьше на каблуках ходи, – ворчу я. Мне тоже приятно прикасаться к ней, но я это скрываю.
Я охотно возвращаюсь к ее розовым пяткам на перламутровых незагорелых подошвах, к гибкому своду стоп, глажу, разминаю хрящики… У голеностопа довольно сложная конструкция – больше сорока одних только суставов и связок. Пальцы ног, особенно межпальцевые поверхности чрезвычайно чувствительны – от них к гениталиям поступают прямые сигналы. Есть женщины, кончающие от оральной ласки стопы. Но в нашем случае это исключено, хотя, думаю, Макси не возражала бы. Что-то она сегодня перевозбуждена. Накануне месячных, что ли? Похоже, шеф последнее время не выполняет с ней даже мужского минимума, и наша Макси нервничает. Но я шефа понимаю, у него неприятности, они накатывают одна за другой из России, из Думы и правительства, где у него серьезные связи, которые теперь рвутся по воле нашего президента… Именно через контору шефа в эти дни должен пройти огромный транш – якобы на обустройство культурной среды Великого Новгорода, откуда шеф родом, а по сути – на поддержку игорного бизнеса, отцом которого он там и стал. Вот так – в него вливают деньги с расчетом на крупный откат, а он их выливает почем зря в местном казино…
Пальцы ног у Макси чуткие, она вздрагивает, как от щекотки, и я чувствую, как мои прикосновения отзываются сладким спазмом в ее лоне. Что-то я не о том сегодня. Пора в дорогу, в открытое море. Здесь мы явно засиделись.
– Умираю, – мурлычет себе под нос, уткнувшись этим носом в полотенце Макси, а я, покончив со ступнями, неспешно продвигаюсь вдоль ее стройных ног, загорелых и идеально эпилированных – ни одной волосяной иголки – все выглажено, выщипано, вылизано до невозможности, нежные венки в подколенной ямке чуть вспухли да и икроножные мышцы в тонусе. Я активно разминаю их.
– Ой, полегче!
– Ноги портишь, – говорю я. – Ходи в кроссовках или босиком. Весь день на каблуках – все равно что на цыпочках. Никакая стопа не выдержит. Лет через семь развалится. Инвалидом будешь.
– До тридцати я не доживу, – постанывает она, не в силах противостоять агрессивной ласке моих пальцев.
– Что так?
– Убьют меня, Андрюша. Или сама убьюсь.
– Если кого и убьют, то это меня. Профессия у меня такая убойная. А тебя, – я уже принялся разминать ее бедра, – тебя, если что, просто возьмут в другой гарем.
– Какая гадость… – бормочет она, и я уже не знаю, к чему это относится. По интонации ее голоса, однако, ясно, что жить она собирается долго и счастливо. Как бы не касаясь грешной земли, не спускаясь на нее с высоких своих каблуков. Ей всего двадцать четыре года, а уже Средиземное море, Балеарские острова. Неделю назад в Ибисе, где одни нудисты, она была королевой пляжей, пока шеф не прознал, после чего тут же велел поднять якорь.
Так я добираюсь до области ягодиц и слышу капризное:
– Помассируй попку…
Не в пример ногам, это пока ее самое благополучное место, тут никаких проблем – сплошное великолепие персиковых половинок. У Макси, как, впрочем у большинства женщин, зад весьма чувствителен к тактильным касаниям, и я стараюсь притрагиваться к нему так, чтобы не вызывать эротических последствий. Тщетно. Макси рефлекторно выгибается, приподнимая, вернее, топыря ягодицы, чуть раздвигает ноги, словно чтобы охладить вместилище плотских утех, и оно, это вместилище, тихо, но внятно чмокает накопившейся в ней влагой желания, и до моих не совсем бестрепетных ноздрей доходит сложный аромат этого выдоха, тонкая смесь искусственных парфюмов с естественным запахом лона, отчасти морским, устричным… Между прочим, обожаю устриц. Пища богов! Много ли нужно для счастья? Тарелку креветок на обед и дюжину устриц на ужин. Считается, что устрицы незаменимы для потенции; есть даже известный анекдот, про то, как из семи съеденных устриц подействовала только одна. Но я не о сексе, я о пищеварении – в устрицах сконцентрирован в наилучшем для потребления виде протеин, а кроме него – чуть ли не вся периодическая таблица элементов Менделеева, весь питательный, строительный и целительный материал для благополучия нашего организма.
Чмокнув лоном, Макси приподнимается на локтях, поворачивается ко мне лицом и садится – ноги согнуты в коленях, и то, что она хочет мне показать, я вижу вполне отчетливо.
– Куда? Я еще не кончил, – говорю я.
– Можешь кончить в меня, – говорит она, – сегодня безопасно.
– Как-нибудь в другой раз, – улыбаюсь я. Я верен шефу, блюду кодекс преданности, ибо знаю, предай я хоть раз, пусть даже в мыслях, когда никто ничего не узнает, и рано или поздно эта моя тайная подлянка обернется против меня же явной бедой. Это как в дзюдо – чуть ошибся, и ты уже летишь через бедро противника. А я дорожу службой у шефа. Она ведь выражается не только в моей зарплате, но и в его абсолютном и безоговорочном доверии ко мне. Это доверие я заработал шестью годами безупречной службы и теми своими – горжусь! – маленькими должностными подвигами, которые, несомненно, украсили нашу мужскую дружбу.
– В другой раз, – повторяю я, пальцем показывая ей, чтобы она снова перевернулась на живот и подставила мне спину, которая у нее не в идеальном состоянии.
– Да ладно – пошутила, – отмахивается Макси. – Дай-ка фужер – там еще сладенькое на донышке.
Я беру с полки ее фужер, протягиваю ей и беру себе второй, от которого было отказался. Я действительно не пью, то есть почти, ну разве что позволяю себе немного сухого. А эти коктейли… Но «мартини» жалую, тем более что на сегодня, вроде, больше никакой работы не предвидится. Саид сам привезет шефа. А мне остается только закончить с Макси.
Я делаю большой глоток и приступаю к спине, точнее – к пояснице, к талии, которая у Макси слишком узкая для мышц, поддерживающих верхнюю половину тела с этим красивым разворотом плеч и шикарной, почти чрезмерной грудью. Макси прогибает спину, как кошка, которую гладят, каждый раз при этом оттопыривая и без того оттопыренный зад, и до моих ушей ритмически доносится нежный хлюп ее лона. Дразнят меня, что ли? Сквозь мои мозги проходит розовая волна и мне становится жарко. Я выпрямляюсь и открываю иллюминатор. Так-то лучше. Плеск под днищем, отдаленный шум с берега, всегда волнующий, когда ты на воде.
– Ну, где ты там? – раздается капризный голос Макси.
Я возвращаюсь к ней, послушно кладу руки ей на спину, на трапециевидные мышцы, которые у нее так хорошо развиты, что образуют впадинку вдоль позвоночника, покрытую сейчас испариной. Макси, видимо, тоже жарко. Я собираюсь помассировать эти мышцы, но вместо этого нагибаюсь и провожу языком по всей длине солоновато-влажной ложбинки. От этого вкуса, от всех этих ее феромонов у меня кружится голова.
Макси замирает, как всегда, когда ей приятно, а я, протянув руку, на ощупь нахожу свой фужер и последним глотком решительно освобождаю его от содержимого. В мозгах приятное кружение, а еще – будто подносят изнутри к глазам прозрачные розовые покрывала. Давление что ли меняется? Может, к дождю? Дождь я предсказываю за день – когда будто ложечкой помешано в моей голове. Но в летней Испании дело редко заканчивается дождем – видимо, он испаряется, еще не долетев до земли. Однако этот глоток, полный сладкой пряности и еще каких-то едва уловимых привкусов, этот непонятный вкусовой букет вызывает во мне целое море совершенно неожиданных мыслей и настроений, будто вкус вкупе с запахом – это мемориальная дорожка в наше прошлое, на которой сохранились все наши следы, – нет, не дорожка, а сам лазерный луч, считывающий с диска минувшего все лучшие наши мгновения. Я наклоняюсь и снова веду языком от лопаток к ягодицам. Макси молчит, словно ее вполне устраивает происходящее. Как ни странно – теперь оно устраивает и меня. В голове у меня разгорается розовый свет, звучит музыка…
Редкостное телосложение Макси, атлас ее ягодиц, их податливая упругость, муар душистой промежности – все это имеет качества эксклюзива. Я сажусь сверху на Макси чуть ниже ее ягодиц, как обычно сажусь для серьезного массажа спины, и в этот же миг слышу на берегу выстрелы.
– Шеф! – восклицаю я, спрыгивая на пол. Секундой позже она тоже на ногах. Испуганно мы смотрим друг на друга. Мы рабы в услужении, вассалы и верные слуги, мелкие безымянные члены его семьи. От нас ничего не зависит, цена нам – ноль, а шеф бесценен и от него зависит все – не только наше благополучие, но и сама наша жизнь. Мы слишком хорошо понимаем это и почти одновременно вылетаем на палубу.
Почему мне кажется, что это с шефом? Потому что это с шефом. Потому что стреляют только там, где игра по-крупному. Потому что я предупреждал шефа, что нам не надо останавливаться в Мальорке, где уже навалом русской криминальной шпаны. Потому что… Да, потому что мы – я и шеф – связаны невидимой ниточкой, и когда у одного из нас проблемы, другой это чувствует. Богу было угодно, чтобы мы встретились и пошли рядом по жизни. Так шефу нагадали его духи, с которыми он уже давно общается. Кто-то может сказать, что это бред, блеф, мистика, но так было, и их пророчества стали его путеводной звездой. А нагадали ему, что он, бедный инженеришка с телевизионного завода, производящего плохие телевизоры «Садко», станет однажды богатым человеком, очень богатым.
Что происходит там, на берегу, отсюда с расстояния в метров триста, не разглядеть. Все так же крутится световое колесо казино на фоне водопада иллюминации да сверкает опоясывающее бухту ожерелье огней, за которыми угадываются дорогие особняки.
Первой моей мыслью было выбрать якорь и подогнать яхту к берегу, но шеф категорически запретил швартоваться у пирса – из-за той же русской мафии, и теперь я разрывался между желанием придти ему на выручку, нарушив приказ, и опасением, что этим я могу оказать шефу медвежью услугу. Ведь на самом деле он был много хитрее и предусмотрительней меня – недаром Рак по Зодиаку.
Я набрал номер его мобильника – «аппарат временно выключен». Что это могло означать? Почему он его выключил? Это означало только одно – что он не может его включить… У Саида трубки не было. Что же делать? Макси металась рядом и стонала, держась за голову:
– Его убили! Я чувствую, его убили!
– Замолчи! – рявкнул я, вслушиваясь в тишину. Странно, что до сих пор не прибыла полиция – ни сирен, ни мигалок. Может, нам показалось, и это не выстрелы вовсе, а петарды, которые выпустил какой-нибудь отморозок, проигравшийся в пух, или наоборот, сорвавший Джек-пот. Испанцы помешаны на петардах. Ну да, кто-то что-то отметил на радостях, пальнув в жирное ночное небо, полное жирных звезд, а заодно спугнув меня, чуть не совершившего нечто непотребное…
Но утешающий поток новых соображений не успокоил меня, не снял груза с сердца – оно было явно не на месте. И тут я услышал, как вдалеке рокотнул, заработал мотор, – похоже, на нашем резиновом глиссере, и спустя мгновение я увидел белый бурун, пересекающий длинные отражения береговых огней.
– Это они? – вглядываясь вместе со мной в темноту, спросила Макси.
– Да, – сказал я.
Я посигналил фонариком, но мне не ответили. Тревога не отпускала меня. И не случайно.
…Шеф сидел на днище, прижавшись спиной к надувному борту и согнув коленки к груди, маленький, чуть не ребенок. Левой рукой он управлял мотором, а правой через плечо пытался ощупать спину. Пиджака на нем не было. Шефу было больно, и он рефлекторно сжимался в комочек, словно так можно было уменьшить размеры боли. Однако, когда он увидел нас, на его лице сквозь растерянность и боль проступило знакомое ответственное выражение, которое отличает от всех прочих тех, кто заказывает и платит по счету. Это родительское выражение всесилия и всезнания и делало его, как и других, таких же, как он, хозяевами жизни, и потому казалось неприличным и нелепым быть в эту минуту свидетелем его, пусть временной, слабости.
Шеф сам, хотя и не без нашей помощи, взобрался на борт, но на это ушли последние его силы, и он тут же лег животом на палубу, повернув голову в сторону берега. Я хотел спуститься в каюту за аптечкой, но шеф, поморщившись, сказал:
– Это потом. Выбирай цепь, заводи мотор. Уходим. Быстро уходим.
– Что там? – спросил я. – Где Саид?
– Он с ними заодно.
– С кем? – не понял я.
– С Интерполом. Скорей же!
– А лодка?
– Черт с ней. Удирать надо. Скорее. Макси – вниз! Принеси йод, бинты.
Макси, полная раскаяния, преданности и страха, побежала в каюту, а я поднял якорь, включил двигатель и повел катер широким полукругом из бухты в море.
– Свет! – крикнул шеф. – Выруби свет! Топовые огни! Все! Везде! – в голосе шефа была слышна его боль.
Я выполнил приказание, и наша яхта погрузилась во тьму – лишь фосфорно светились утопленные в приборную доску шкалы приборов. Один из них мне совсем не нравился – счетчик горючего. Утром мы собирались заправиться.
Шеф лежал в темноте, справа от меня у самого борта, и Макси колдовала над его спиной, куда и попала пуля. Он категорически воспротивился тому, чтобы мы перенесли его вниз. Сначала надо было оторваться от погони. Но если за нами и собирались гнаться, то явно припозднились, потому что мы уже выходили из бухты, о чем красноречиво мигали маяк на левом, обжитом и залитом огнями берегу, и на правом, где не было ничего, кроме нескольких рыбацких домиков, сейчас едва освещенных.
Наконец мне удалось убедить шефа, что, по крайней мере, в данный момент нам ничто не угрожает, и я могу перетащить его в каюту, а Макси постоит за штурвалом. Опираясь на мое плечо, шеф спустился по лесенке и оказался на том самом надувном матрасе, на котором я чуть не поимел Макси. Я снял с него окровавленную рубашку и убрал тампон, который лейкопластырем прилепила на спину его неверная подруга. Пулевая рана была чуть ниже правой лопатки. Видимо, задето легкое. Нехорошо, хотя и не смертельно. Выходного отверстия не было – значит, надо вытащить пулю. Я еще раз обработал рану спиртом и йодом, положил новый тампон и тщательно перевязал шефа. Под нами тихо урчал двигатель, работающий на малых оборотах.
– Что там у меня? – спросил шеф.
– Пустяки, – ответил я. – Жизненно важные органы не задеты. Кости, вроде, тоже. Только мягкие ткани. Повезло.
– Мне тоже так показалось, – пробормотал он.
– Что случилось, шеф? Кто стрелял? Почему?
– Почему? – передразнил меня шеф. – Нашел время спрашивать…
– Ну один-то вопрос можно?
– Ну давай…
– Куда мы теперь? Нас что, ищут?
– Это два вопроса, – ответил шеф. – Держи курс на Сардинию. Посмотри по навигатору.
– Он сломан, – сказал я. – Я не разбираюсь. Саид снимал сегодня какой-то блок, отвозил на берег в мастерскую.
– Понятно… – усмехнулся шеф. – Саид из Интерпола. Они вели нас от самого Измира. Хотели выявить наши испанские связи и арестовать. Теперь им этого еще больше захочется.
Я открыл рот для вопроса, но вовремя спохватился. Отметив мое послушание, шеф сам сказал:
– Кажется, я одного из них ранил… – в голосе его прозвучала горечь. – Не было выхода. Короче, драпать надо, – добавил он. – В нейтральные воды. И как можно скорее. Иди по компасу. По звездам. Сможешь?
Наверху меня встретило небо, звездное небо. Оно вдруг показалось мне огромным, таким, каким я его прежде не видел. Будто в нем открылся какой-то новый смысл, будто эти три выстрела пробили в нем три дыры и сквозь них пролился дополнительный свет. Да, в жизни всегда так – реально ее видишь и воспринимаешь только на переломе, в момент кризиса, в миг серьезной опасности. Одна из звезд медленно, как зачарованная, пересекала небосклон с юга на север, словно указывая нам путь. «Хороший знак», – подумал я, сменяя Макси, а, взявшись за штурвал, тут же увидел другую звезду, торопливо летевшую поперечным курсом, словно звезды спорили, куда нам лучше направиться. В самом деле – куда? Где нас меньше всего ждали бдительные ребята из Интерпола? Что же натворил мой уважаемый шеф? На севере у нас – южный берег Франции, облюбованный русскими с бог знает каких времен, на востоке – Сардиния. А далее, куда улетела и погасла наша звездочка, а точнее какой-нибудь американский разведывательный спутник – что там? Италия, Греция, Турция, которая за нами следит? Опальная Сирия? Провинциальный, то бишь, принципиальный Израиль? Ну, конечно Израиль, ведь у моего шефа двойное гражданство. Почему он выбрал какую-то Сардинию? Да, она ближе всех, но вряд ли там нас ждут дружеские объятия. Скорее всего, там и защелкнут наручники на наших протянутых в интернациональном приветствии руках. А может, лучше на юг, туда, где Ливия, Тунис, Марокко, где много арабов и совсем мало международных законов, не говоря уже о каком-то Интерполе. Единственное, что меня сдерживало в моих собственных навигационных расчетах – это содержимое бака с горючим. Последнего оставалось часов на пять ходу…
Ну и денек выдался. За шесть лет службы у шефа такого еще не было. И куда мы теперь должны плыть – к черту на рога? Казалось диким, невозможным, нелепым, что мой шеф, гарант моего благополучия, лежит там, в каюте, с простреленной спиной, маленький и беспомощный. Он не имел права быть слабым.
По карте получалось, что если плыть на восток, мы действительно упремся в Сардинию, прямо в ее южную курортную часть. Это часов десять ходу, а значит нереально – через пять часов двигатель заглохнет, и мы ляжем в дрейф. Парусов у нас нет, да мы бы с ними и не справились. И все же шеф велел рулить и не останавливаться. Главное – уйти от преследования. А там – вызвать помощь. Но как? Самое неприятное, что произошло с шефом, помимо огнестрельной раны, – это то, что его пиджак вместе с документами и мобильником остался в казино. Макси на днях утопила свою трубку – оставалась только моя. Но толку-то – мы не могли связаться с официальными властями. Небось, уже по всем каналам распространили портрет шефа с лаконичной надписью «wanted». Да, нас хотели поиметь, а нам этого совершенно не хотелось.
Я шел на малых оборотах, с выключенными огнями – как летучий голландец. На море штиль, луна на ущербе, небо в звездах, Большая Медведица, только так низко, что вот-вот окунется в море…
Макси несколько раз поднималась ко мне – приносила то кофе, то горячие тосты. О том, что было между нами, – ни слова. Я попросил принести коньяка «Хеннесси», хотя я его и не люблю, – но это самое то, если спать нельзя. Расширяет сосуды, согревает кровь и проясняет мозги. Если, конечно, принимать понемногу, как лекарство. Шеф по ее словам впал в забытье – еще бы, я вколол ему лошадиную дозу анальгетиков.
Ночь и звездное небо располагают к медитации. Особенно если ты на палубе суденышка, крадущегося неведомо куда. Звездное небо всегда действовало на меня одинаково – оно мне говорило: «Кто ты такой? Что ты делаешь? Брось! Забудь! Все это глупости, бред, суета сует». Я прекрасно понимал, что так же, как я, на него смотрели все те, кто был раньше меня, – сотни, тысячи поколений. И всем оно твердило одно и то же – все это глупости, суета и копошня, и рано или поздно все вы вместе и каждый по отдельности это поймете и тогда… Но что тогда? Разве просветленность снимает боль с души? Разве многомудрие беспечально? Выхода нет. Это тупик. Жизнь – это тупик. И звезды – это всего лишь бесчисленные наши вопросы, так и оставшиеся без ответа…
Но после ночи наступало утро, когда небо из огромного, бесконечного, чуждого, вселенского становилось маленьким, родным, почти домашним, холстинка сини с белыми стежками облачков, и можно было заниматься своими обычными делами без оглядки на ту задымленную черную пропасть, которая не замечала твоего присутствия, не знала о твоем нынешнем существовании, как и того, что рано или поздно ты полетишь в эту разверстость ногами вперед, чтобы исчезнуть в ней без следа и памяти и смысла.
Тридцать шесть лет жизни позади, а я как бы еще и не жил. То есть как-то жил, конечно, но с подспудной мыслью, что это лишь предуготовление к настоящей жизни, которая меня ждет и в которой все будет совсем иначе: свой дом, семья, дети – два мальчика – жена, профессия. Всего этого у меня, в общем-то, не было до сих пор. Даже собственной машины – моя шестерка давно развалилась, и теперь я водил «мерс» шефа. Все, что у меня было, на самом деле не принадлежало мне, я был в услужении, я был хорошо оплачиваемым слугой, бодигардом, массажистом, врачом, курьером, дворецким, управляющим и еще чертом в ступе. Иногда мне начинало казаться, что так будет и дальше, что я так и состарюсь рядом со своим хозяином, его верный слуга, ну, как у Обломова. Я срастусь с ним и стану его вторым «я». Он мне передаст все, без чего сам сможет обойтись, только денежки и недвижимость оставит себе, потому что это он умеет наращивать и преумножать так, как я не сумею никогда.
По большому счету деньги и недвижимость – это не то, от чего у меня загораются глаза. По большому счету мои глаза ни от чего, в общем-то, не загораются – пусть я толком и не жил еще, но все равно жизнь прожил, и меня ничто особо не волнует. Когда-то мне нравился спорт, борьба, потом мне нравилось делать массаж, когда я чувствовал себя хозяином положения, главным, человеком на своем месте, лечащим другого человека через подчинение себе или через растворение в нем самом. Очень важно почувствовать себя хоть в чем-то человеком, иначе утрачиваешь чувство собственного достоинства. А без него ты уже не человек.
2
Мать родила меня неизвестно от кого. Ее в семнадцать лет изнасиловали какие-то подонки. Она возвращалась домой после занятий в школе рабочей молодежи, были когда-то такие школы для совмещающих работу с учебой. Школа была на Большом проспекте Васильевского острова, а жила моя мать с родителями неподалеку, на Весельной, где обитали в основном те, кто работал на гигантском питерском «Севкабеле», труба которого круглый год опыляла сажей Васильевский остров. Рядом же было, да и сейчас есть, Военно-морское училище подводников, так что скорее всего мой фазер попал потом на подлодку, и, может, затонул вместе с ней и двумя своими корешами где-нибудь в Баренцовом море. Эти трое будущих офицеров – они были в спортивной одежде, классический наряд самовольщиков – и затащили ее в подвал. Мать никому не сказала, что с ней произошло. А через четыре месяца, поняв, что беременна, уехала в Кировск на Кольском полуострове, где комбинату «Апатит», добывающему апатито-нефелиновые руды, всегда не хватало рабочей силы. Там, в Кировске я и появился на свет. Там мы и жили вдвоем, в комнатенке общежития. Мать много курила, иногда по две пачки в день. Может, поэтому я вообще не курю. Ей было тридцать семь, когда она умерла от рака легких. А мне было девятнадцать и я уже служил срочную неподалеку – в Североморске, в морской пехоте, то бишь в «голубых беретах». Там и открылись мои боевые таланты, о которых я сам не подозревал, – на последнем году службы я стал чемпионом по дзюдо Северного флота. В институт физкультуры и спорта в Питере (имени Лесгафта) меня приняли чуть ли не без экзаменов, хотя, скажем, сочинение я написал сам, на твердую четверку – остальные оценки мне, само собой, немного натянули. Четверкой этой я горжусь до сих пор – все-таки литература всегда была моей слабостью, я читал много, хотя и беспорядочно, даже за философию брался, Гераклит, Руссо, Сенека… Особенно мне нравился Шопенгауер и еще Шпенглер, который написал «Закат Европы». Живи он сейчас, наверняка написал бы «Закат мира», потому что мир определенно катится в тартарары… Да, с Питером меня связывала мечта детства – обрести своих бабушку и дедушку, я даже нашел улицу и дом, где они жили, Весельная, 12, только вот квартира была занята совсем другими людьми. «Умерли, – сказали мне в жилконторе, – а вы кто?» Кто я – теперь не имело никакого значения. Вещи, документы, фотографии – ведь должно же было остаться что-то – все это сгинуло без следа.
Наш институт отличался от всех других институтов тем, что в нем учились не для будущего, а для настоящего, и потому на всех факультетах можно было встретить действующих чемпионов – Союза, Европы, Мира и даже Олимпийских игр… Ну а прошлых, то есть бывших – в ранге тренеров и преподавателей было здесь, как комаров в июне. Да, все происходило в настоящем – победы, награды, призы, сборы и поездки за границу. Спорт, спортсмены были на особом положении. В той стране, которую мы представляли, спорт был отдушиной, выходом в большой мир по ту сторону железного занавеса, в спорте меньше, чем где-либо, давила идеология, здесь многие из нас ощущали себя элитой общества. Да так по сути оно и было… Даже еда у нас была лучше, чем у большинства, – по спецпайкам и спецзаказам.
Надо было побеждать – каждая победа рассматривалась как триумф строителей коммунизма. Коммунизма не получилось, но в том 1980-м, к которому партия обещала построить материальную базу коммунизма, я был в Москве в команде наших олимпийцев и даже дошел до полуфинала, где судьба свела меня с французом, чемпионом Франции. За полторы минуты до конца схватки я опережал его на два очка. Я готов был атаковать, но тренер крикнул, чтобы я удерживал счет и я стал бегать, отбиваясь от захватов. Француз решил, что я устал, и попер на меня, как бульдозер, – какой-то сопляк побеждает его, действующего чемпиона… Правило номер один в любом единоборстве – никогда не ставить себя на место своего соперника. У меня было еще одно – никогда не смотреть ему в глаза. Зачем видеть в них боль, страх, гнев, презрение, ненависть или торжество? Соперник был для меня лишь препятствием, которое надо преодолеть. Его сопротивление или натиск входили в правила игры. Но то, что я попятился, было роковой ошибкой. Я сам потерял равновесие, чем француз и воспользовался за десять секунд до удара гонга. Он сделал мне подсечку слева, куда я и отступал, – и помню только дугу, которую я описал в воздухе. Он хотел припечатать меня лопатками к ковру, что считается чистой победой, как нокаут в боксе. Я попытался перегруппироваться в полете, чтобы снова, как кошка, оказаться на ногах, но его захват оказался мертвым, – и все, что мне удалось, это приземлиться, а точнее – приковриться, прямо на голову. Остальное помню плохо. Все передо мной поплыло, в глазах взрывались светлые и темные круги. Тренер довел меня до раздевалки – он меня не ругал: горечь поражения мы разделили с ним поровну. В шейном отделе позвоночника горело пламя.
– Пройдет… – торопливо сказал тренер, направляясь обратно в зал, где продолжались полуфиналы с участием наших дзюдоистов. – Полежи немного или лучше повиси…
Я полежал на лавке, потом подошел к шведской стенке и подтянулся, чтобы зацепиться подбородком за навесную перекладину, – верное средство при ущемлении межпозвоночных дисков или смещении позвонков. И вдруг черные круги, расходящиеся в глазах, взорвались ослепительной вспышкой, и от боли, пронзившей спину, я потерял сознание.
Очнулся я в палате больницы Склифосовского, в скафандре из гипса с диагнозом – перелом основания черепа. Травма, плохо совместимая с жизнью. У меня ничего не шевелилось – ни руки, ни ноги. Паралич конечностей. Но голова работала. Голова обдумывала, как выйти из игры. Продолжать жизнь паралитиком в инвалидной коляске я не хотел. Да и не было у меня весомых причин, чтобы за жизнь цепляться. И целей особых не было. Я ведь жил по чужой подсказке. Я выбрал спорт и дзюдо, потому что понравился капитану, который обучал нас рукопашному бою на плацу. В глубине души я всегда сомневался в своем выборе, ибо не считал спорт профессией, а только приложением к чему-то основному. В те времена официально было принято считать, что спорт у нас любительский, и все были приписаны к спортобществам или к каким-нибудь предприятиям, где получали якобы законную зарплату. Сейчас многие сетуют, что наступили времена циничного всевластия денег. А тогда были времена циничного всевластия циничной идеологии. Сейчас все-таки честнее – по крайней мере, все имеет свое конкретное денежное выражение, приближенное к мировым ценам. Тогда же все было перепутано – твердили одно, а делали совсем другое. Даже рубль притворялся. На черном рынке за доллар давали шесть рублей. А тем, кого выпускали за границу, разрешали обменять в родном советском «Внешэкономбанке» целых шестьсот рублей по курсу – копеек семьдесят за доллар. Получалось долларов восемьсот. На эти восемьсот долларов можно было привезти столько всяких там видеомагнитофонов, что выручки от продажи хватало на приобретение новых «жигулей», скажем, популярной тогда шестерки. Итого – шестьсот рублей за «жигули», которые стоили тогда тысяч восемь. Вот цена нашего самообмана в обмене с Западом. Десятикратная разница, или, как говорят математики, – целый порядок. То, что у нас подразумевали под материальной базой коммунизма, на самом деле оказалось всего-навсего потребительской нормой в любой мало-мальски развитой капстране.
Ну да ладно. Вернемся к моему параличу. Месяца через три медицина от меня отказалась. Спорт, естественно, сразу же. Я был больше никому не нужен, я стал никем, или точнее – мыслящим растением в гипсовом горшке. Раньше я хоть умел бросить соперника на ковер и сделать ему удержание с переходом на болевой прием – за это меня уважали, за это мне платили. Теперь я не умел ничего, разве что ходить не под себя, а в судно, и это было для меня подвигом. За полгода после травмы я потерял двадцать восемь килограммов. Но в этом лежачем, размером с больничную койку, мире, который мне остался вместо прежнего, большого, мира, был человек, девушка, медсестра по имени Маша, которая кормила меня и обмывала, принося и вынося за мной судно. Маша меня и спасла. Это она привезла меня на инвалидной коляске прямо к Борису Праздникову, между прочим, бывшему самбисту. Под его руками я постепенно зашевелил конечностями… Мне, инвалиду первой группы, даже квартиру не дали, хотя и было обещано. И знаете, почему? Потому что Маша перевезла меня к себе в общежитие, где я мог жить на законных основаниях лишь в звании ее мужа. Мы естественно расписались. Выиграла и Маша, потому что нам, хочешь не хочешь, выделили отдельную комнату. Эта комната на три года стала моим новым миром. Праздников обучил и Машу – и она массировала меня утром, перед тем как уйти на работу, и вечером. Спустя еще месяц-другой я встал с коляски и начал передвигаться с помощью костылей. Невозможно забыть это время – когда я стал возвращаться в собственное тело, вернее, когда оно стало возвращаться ко мне. Это было второе рождение. Это было чудо. Господи, сколько радости приносили нам мои подвиги! Я снова научился держать ложку, я стал сидеть, опираясь спиной на подушку, я научился стоять, держась за спинку кровати, я дошел до туалета по коридору (метров пятнадцать в одну сторону), я кончил…
Денег у нас не было, и Борис же, тогда он уже работал с артистами Большого театра и имел обширные связи, нашел мне подходящую работу – переплетать книги. Вскоре комнатка наша была завалена литературой, современными и дореволюционными изданиями, подшивками различных журналов и многим из того, что по разным причинам было в опале, теми же Солженицыным, Белинковым… Попадались мне и Абрам Терц и Зиновьев с Максимовым и прочие, кого тогда называли диссидентами, – я стал много читать, благо, голова работала и не отказывала мне даже в самые трудные времена. Мое представление о стране, в которой я жил, перевернулось после «Архипелага ГУЛАГ». Странно другое – я ведь все это знал с детства, хотя бы по тому же Кировску, половина, если не больше, населения которого – бывшие зеки, знал, но никогда не доходил до обобщений.
Если раньше у меня была цель стать лучше других, скажем, сильнее, что в нашем примитивном мире до сих пор является одним из главных показателей превосходства (недаром из Арнольда Шварценегера сделали культовую фигуру), то теперь я хотел быть, как другие, как все, кто передвигается без видимых усилий, кто может встать и сесть и повернуться набок и пойти и лечь наконец сверху на свою любимую и любить ее в активной позе всех нормальных мужчин. А позиция сзади, со стороны ягодиц… Никто из здоровых мужчин и не задумывается, что для этой позы от партнера требуется сильные бедерные мышцы и крепкий позвоночник. Когда я наконец сподобился это проделать, я чувствовал себя Гераклом, поймавшим Эринейскую лань. У Маши же вошло в привычку, находясь в этой позе, самой для меня соблазнительной у женщин, осведомляться – не больно ли мне. Она спрашивала и через три года, когда я забыл о травме. Да, уже через девять месяцев я начал делать легкие пробежки, а через год вернулся к своему стартовому весу семьдесят семь килограммов, что при росте сто восемьдесят пять сантиметров было идеальным соотношением для здорового тела. Однако шея так и осталась моим слабым местом, и мне пришлось качаться, наращивая вокруг нее мышцы, чтобы они заменили снятый гипсовый каркас.
О дзюдо пришлось забыть, как и об институте Лесгафта. Хотя у меня и был академический отпуск, но, обретя наконец снова руки и ноги, я решил, что мне там больше делать нечего. Становиться специалистом по спортивно-массовым мероприятиям, судьей, тренером, защищать на кафедре физиологии кандидатскую диссертацию о работе икроножных мышц борца во время схватки в партере? Занимательно, но это не жизнь… Не говоря уже о том, что мы жили в Москве и сочетать это с учебой в Питере было проблематично. К тому же для двух столиц нашей тогда еще необъятной Родины мы были лимитчиками, то есть людьми без постоянной прописки, с птичьими правами. И все же тогда, как ни странно, тогда у меня была семья, подобие семьи в лице моей жены Маши. Маша заканчивала медучилище и гордилась своей профессией патронажной сестры. В сравнении с моими прежними деньгами ее заработная плата была смехотворной, – всего семьдесят рублей в месяц (инженер зарабатывал 150), но мои переплетные дела заметно поправили семейный бюджет, и мы не бедствовали, хотя и ничего лишнего позволить себе не могли.
Маша, Маша… с детства она привыкла возиться со своими младшими братиками и сестренками, их у нее было шестеро. Потом эта подросшая родня из небольшой деревушки в Ярославской области начнет гостевать у нас в своих ежемесячных наездах в столицу за продуктами питания. Все они собирались в будущем перебраться в Москву вслед за своей умной Машей. Да, мы были мужем и женой, но когда я выздоровел, что-то в наших отношениях переменилось. Уделом Маши, патологией ее ангельской натуры была забота о ближнем. А если ближний не нуждался в таковой, он отдалялся. Она искала нуждающихся, хотя, возможно, не осознавала этого. Так постепенно она переключила внимание с меня на свою родню. Ее самоотдача не знала границ. Она была прирожденной сестрой милосердия. Это было ее жизненное кредо. Бывает, что люди становятся такими из-за каких-то комплексов или под влиянием обретенной веры. Но ничего подобного я в Маше не наблюдал – в ее заботах о других не было ни позы, ни корысти, ни идеи – ни духовной, ни материальной. Выздоровев, я понял, почувствовал, что она меня никогда не любила, да и не знаю, могла ли она с такой широкой душой, открытой сразу для всех, любить кого-то одного. Она жалела – вот какой была ее любовь.
Когда я сказал ей, что ухожу, точнее – уезжаю в Питер, она не стала мне устраивать сцен, даже не спросила, как я буду там один, что меня задело за живое. Кстати, развод мы так и не оформляли, и в тяжелые минуты, пока она была жива, мне не раз приходила в голову мысль, что я еще могу вернуться… Я уехал в Питер, который мне нравился гораздо больше, чем Москва, и потолкавшись в «Лесгафта», неожиданно для самого себя подал документы в Первый медицинский и был принят.
В то время меня действительно заинтересовал физиологический феномен человека, а в прикладном смысле – восточные учения о человеке. Это сейчас такой литературы завались, а тогда я пользовался в основном рукописными, самиздатовскими или дореволюционными источниками, и в голове моей каким-то образом сопрягались оздоровительные практики типа шиат-су, су-джонк, цигун, меридианы человеческого тела и энергетические каналы, акупунктура, чакры, феншуй и китайские символы инь и ян, носители женской и мужской энергии. Я стал заниматься хатха-йогой…
Чудо собственного выздоровления не давало мне покоя. Массаж, две руки, левая и правая, два ангела-хранителя, вернее – целителя, и не обязательно руки Бориса Праздникова или моей Маши, вообще руки любого человека представляли собой волшебство. О руках мне как-то попались строчки нынче осмеянного Маяковского: «Две стороны обойдите, В каждой дивитесь пятилучию. Называется „руки“. Пара прекрасных рук!» Да, это из поэмы «Человек». По прихоти судьбы именно в этой поэме я нашел подтверждение своих собственных открытий по поводу человека, в ней же – духовную опору. Хотя вообще я поэзии не знаю и ею не интересуюсь. Маяковский стал исключением. Он был, конечно, избранным. По-моему, в молодости он был гением. А потом, уже при советской власти, стал никем. Так я это понимаю.
3
К пяти утра, когда небо побледнело и лишилось своих звезд, я почувствовал, что засыпаю стоя. В таких случаях привязывают себя к штурвалу. Поднялся ветер – он дул прямо в левую мою щеку. Началась боковая качка. Я сбавил обороты, перевел двигатель на холостой режим и спустился в каюту. Шеф спал, напротив у другой стены, на откидной лавке, спала, свернувшись калачиком, Макси. Судя по высунувшейся из-под простыни ягодице, она спала голой. Впервые меня кольнула ревность – я подумал о том, что у них могло быть с шефом, пока я торчал там, наверху. Подумал и решил – что ничего. Не до того шефу.
Я разбудил ее.
Испуганно приподнявшись, Макси несколько секунд непонимающе смотрела на меня, – еще никогда мне не приходилось будить ее в такое время, – смотрела из прошлого, того, какое у нас с ней было до ранения шефа, с теми нашими прежними ролями, и видно было, как складываются ее губы, чтобы послать меня подальше, но я указал ей взглядом на шефа, и в следующее мгновение она осознала нашу переменившуюся и, прямо скажем, довольно суровую действительность, и печать растерянности совершенно перекроила ее черты. И еще было в ее взгляде нечто новое – зависимость от меня. Я поманил ее пальцем на палубу, показав, чтобы по пути накинула куртку, и вернулся к штурвалу.
Изрядно покачивало. Белые полированные поверхности яхты были мокрыми от брызг. Свинцовый цвет моря, ершистые гребни волн, затянувшееся облаками небо – будто на родной Балтике.
Спустя минуты три Макси, щурясь и вжимая голову в плечи, появилась на палубе. Она зябко ежилась. Вид у нее был несчастный – такой образ она себе, выбрала, рассчитанный, с ее точки зрения, на выживание в экстриме. Мне же отводилась роль благородного рыцаря, спасающего даму. Не уверен, что меня это устраивало. Одно дело – служить шефу, и совсем другое, если шеф выходит из игры…
– Мне надо хотя бы часа два соснуть – иначе сдохну, – сказал я.
– Ладно уж, – шмыгнула Макси носом и тронула штурвал. – Курс?
У нее была привычка шмыгать в сложной ситуации, топыря правую ноздрю, и туда же вправо съезжал край ее рта, – эхо пэтэушного прошлого.
– Дуй прямо на восток, по компасу, на средних оборотах. Не промахнешься.
– Плохо без шкипера, – сказал она. – Без шкипера мы еще не ходили… Что, Саид правда из Интерпола? – С ее губ срывался парок, пахнущий мятной пастой или освежающей жвачкой.
– Не знаю, так сказал шеф.
– Может, пошутил?
– С такой дыркой в спине не шутят.
Вдруг лицо Макси исказила гримаса и, прижав руки к губам, она коротко всхлипнула:
– Он умрет?
– Не знаю, – сказал я.
– Ты же врач, ты должен знать.
– Я не врач, я массажист, – сказал я.
– Значит, умрет, – простонала она.
– Не факт, – сказал я. – Дай мне поспать. Во сне я что-нибудь придумаю.
– Хорошо, хорошо, – послушно закивала она головой, будто в моих словах был какой-то смысл. Наши глаза на мгновение встретились и обменялись информацией, сути которой мы не могли знать, а только предчувствовать.
Я заснул, как провалился куда-то, впрочем, знаю куда – в спасительное забвение. Мне приснилась Маша. Она сидела, вернее, приседала нагишом на моих чреслах, маленькие груди врастопырку, и коротенькими «ай-ай» поощряла нас к оргазму. Я уже готов был кончить и, видно, проснулся бы от поллюции, но тут открыл глаза и увидел протянутую ко мне руку. Это был шеф. Он стонал.
– Больно, Андрей, – сказал он. – Очень больно. Сделай что-нибудь.
Я вскочил на ноги, как не спал. Мозг заработал сразу на полных оборотах, но язык еще не слушался и первые мои слова, прозвучали, как у пьяного.
– Сейчас сделаю перевязку, шеф. Там пуля осталась. Ее бы скорее вытащить, возможен сепсис…
– Так и вытаскивай!
– Я не могу.
– Почему?
– Нужны инструменты. И вообще это можно сделать только в операционной.
– Какая к черту операционная! – Шеф тяжело дышал, говорить ему было трудно. – Операцию сделаешь ты, сейчас. Если нужно вынуть пулю, ты ее вынешь…
Я предполагал такой вариант, я его просчитал наряду с другими на своей ночной вахте у штурвала. Психологически я был готов, но я никогда не делал никаких операций, не держал толком скальпель в руках. И вообще мое медицинское образование закончилось на третьем курсе, когда я бросил институт, поняв, что массажистом заработаю гораздо больше, чем дипломированным врачом.
– Не знаю, смогу ли? – сказал я, – это не мой профиль…
– Цену себе набиваешь? – вдруг услышал я, и по спине у меня пробежали мурашки. Его слова, однако, никак не соответствовали выражению его лица, где сквозь боль проступало нечто совершенно новое для наших отношений – недоверие и чуть ли не страх.
Меня обожгло стыдом. Разве я давал повод?
– Я заплачу! – сказал шеф. – Хорошо заплачу.
– Ты мне и так хорошо платишь, шеф, – сказал я.
– Нет, – сказал он, доставая портмоне из-под подушки. – Вот ключ от сейфа. Возьми там чековую книжку…
Я открыл сейф, помимо чековой книжки там были толстые пачки долларов. «По десять тысяч каждая», – наметанным взглядом определил я. Пачек было не так уж много. Меньше, чем я ожидал увидеть…
От шефа не ускользнула пауза, которую я сделал, прежде чем перевести взгляд с долларов на чековую книжку.
– К черту чек, – сказал он. – Бери пять пачек, пятьдесят тысяч, – и, видя, что я медлю, сердито повторил: – Бери же, они твои.
Поколебавшись, я нашел в себе силы сказать:
– Я не возьму, шеф!
– Бери больше, сто! Бери, только сделай операцию!
– Я не возьму, – уже решительно повторил я.
– Ты не будешь меня оперировать?
– Буду. Но не за деньги.
Предложенных и невзятых денег было жаль, даже очень, но я чувствовал, что поступаю правильно. А, может быть, я полагал, что эти деньги и так будут моими… Бога бы спросить. Но был ли над нами Бог?
Я демонстративно закрыл сейф и вернул ключ шефу, твердо глядя ему в глаза:
– Мне сейчас нужны не деньги, а хороший скальпель…
Шеф следил за мной, не отрывая глаз, как режиссер в поставленной им пьесе за актером, которому он доверил главную роль, ища сценической неправды, больше – неправды жизни. Ища и, возможно, не находя. Теперь он был благодарен мне, теперь он гордился мною, теперь он был за меня, то есть за себя, спокоен.
Но, черт побери, оставалась и моя сторона, моя роль, мое отношение к его постановке. А она, эта постановка, с каждым часом нравилась мне все меньше и меньше.
Естественно, скальпеля на борту не было, но разных ножей на нашем камбузе – предостаточно; был и универсальный нож из толедской стали с набором всяких прибамбасов от ножниц до пинцета, не то перочинный, не то боевой, во всяком случае, такое лезвие до сердца вполне достанет. Подарок шефа мне на день рождения. Но самое главное – в аптечке у нас был новокаин.
Вид раны меня огорчил – она вспухла, даже на ладонь от пулевого отверстия бледная кожа шефа отливала краснотой и болезненно реагировала на прикосновения. Из отверстия сочилась черная сукровица. Я очистил рану спиртом, потом перекисью, сделал новокаиновую блокаду, и ввел вдоль пулевого отверстия зонд, точнее, обработанный огнем и спиртом шомпол от пистолета, из которого стрелял шеф. Пуля не прощупывалась. Я попытался расширить зону поиска – безрезультатно. Скорее всего, пуля ударилось о ребро и ушла, застряв где-то в мягких тканях – показать ее теперь мог только рентген. Но даже если бы мне удалось нащупать пулю – как бы я ее вытащил? Для этого применяют специальный пинцет, который имеет захват в форме пули, а так… Я был знаком с азами военно-полевой хирургии и понимал, что при таких инструментах больше здесь ничем не поможешь. Оставалось лишь немногое – спирт, тампон, тугая повязка…
Шеф стойко перенес неудачную операцию, впрочем, боль к нему вернулась лишь после того, как кончилось действие новокаина. Он понял и без моих объяснений, что пулю я не нашел, и молчал. В его молчании не было осуждения. Он просто молчал, обдумывая ситуацию.
– Нужно в клинику, – виновато сказал я. – И как можно скорей. Желательно сегодня же оказаться на берегу. Иначе возможны осложнения.
– Да, похоже, осложнений не миновать, – спокойно сказал шеф. – Поскольку нам светит только тюремная клиника. Мне, то есть, не тебе.
– Ну почему, шеф? – возразил я, все еще оглушенный своей неудачей.
Шеф чуть повернул голову в мою сторону – повернуть больше мешала боль – и сказал, глядя в иллюминатор:
– Что, тупильник включаем? Меня, блин, Интерпол ведет. Я в агента попал… тебе мало?
– Может, ничего страшного, шеф? – Я встал перед ним, чтобы ему не нужно было крутить головой.
– Какая разница. Первый раз стрелял в человека… и попал. Форменный абсурд. Я не знал, что это агенты. Они же в штатском. Я думал – обыкновенный рэкет. Один из них что-то крикнул и наставил на меня ствол. А у меня рука была в кармане – я за сигаретами полез. А там пистолет на взводе. Думал, мало ли что… Я из кармана и выстрелил. Само собой получилось. Оба упали на пол, а я побежал. Потом один вскочил и за мной. Уже на пирсе меня зацепил… Потом уже я сообразил, что они из Интерпола – они мне кричали, да я не врубился со страху.
– А Саид?
– Саид их и вызвал. Только его не было – отсиживался где-нибудь за углом… Турок, блин…
– Он все время улыбался, я думал, он – просветленный.
– Он улыбался, потому что такая работа. Он должен вызывать симпатию и доверие. Профи, блин… Обвел нас вокруг пальца, как каких-то навозных дрозофил.
Я хохотнул, будто шеф сказал что-то смешное. На самом деле я искал его прощения.
– Дрозофилы – это плодовые мушки, шеф, очень маленькие.
– Вот именно, очень маленькие…
Я понял, куда клонит шеф – ведь Саида вместе с его яхтой нанимал я. Но как я мог знать?
– Но почему Интерпол, шеф? Кому мы насолили? – Я специально говорил «мы», хотя понимал, что я тут сбоку припека.
– Кому-кому… Почем я знаю. Могу только догадываться.
Чувствуя, что шеф разоткровенничался, я осмелел:
– Ты не звонил первому? – Первым у нас был наш человек в правительстве, заместитель министра.
– Вчера звонил. Секретарша говорит, что болен. А я думаю, что снят. Видимо, оттуда дует. Прокуратура им занимается.
– Это он нам деньги переводил?
Шеф внимательно глянул на меня, словно прикидывая, не взять ли меня в долю, и сказал:
– Живи спокойно, Андрюша…