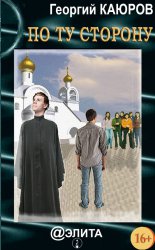Только один год Форман Гейл
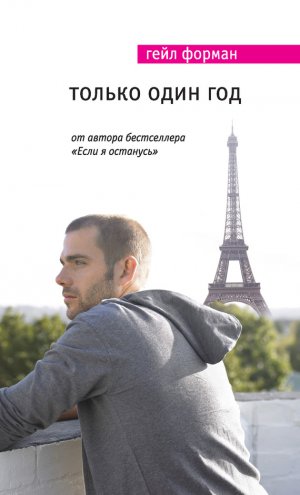
– А это долго?
– Не очень. Несколько недель. Подайте документы в муниципалитете. – Она спешно перечисляет, какие понадобятся бумаги, но у меня ничего из этого при себе нет.
Вдруг я чувствую, что застрял, и не совсем понял, как это вышло. Мне удавалось избегать Голландии целых два года! На что я только не шел, чтобы не попасть на этот клочок земли, небольшой, но зато расположенный прямо по центру – например, я уговорил диктаторшу Тор, режиссера «Партизана Уилла», выступить в Стокгольме вместо Амстердама, состряпав левую байку о том, будто шведы – самые большие любители Шекспира в Европе, если не считать Британии!
Но прошлой весной Марйолейн наконец разобралась в путаных документах на недвижимость, принадлежавшую Браму, и баржа перешла во владение Яэль. Она тут же выставила дом, который он для нее построил, на продажу. Мне к тому моменту нечему уже было удивляться.
Но все же попросить меня приехать и подписать бумаги? Вот это нервы надо иметь. Хуцпэ,[17] как сказал бы Саба. Как я понял, Яэль сделала это из практических соображений. Я мог доехать на поезде, а ей надо было лететь на самолете. У меня на это уйдет всего лишь несколько дней, не особое затруднение.
Но я на день задержался. И это каким-то образом все перевернуло.
Семь
Октябрь
Утрехт
До меня доходит, хоть и поздно, что сначала следовало позвонить. Может, еще в прошлом месяце, как только вернулся. Или хотя бы заранее, до того как пришел. Но я этого не сделал. Теперь уже слишком поздно. Я уже тут. С надеждой, что все пройдет как можно безболезненнее.
В доме на Блумштрат кто-то заменил старый звонок на глазное яблоко, которое с упреком пялится на тебя и навевает дурные мысли. Наша переписка никогда не отличалась регулярностью, и в последнее время сошла на нет. Я даже вспомнить не могу, когда последний раз писал ему письмо или эсэмэску. Три месяца назад? Или полгода? Я понимаю, тоже поздно, что, возможно, он вообще тут больше не живет.
Каким-то образом я знаю, что нет, он еще тут. Брудье не уехал бы, не сообщив мне. Он бы так не поступил.
Мы познакомились, когда нам было по восемь лет. Я заметил, что он рассматривает наш хаусбот[18] в бинокль. Когда я спросил, что он делает, Брудье объяснил, что не за нами шпионит. За последнее время в нашем районе произошло несколько взломов, его родители начали строить планы переехать из Амстердама в место побезопаснее. Он хотел остаться в этой квартире, поэтому ему нужно было найти преступников. «Но это же серьезное дело», – сказал я. «Да, – согласился он. – Но у меня вот что есть». Он достал из велосипедной корзины остальное шпионское оборудование: дешифратор, наушники для прослушивания, очки ночного видения – Брудье дал мне в них посмотреть. «Если тебе нужна помощь, могу стать твоим партнером», – предложил я. В нашем районе, на восточной каемке центра Амстердама, детей проживало немного. В соседних хаусботах на Нью-принсинграхт вообще никого, к тому же я был единственным ребенком в семье. Я развлекался тем, что колотил мячом по стене нашего дома; почти все они вскоре исчезали в грязных водах канала.
Брудье согласился принять мою помощь, так мы подружились. Часами мы изучали район, фотографировали подозрительных людей и машины, пытаясь раскрыть преступление. До тех пор пока нас не увидел старик, который подумал, что мы работаем на бандитов, и вызвал полицию. Они застали нас, сидящих на корточках, возле соседского пирса, мы разглядывали в бинокль один подозрительный фургон, который появлялся тут регулярно (как мы потом выяснили, он принадлежал хозяину пекарни за углом). Нас стали допрашивать, мы оба разревелись, думая, что нас посадят в тюрьму. Запинаясь, мы все объяснили и поделились своей стратегией по раскрытию преступления. Полицейские слушали, изо всех сил стараясь не ржать, а потом отвели нас по домам и поговорили с родителями Брудье. Перед уходом один из детективов дал нам по визитке и сказал звонить, если что заметим.
Я свою карточку выбросил, а Брудье оставил и хранил ее несколько лет. Когда нам было по двенадцать, я заметил ее на доске с записями в его спальне в пригородном доме, куда они в итоге переехали. «Ты ее все еще хранишь?» – спросил я. Они переселились уже два года назад, и мы виделись не очень часто. Брудье посмотрел на карточку, потом на меня. «Вилли, ты что, не знаешь, я ничего не выбрасываю».
Дверь открывает долговязый парень в кофте с эмблемой футбольной команды «Пи-Эс-Ви», намазанные гелем волосы стоят торчком. У меня сердце обрывается; раньше Брудье жил здесь с двумя девчонками, с обеими постоянно, хоть и безуспешно, пытался переспать, и тощим пацаном по имени Иво. Тут у этого парня вспыхивают глаза, он меня узнает, и я понимаю, что это Хенк, один из друзей Брудье из Утрехтского университета.
– Уиллем, ты ли это? – спрашивает он, и, не дав ответить, кричит: – Брудье, Уиллем вернулся.
Слышатся возня и скрип стертых половых досок, и вот появляется он, ниже меня на голову, но в полтора раза шире в плечах – мы с ним такие разные, что старик с соседнего хаусбота прозвал нас Макарониной и Тефтелей. Брудье эти прозвища очень нравились, ведь тефтеля куда вкуснее макарон!
– Уилли? – Брудье на миг замирает, но потом бросается на меня. – Уилли! А я уж думал, что ты помер!
– Я восстал из мертвых, – отвечаю я.
– Правда? – Глаза у него такие круглые и синие, что напоминают блестящие монетки. – Ты когда вернулся? Надолго? Есть хочешь? Жаль не предупредил, я бы что-нибудь приготовил. Но можем вместе сделать хороших borrelhapje.[19] Заходи. Хенк, посмотри-ка, Уилли вернулся.
– Вижу, – кивает Хенк.
– Вау! – кричит Брудье. – Уилли вернулся!
Я вхожу в коридор. Раньше тут был относительный порядок, кое-где стояли женские штучки вроде ароматизированных свечей – Брудье делал вид, что ему это не нравится, но зажигал их, даже когда никого из девчонок дома не было. Теперь тут воняет носками, спитым кофе, разлитым пивом, от девушек остался лишь косо вставленный в раму плакат с картиной Пикассо над камином.
– А с девчонками что случилось? – спрашиваю я.
Брудье ухмыляется.
– Да, Уилли в первую очередь интересуют девчонки, – со смехом говорит он. – Они в прошлом году переехали в собственную квартиру, а ко мне подселились Хенк с Вау. Иво тоже только что уехал проходить какой-то курс в Эстонии.
– В Латвии, – поправляет его Ваутер, сокращенно Вау, спускаясь по лестнице. Он выше меня, волосы у него короткие и тоже торчат, только сами собой, а кадык огромный, как дверная ручка.
– Ну, в Латвии, – соглашается Брудье.
– Что у тебя с лицом? – интересуется Вау. Особой галантностью он никогда не отличался.
Я трогаю шрам.
– С велика навернулся, – отвечаю я. Я уже врал Марйолейн, так что вылетает на автомате. Я не знаю, почему я это делаю, разве что для того, чтобы максимально отдалиться от того дня.
– Ты когда вернулся? – спрашивает Вау.
– Да, Уилли, – поддакивает Брудье, пыхтя и скребя лапой, как щенок. – Когда?
– Не очень давно, – говорю я, пытаясь нащупать золотую середину между обидной правдой и слишком наглой ложью. – Надо было кое-какие дела в Амстердаме уладить.
– А я все гадал, где ты, – рассказывает Брудье, – я пытался позвонить тебе какое-то время назад, но там включается какая-то странная запись, а по мылу ты ни хрена не пишешь.
– Знаю. Я потерял телефон со всеми контактами, какой-то ирландец отдал мне свой вместе с симкой. Мне казалось, что я слал тебе сообщение с новым номером.
– Может, и было такое. Ну да ладно, проходи. Посмотрю, что есть из еды. – Он сворачивает прямо в кухню. Я слышу, как хлопают дверцы.
Через пять минут Брудье приносит поднос с едой и пивом на всех.
– Ну, рассказывай все. Про гламурную жизнь странствующего актера. Каждую ночь новая девочка?
– Брудье, бог ты мой, дай ему сначала хоть сесть, – говорит Хенк.
– Извини. Просто я живу его жизнью; когда он тут, это все равно, что иметь под рукой кинозвезду. А у меня последние несколько лет на личном фронте глухо.
– Ты имеешь в виду последние лет двадцать? – прикалывается Вау.
– Так, значит, ты уже какое-то время в Амстердаме? Как мама?
– Понятия не имею, – небрежно говорю я. – Она в Индии.
– Еще не вернулась? – спрашивает Брудье. – Или возвращалась, но улетела обратно?
– Не вернулась. Все время живет там.
– А. А я недавно был в том районе, в хаусботе горел свет, мебель расставлена, я думал, может, она здесь.
– Нет, мебель поставили, чтобы создать иллюзию, будто там кто-то живет, но это не так. По крайней мере, мы не живем, – говорю я, беру кусок cervelaat,[20] сворачиваю трубочкой и засовываю в рот. Он продан.
– Ты продал баржу Брама? – Брудье просто поверить в это не может.
– Мать продала, – уточняю я.
– Наверное, она ее за большое бабло сплавила, – шутит Хенк.
Я замолкаю, почему-то язык не поворачивается сказать, что и мне перепало. Тут Вау начинает рассказывать, как недавно читал в «Де Фолкскрант»[21] о том, что американцы сейчас отваливают большие деньги за старые хаусботы в Амстердаме, за швартовочные места, которые, оказывается, стоят не меньше.
– Ну нет, эту баржу надо видеть, – говорит Брудье. – Его отец архитектором работал, она такая красавица, три этажа, с балконами, все из стекла. – Его охватила ностальгия. – Как там ее назвали в журнале?
– «Баухауз-на-Грахте», – к нам приходил фотограф и снимал хаусбот вместе с нами. Но в журнале опубликовали только кадры с самой баржей, лишь на одной стояли Брам с Яэль, обрамленные панорамным окном, а за спиной у них словно в зеркале отражались деревья и канал. На оригинальном снимке был и я, но меня вырезали. Брам сказал, что его взяли из-за окна с отражением; якобы эта фотография была призвана демонстрировать дизайн, а не нашу семью. Но я подумал, что и семья наша была передана довольно точно.
– Не могу поверить, что она ее продала, – сетует Брудье.
Временами я и сам не могу, а иногда это кажется вполне правдоподобным. Яэль из тех, кто отрежет себе руку, если это потребуется для того, чтобы сбежать. Она и раньше так делала.
Ребята смотрят на меня со странным состраданием на лицах, от которого я отвык за два года анонимной жизни.
– Так значит, сегодня Голландия – Турция… – начинаю я.
Все снова смотрят на меня, потом кивают.
– Надеюсь, в этот раз у нас дела пойдут получше, – продолжаю я. – На Чемпионате Европы все было так печально, что я не знаю, больше мне такого не вынести. Шнайдер… – Я качаю головой.
Хенк первый заглатывает наживку.
– Ты что, шутишь? Шнайдер – единственный нормальный бомбардир!
– Нет! – перебивает Брудье. – Ван Перси такой красивый гол немцам забил.
Тут встревает Вау со своим математическим подходом и несет что-то насчет того, что подобный спад и паршивая игра в прошлом году гарантируют улучшение в этом, что падать уже некуда, остается только двигаться вверх, и я могу расслабиться. Это универсальный язык разговоров о пустяках. В пути говоришь о поездках, про какой-нибудь неизвестный остров, дешевый хостел, ресторан с хорошими ценами. В данной ситуации – о футболе.
– Вилли, пойдешь с нами смотреть? – спрашивает Брудье. – Мы собирались к «О’Лири».
В Утрехт я приехал не ради пустых бесед, футбола и даже не к друзьям. Я приехал за документами. Надо было зайти в колледж, забрать нужные для получения паспорта бумаги. После этого я опять пойду в турбюро, может, на этот раз приглашу ее куда-нибудь выпить и решу, куда ехать. Куплю билет. Может, съезжу в Гаагу за визами, сделаю прививки. На блошиный рынок за одеждой. Потом в аэропорт. Таможенники обыщут меня тщательно: одинокий мужчина с билетом в один конец всегда вызывает подозрения. Потом долгий перелет с разрывом в часовых поясах. Служба иммиграции. Таможня. И наконец, я ступлю на незнакомую землю, испытав подпитывающие друг друга приятное возбуждение и дезориентацию. В такой момент может произойти все, что угодно.
В Утрехте у меня лишь одно дело, но почему-то вдруг весь остальной список действий, необходимых для того, чтобы убраться отсюда, начинает казаться просто бесконечным. И что еще более удивительно, не вызывает никакого возбуждения. Мне даже не хочется ни в какое новое место, а именно эта цель оправдывала всю суету. Теперь все это кажется просто утомительным. Я не знаю, где мне взять сил, чтобы преодолеть все препоны и убраться отсюда.
А «О’Лири» – это прямо тут, за углом, даже дорогу переходить не придется. Это я могу осилить.
Восемь
Октябрь становится холодным и сырым, словно за лето мы израсходовали всю квоту ясных и жарких дней. В моей мансарде на Блумштрат особенно холодно, так что я начинаю сомневаться, не зря ли я решил тут поселиться. Хотя я особо ничего не решал. Когда я проснулся утром на диванчике внизу уже в третий раз подряд, так совершенно ничего и не сделав, Брудье предложил мне пожить в мансарде.
Не то чтобы это было заманчивое предложение, скорее, оно само свершилось по факту. Я все равно уже там жил. Иногда течение приносит тебя в совершенно неожиданные места; а иногда оно тебя уносит из этих мест.
В мансарде сквозит, окна дрожат на ветру. По утрам изо рта идет пар. Моей главной задачей теперь стало поддержание тепла. Когда я путешествовал, я зачастую днями сидел в библиотеках. Там можно набрать журналов или книг и переждать непогоду или от чего ты там еще бежишь.
Спастись оказалось возможным и в университетской библиотеке: такие же большие окна на солнечную сторону, удобные диваны, компьютеры с выходом в Интернет. Насчет последнего, правда, непонятно, благословение это или проклятье. Когда я путешествовал, замечал, что остальные просто помешаны на электронной почте. Я не такой. Ненавижу заходить в свой ящик. И так до сих пор.
Письма от Яэль приходят как по часам, раз в две недели. Думаю, у нее это в ежедневнике расписано, как и остальные дела. Но это лишь короткие сообщения ни о чем, отвечать на которые невозможно.
Вчера пришло очередное послание, разглагольствования о том, что ей надо бы сделать выходной и съездить в какую-то деревню на фестиваль паломников. Но она не рассказывает, от чего ей надо отдохнуть, не говорит, что у нее там за работа, чем она живет, все это как-то туманно и загадочно, лишь общие очертания, изредка дополняемые небрежными комментариями от Марйолейн. Нет, письма Яэль больше напоминают открытки. Идеальный разговор ни о чем: мало слов, информации еще меньше.
«Hoi Ma»,[22] – начинаю отвечать я. Потом пялюсь на экран, думая, что написать. Я легко могу болтать на любую пустую тему, но когда дело касается матери, я теряюсь. Когда я путешествовал, было проще, потому что тоже можно было писать в открыточном стиле. «Я в Румынии, на Черном море, но сейчас не сезон и на курорте тихо. Часами наблюдаю за рыбаками». Хотя даже к таким коротким посланиям у меня в голове лепились дополнения. Например, о том, что одним ветреным утром я смотрел на этих рыбаков и вспомнил, как мы всей семьей ездили в Хорватию, мне тогда было десять лет. Или одиннадцать? Яэль спала допоздна, а мы с Брамом вставали пораньше и шли на причал, чтобы купить весь улов у одного пропахшего солью и водкой рыбака, который как раз в это время возвращался с моря. Но я следую ее примеру и вырезаю из своих посланий эти ностальгические элементы.
«Hoi Ma». Курсор мигает, словно упрекая, но я не могу двинуться с места, не могу придумать, что сказать. Я возвращаюсь во входящие, прокручиваю вниз, в прошлое. Передо мной последние несколько лет и периодические сообщения от Брудье, от людей, с которыми я встретился во время странствий – расплывчатые обещания снова пересечься в Танжере, Белфасте, Барселоне, Риге – такие планы редко воплощаются в жизнь. Перед ними лавина писем от преподов с эконома, предупреждающих, что если я не предоставлю объяснений, достойных именоваться «особыми обстоятельствами», есть риск, что на следующий год меня уже не будут приглашать обратно (я не предоставил – они не пригласили). Еще раньше – письма с соболезнованиями, некоторые я даже не открыл, а перед ними – сообщения от Брама, в основном всякие глупости, которые он любил мне пересылать, например отзыв о ресторане, куда он хотел сходить, фотки с на редкость ужасными архитектурными сооружениями, приглашение помочь ему с ремонтом. Я отмотал уже на четыре года, вот письма от Сабы, который за два года после того, как открыл для себя Интернет, и до того, как начал болеть так тяжело, что сил на него не осталось, с удовольствием вкушал прелесть мгновенного общения, когда можно писать страницу за страницей и отправлять задаром.
Я возвращаюсь к начатому сообщению. «Hoi Ma, я вернулся в Утрехт, болтаюсь с Роберт-Яном и другими ребятами. Рассказывать особо не о чем. Каждый день поганый дождь; солнце не показывалось уже с неделю. Радуйся, что не видишь этого, ты же ненавидишь серость. До связи. Уиллем».
Открыточный язык, самый пустой из всех пустых разговоров.
Девять
Мы с ребятами идем в кино, с нами – новая подружка Вау. На какой-то новый триллер Яна де Бонте[23] в Культурный центр Луиса Хартлупера. Мне перестали нравиться его фильмы после… я уже даже забыл, после которого, но я оказался в меньшинстве, потому что у Вау девушка, а это дело серьезное, и если она хочет смотреть на взрывы, то и нам придется.
Там полно народу, из входных дверей льется целый поток. Мы с трудом пробираемся сквозь толпу к кассе. И тут я вижу ее: Лулу.
Не мою Лулу. А ту, в честь которой я ее назвал. Луизу Брукс. В фойе висит множество постеров, но этот я вижу впервые, он даже и не на стене, а стоит на держателе. Это кадр из «Ларца Пандоры», Лулу наполняет бокал, вызывающе и с интересом вскинув брови.
– Она хорошенькая. – Я оборачиваюсь. У меня за спиной стоит Лин, подружка Вау, панкушка с матфака. Никто толком не понял, как у него это вышло, но, видимо, они полюбили друг друга на почве теории чисел.
– Да, – соглашаюсь я.
Я продолжаю разглядывать постер. Это реклама ретроспективы фильмов с Луизой Брукс. И сегодня как раз «Ларец Пандоры».
– Кто это такая? – спрашивает Лин.
«Луиза Брукс, – сказал мне в свое время Саба. – Посмотри в эти глаза, в них столько очарования, можешь не сомневаться, что за ним скрывается тоска». Мне тогда было тринадцать, а Саба, ненавидевший сырое амстердамское лето с переменчивой погодой, как раз открыл для себя кинотеатры с ретро. То лето как раз выдалось на редкость ужасным, так что он познакомил меня со всеми звездами немого кино: Чарли Чаплином, Бастером Китоном, Рудольфом Валентино, Полой Негри, Гретой Гарбо и своей любимицей Луизой Брукс.
– Звезда немого кино, – отвечаю я Лин. – Сейчас ее фестиваль. К сожалению, этот фильм сегодня.
– Можно и на него сходить, – говорит она. Я не могу понять – с сарказмом или без; у нее такой же сухой голос, как и у Вау. Когда я подхожу к кассе за билетами, я вдруг прошу пять на «Ларец Пандоры».
Ребята поначалу ржут, думая, что я прикалываюсь, но я показываю на постер и объясняю про ретроспективу. После этого им становится уже не так весело.
– Там будет живой пианист, – говорю я.
– Думаешь, нам от этого лучше? – говорит Хенк.
– Нет, я на это ни за что не пойду, – добавляет Вау.
– Но если я хочу на это? – перебивает Лин.
Я благодарно смотрю на нее, она в ответ удивленно поднимает бровь, демонстрируя пирсинг. Вау молча сдается, а вслед за ним и остальные.
Мы поднимаемся и занимаем места. В тишине слышны взрывы из соседнего зала, я замечаю тоскливый взгляд Хенка.
Гаснет свет, пианист начинает увертюру, появляется лицо Лулу размером во весь экран. Фильм черно-белый, низкого качества, слышится потрескивание, как на старой пластинке. Но Лулу не кажется старой. Она вне времени, она весело флиртует с мужчинами в ночных клубах, ее застают с любовником, она стреляет в мужа в день свадьбы.
Странно, я уже видел этот фильм, и не раз. Точно знаю, как все кончится, но напряжение все равно нарастает, в животе появляется чувство неприятной неопределенности. Надо быть несколько наивным, или, может, глупым, чтобы, зная, как все будет дальше, все равно надеяться на другую концовку.
Я засуетился и решил убрать руки в карманы. Хотя я стараюсь сдерживаться, но мысли продолжают возвращаться к другой Лулу и той жаркой августовской ночи. Я бросил ей монетку, я делал так уже с кучей девчонок. Но в отличие от остальных – которые всегда возвращаются, ждут возле нашей импровизированной сцены, чтобы вернуть мою такую драгоценную монетку, а заодно и проверить, что на нее можно купить, – Лулу не пришла.
Это должно было послужить первым сигналом, что девушка может видеть меня насквозь. Но я тогда подумал лишь: «не быть». Ну и ладно. Мне все равно на следующий день предстояло сесть на утренний поезд, а после поездки ждал длинный мерзкий день, да и с чужими людьми я никогда не могу как следует выспаться.
Хотя я все равно спал плохо, утром встал рано и успел на еще более ранний поезд до Лондона. И в нем встретил ее. Когда я вошел в вагон-ресторан, я увидел ее уже третий раз за сутки, и меня встряхнуло. Вселенная как бы говорила мне: «Обрати внимание».
И я обратил. Я подошел, мы поболтали, но потом прибыли в Лондон, собираясь пойти каждый своей дорогой. К тому времени страх, все усиливавший хватку с тех самых пор, как Яэль попросила меня вернуться в Голландию и расписаться за продажу моего родного дома, уже сжимал меня в кулак. Наш с Лулу обмен шутками его каким-то образом ослабил, но я понимал, что как только сяду на поезд до Амстердама, страх опять станет сильнее, стиснет все мои внутренности, и я не смогу ни есть, ни чего другого, лишь нервно перекатывать монетку по костяшкам пальцев и думать о следующем – следующем поезде или самолете, на который сяду. О следующем отъезде.
Тут Лулу заговорила о том, что хотела бы увидеть Париж, а у меня остались деньги от летних выступлений, которые мне особо больше и не были нужны. И стоя на этом лондонском вокзале, я подумал, ну и ладно, может, именно это мне и суждено: я знал, что Вселенная больше всего любит равновесие, вот передо мной девчонка, которая хочет в Париж, и вот я, который хочет куда угодно, лишь бы не возвращаться в Амстердам. Как только я предложил ей отправиться туда вместе, баланс был восстановлен. Нутряной страх исчез. И в поезде, который вез нас в Париж, я почувствовал такой же голод, как и обычно.
Лулу на экране плачет. Я представляю себе, как моя Лулу просыпается на следующий день и видит, что меня нет, читает записку, в которой я обещал скоро вернуться, но так и не появился. Я уже который раз спрашиваю себя, как скоро она начнет думать обо мне плохо, если она уже так думала. Ведь когда мы ехали из Лондона в Париж, Лулу начала неудержимо хохотать, поскольку воображала, что я ее там бросил. Я отшутился; разумеется, тогда это было неправдой. Я такого не планировал. Но меня ее признание зацепило, став первым предупреждением, что она видит меня не таким, каким я хотел себя показать.
Фильм идет, а во мне все растет желание, тоска и раскаяние, множатся размышления насчет того дня. Во всем этом нет никакого смысла, но почему-то от этого понимания становится только хуже, и эти неприятные чувства подступают все ближе и ближе, до тех пор, пока от них уже никуда не скрыться. Я еще глубже засовываю руки в карманы и делаю дырку.
– Черт! – восклицаю я неожиданно громко.
Лин смотрит на меня, но я делаю вид, что увлечен фильмом. Пианист играет крещендо, Лулу флиртует с Джеком-потрошителем и, одинокая и разбитая, приглашает его к себе. Она думает, что это любовь, но потом видит нож, ну а дальше вы знаете. Он сделает то, что и всегда. Не сомневаюсь, что она и обо мне так же думает, и, возможно, имеет на это право. Фильм оканчивается неистовой музыкой. А потом повисает тишина.
Парни с минуту сидят молча, а потом начинают говорить все одновременно.
– И все? Так он ее убил? – спрашивает Брудье.
– Это же был Джек-потрошитель с ножом, – отвечает Лин. – Не индейку же он ей рождественскую разделывал.
– Ну и ну. Одно скажу, скучно не было, – говорит Хенк. – Уиллем? Эй, Уиллем, ты с нами?
Я вздрагиваю.
– Да. Что?
Кажется, что все четверо смотрят на меня уже слишком долго.
– Ты в порядке? – наконец спрашивает Лин.
– Да. Все отлично! – с улыбкой отвечаю я. Она кажется такой неестественной, что шрам стягивает лицо, как аптечная резинка. – Пойдемте выпьем.
Мы спускаемся вниз и заходим в кафе, в котором полно народу. Я заказываю пиво на всех, а потом до кучи еще и jenever.[24] Ребята смотрят на меня странно, хотя я не пойму, просто из-за того, что я решил напиться, или потому, что я за все плачу. Они уже знают о моем наследстве, но думают, что я буду бережлив, как всегда.
Я выпиваю рюмку jenever, а потом берусь за пиво.
– Ого, – говорит Вау, двигая ко мне свою рюмку. – Я kopstoot[25] не буду.
Я глотаю и его порцию.
Друзья молча смотрят на меня.
– Ты точно в порядке? – с какой-то несвойственной ему нерешительностью интересуется Брудье.
– Естественно, почему бы и нет, – jenever делает свое дело, согревая меня изнутри и сжигая воспоминания, ожившие в темноте.
– У тебя умер отец. Мать уехала в Индию, – без какой-либо деликатности говорит Вау. – И дедушка тоже умер.
Возникает неловкая пауза.
– Спасибо, – говорю я. – А то я совсем забыл. – Я хотел пошутить, но звучит так, будто душа у меня горит, как и глотка от алкоголя.
– Не обращай на него внимания. – Лин нежно треплет Вау за ухо. – Он еще работает над проявлением таких человеческих чувств, как сострадание.
– Не нужно мне сострадание, – отвечаю я. – Все нормально.
– Просто ты какой-то не ты с тех пор, как… – Брудье смолкает.
– И много времени один проводишь, – выпаливает Хенк.
– Один? Я с вами.
– Вот именно, – говорит Брудье.
Снова молчание. Я не особо понимаю, в чем меня обвиняют. Тогда Лин поясняет.
– Насколько я понимаю, у тебя всегда были девчонки, а теперь ребята беспокоятся, потому что ты постоянно один. – Она смотрит на них. – Я правильно поняла?
– Ну, типа, как бы да, – бормочут они.
– Вы это обсуждали? – это должно бы звучать забавно, но не звучит.
– Мы думаем, что ты в депрессии, потому что перестал трахаться, – говорит Вау. Лин лупит его. – Что? Нормальная физиология. Во время половой активности выделяется серотонин, а это улучшает самочувствие. Все просто и научно.
– Не удивляюсь, что я тебе так нравлюсь, – шутливо говорит Лин. – Со всей этой научной простотой.
– Так, значит, я в депрессии? – Я стараюсь делать вид, будто мне смешно, но голосом управлять трудно, и в нем звучит что-то еще. Теперь на меня никто, кроме Лин, не смотрит. – Вот что вы думаете? – Я все еще пытаюсь отшутиться. – Что у меня яйца ноют?
– У тебя не яйца ноют, – спокойно отвечает она, – а сердце.
Пауза, потом ребята начинают хохотать.
– Извини, schatje,[26] – говорит Вау, – но это ему несвойственно. Ты просто его еще не знаешь. Дело, скорее, в серотонине.
– Я знаю, что я знаю, – возражает Лин.
Они начинают спорить из-за этого, а я опять хочу отправиться в путь, где меня никто не знает, где у меня нет ни прошлого, ни будущего, а только один момент в настоящем. А если настоящий момент стал слишком назойливым и некомфортным, всегда можно сесть в поезд, который доставит в следующий момент.
– Не важно, с чем у него там проблемы, с яйцами или с сердцем, лечение все равно одно, – говорит Брудье.
– Какое же? – спрашивает Лин.
– Трахаться, – в один голос восклицают Брудье с Хенком.
Это уже чересчур.
– Пойду отолью, – говорю я, поднимаясь.
Я захожу в туалет и умываюсь. Потом смотрю в зеркало. Шрам еще красный, яростный, словно я его ковырял.
В коридоре снова полно народу, только что закончился очередной фильм, не Бонт, а какая-то елейная британская романтическая комедия, из тех, где через два часа уже любовь навек.
– Уиллем де Рюйтер, не иначе.
Я оборачиваюсь и вижу влажные от поддельных чувств глаза Аны Лусии Аурелиано.
Я останавливаюсь и жду, когда она подойдет. Мы целуемся. Она машет своим друзьям, которых я тоже знаю по колледжу, чтобы шли без нее.
– Ты мне даже не позвонил, – говорит она, дуя губки, словно обиженная маленькая девочка – ей это выражение всегда придает очарования, впрочем, как и любое другое.
– У меня номера не было, – отвечаю я. У меня нет никаких причин стараться ей угодить, но это уже как рефлекс.
– Я же тебе его дала. В Париже.
Париж. Лулу. Чувства, возникшие во время фильма, снова возвращаются, а я защищаюсь. Париж был фикцией. Точно такой же, как и романтическое кино, которое только что посмотрела Ана Лусиа.
Она подается ко мне. От нее приятно пахнет, как будто корицей, дымом и духами.
– Может, снова дашь, – говорю я, доставая мобильник. – Тогда я смогу позвонить.
– К чему это, – говорит она.
Я пожимаю плечами. Я слышал, что когда между нами в прошлый раз все закончилось, Ана Лусиа была весьма недовольна. Я убираю телефон.
Но тут она хватает меня за руку. У меня она холодная. У нее горячая.
– Я имею в виду, зачем звонить потом, если я вот, прямо тут и сейчас?
Да. Она тут. И я тоже.
Лечение одно, слышу я голос Брудье.
Может, так оно и есть.
Десять
Ноябрь
Утрехт
Комната Аны Лусии похожа на кокон, пуховые одеяла, обогреватели работают на полную мощность, нескончаемый густой горячий шоколад. Первые дни я просто рад быть здесь, с ней.
– Ты предполагал, что мы когда-нибудь снова будем вместе? – воркует она, прижимаясь ко мне, словно крошечный теплый котенок.
– Гм, – правильного ответа на этот вопрос просто не существует. Я никогда ничего подобного не предполагал, потому что изначально не считал, что мы «вместе». Той туманной весной, когда умер Брам, у нас с Аной Лусией закрутилась интрижка на три, максимум четыре недели, когда я всем на удивление затормозил в обучении, зато также на удивление преуспевал по части женщин. Правда, преуспевал – не совсем верное слово. Оно подразумевает какие-то усилия, а тут мне их впервые в жизни прикладывать не пришлось.
– А я знала, – говорит она, нежно кусая меня за ухо. – Я о тебе за эти годы так часто вспоминала. А потом эта внезапная встреча в Париже, и я поняла, что это что-то означает, что это, типа, судьба.
– Гм, – повторяю я. Я помню, как мы столкнулись в Париже, и мне тоже показалось, что это что-то значит, но точно не судьба. Скорее словно старая жизнь попыталась зажать меня в тиски на день раньше, чем я ожидал.
– Но ты мне не позвонил, – напоминает Ана Лусиа.
– Ой, ну. Были другие дела.
– Я уж не сомневаюсь, что были другие. – Она запускает руку мне между ног. – Я видела, что ты был с девчонкой. В Париже. Она была симпатичная.
Сказано это как бы невзначай, даже с пренебрежением, но внутри что-то колет. Как будто предупреждая. Рука Аны Лусии все еще лежит у меня между ног, и это производит ровно тот эффект, на который она рассчитывала, но теперь где-то в этой комнате как будто бы появилась и Лулу. И как и в тот день в Париже, когда мы, гуляя по Латинскому кварталу, наткнулись на Ану Лусиу с ее сестрами, мне хочется, чтобы они не приближались друг к другу.
– Симпатичная, но ты – красавица, – говорю я, чтобы сменить тему. Это, с одной стороны, правда, а с другой, эти слова пустые. Может, формально, Ана Лусиа и симпатичнее Лулу, но подобная конкуренция редко разрешается на основании этих формальностей.
Она сжимает меня сильнее.
– Как ее звали?
Я не хочу произносить ее имя. Но Ана Лусиа крепко за меня взялась, если я не скажу, это вызовет подозрения.
– Лулу, – говорю я в подушку. Это ведь даже ненастоящее ее имя, но все равно кажется, будто я ее предаю.
– Лулу, – повторяет Ана Лусиа. Отпускает меня и садится. – Француженка. Вы с ней встречались?
В окно пробивается утренний свет, бледный, серый, он придает всему, что вокруг, легкий зеленоватый оттенок. И почему-то в этом сером рассвете воспоминание о Лулу в той белой комнате начинает просто светиться.
– Нет, конечно же.
– Значит, просто очередная интрижка? – Ана Лусиа отвечает смехом на свой собственный вопрос, и меня это ее понимание раздражает.
После всего, что случилось той ночью в сквоте, Лулу провела пальцем по запястью, и я сделал то же самое. Мы как бы показывали на пятно, на такое, которое остается навсегда, даже если ты против. Это что-то значило, по крайней мере, в тот момент.
– Ты же меня знаешь, – небрежно говорю я.
Ана Лусиа снова смеется, – это гортанный, густой и снисходительный смех. Она садится на меня сверху, словно наездница.
– Знаю, – говорит она, сверкая глазами, и проводит пальцем по моей груди. – Я теперь знаю, через что ты прошел. Раньше я этого не понимала. Но я повзрослела. Ты тоже повзрослел. Думаю, теперь мы стали новыми людьми с новыми потребностями.
– Мои потребности не изменились, – говорю я. – Они у меня абсолютно те же. Самые базовые. – Я резко тяну ее к себе. Я все еще сержусь, но напоминание о Лулу меня взбудоражило. Я провожу пальцем по кружевам, обрамляющим лифчик Аны Лусии. Засовываю палец под бретельку.
На миг она закрывает глаза, я тоже. Ощущаю податливость кровати и след ее вощеных поцелуев на своей шее.
– Dime que me quieres, – шепчет она. – Dime que me necesitas.[27]
Я не делаю этого, потому что она говорит по-испански, не зная, что я ее понимаю. Я так и не открываю глаза, но даже в темноте я слышу голос, обещающий, что она станет моей девушкой из горной деревушки.
– Я о тебе позабочусь, – говорит Ана Лусиа, и, услышав слова Лулу из уст другой, я подскакиваю.
Но голова Аны Лусии ныряет под одеяло, и я понимаю, что она имела в виду другую заботу. Это мне особо и не нужно. Но я не отказываюсь.