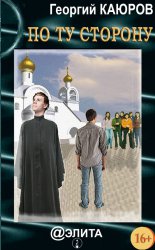Только один год Форман Гейл
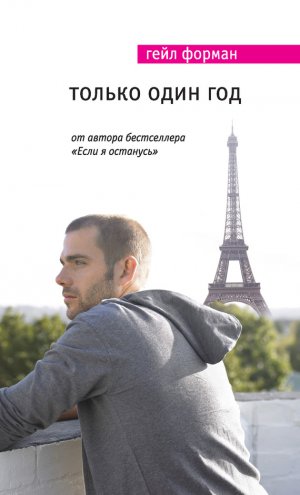
Кажется, что это другой мир по сравнению с Ривьерой-Майя. И дело не только в отсутствии суперкурортов и отдыхающих, но и в том, как я сюда попал. Я ничего не искал, а нашел просто так.
У меня нет графика: сплю, когда устану, ем, когда проголодаюсь, беру что погорячее и поострее в передвижных ларьках. Потом брожу до ночи. Ни на кого не смотрю. Ни с кем не разговариваю. В последние месяцы на Блумштрат рядом всегда были ребята, если не они, то Ана Лусиа, и я отвык от одиночества.
Теперь же я сижу на краю фонтана и наблюдаю за людьми, на миг воображая себе среди них нас с Лулу, как будто бы мы с ней действительно взяли да сбежали в дикую Мексику. Мы бы прямо сюда приехали? Сели бы в кафе, зацепившись друг за друга ногами, касаясь друг друга головами, как вон та пара под зонтиком? Гуляли бы всю ночь, ныряя в темные переулки и целуясь украдкой? А на следующее утро проснулись бы, разомкнув объятия, достали бы карту, закрыли бы глаза и определили следующую точку путешествия? Или просто не вставали бы с постели?
Нет! Прекрати! Это бессмысленно. Это дорога в никуда. Я встаю, отряхиваюсь и возвращаюсь в отель. Ложусь на кровать и начинаю перекатывать по костяшкам монету в двадцать песо, думая, что делать дальше. Монетка падает на пол, и я протягиваю за ней руку. Но замираю. Орел – останусь еще на день в Вальядолиде. Решка – еду дальше. Решка.
Это не то же самое, что тыкать в карту. Но сойдет.
На следующее утро я спускаюсь в поисках кофе. Столовая обшарпанная, практически пустая – лишь за одним столиком сидит испаноговорящая семья, а в углу у окна – симпатичная женщина моего возраста с волосами цвета ржавчины.
– Я все думала, кто ты такой, – говорит она по-английски. Похоже, американка.
Я наливаю себе кофе.
– Я тоже часто об этом думаю, – отвечаю я.
– Я видела вчера, как ты покупал еду в ларьке. Я все старалась собраться с духом и тоже попробовать что-нибудь оттуда, но я даже не знаю, что это, и не убьет ли оно гринго[50] типа меня.
– По-моему, это была свинина. Я вопросов особо не задаю.
– Ну, ты от нее не умер, – смеется незнакомка. – А что нас не убивает, делает сильнее.
Секунду мы стоим молча. Потом я жестом спрашиваю, можно ли сесть рядом с ней, а она жестом меня приглашает. Я располагаюсь напротив. Официант в несвежем смокинге небрежно ставит перед нами тарелку с мексиканскими булочками.
– С ними поосторожнее, – говорит девушка, тыкая в свою бирюзовым ногтем. – Я чуть зуб не сломала.
Я стучу по ней, и звучит она как полое бревно.
– Я едал и похуже.
– У тебя что, профессия как-то связана с экстремальной едой?
– Что-то вроде.
– Ты откуда? – Но она тут же взмахивает рукой. – Нет, погоди, дай отгадаю. Скажи что-нибудь еще.
– Что-нибудь еще.
Она постукивает пальцем по виску, потом щелкает пальцами.
– Голландец.
– Хороший слух.
– Хотя акцент совсем слабый.
– Очень хороший слух. Я с детства говорю по-английски.
– Ты жил в Англии?
– Нет, просто мама не хотела говорить на голландском, считая, что он слишком похож на немецкий, поэтому дома общались на английском.
Девушка смотрит на экран лежащего на столе телефона.
– Полагаю, история интересная, но, боюсь, придется ей остаться тайной. – Она выдерживает паузу. – Я уже на день опаздываю.
– Куда?
– В Мериду. Я должна была быть там вчера, но у меня сломалась тачка, ну а потом посыпались просто комические ошибки. А ты? Куда направляешься?
Теперь я делаю паузу.
– В Мериду, если подбросишь.
– Интересно, что разозлит Дэвида больше – что я еду одна или с незнакомцем.
– Уиллем. – Я протягиваю руку. – Все, я больше не незнакомец.
Она косо смотрит на мою вытянутую руку.
– Этого мало.
– Извини. Уиллем де Рюйтер. – Я лезу в рюкзак, достаю свой новый упругий паспорт и подаю ей. – Вот удостоверение личности.
Она листает.
– Хорошая фотка, Уиллем. А я Кейт. Кейт Рёблинг. Я тебе свой паспорт не покажу, потому что меня сфотографировали неудачно. Так что тебе придется поверить мне на слово.
Она улыбается и протягивает мне паспорт обратно.
– Ну ладно, Уиллем де Рюйтер, экстремальный едок-путешественник. Гараж только что открылся, и я иду за машиной. Если она готова, я выдвигаюсь через полчаса. Успеешь собрать вещи?
Я показываю лежащий на полу рюкзак.
– У меня вещи всегда собраны.
Кейт заезжает за мной на трещащем по швам джипе «Фольксваген», обивка на сиденьях разодрана, поролон торчит.
– Это называется готова? – спрашиваю я, забираясь на сиденье.
– Это лишь косметический дефект. Ты бы ее раньше видел. Глушитель отваливался, реально просто волочился за машиной и искрил. Из-за моей малышки чуть все джунгли не сгорели. Не обижайся. Кто у меня красавица? – Она поглаживает приборную панель и поворачивается ко мне. – Будь с ней вежлив. А то не поедет.
Я делаю вид, что приподнимаю шляпу.
– Прошу прощения.
– Нет, вообще тачка отличная. Внешность, знаешь ли, бывает крайне обманчива. – Мотор с ревом заводится.
– Да уж, я заметил.
– Слава богу, а то я бы работу потеряла.
– Банки грабишь?
– Ха! Актриса.
– Правда?
– А что? Ты тоже из наших?
– Не совсем.
Кейт вскидывает бровь.
– «Не совсем»? Это все равно что говорить «немного беременна». Либо да, либо нет.
– Ну, например, я раньше этим занимался, но несерьезно, а теперь уже нет.
– Ой, пришлось устроиться на «нормальную работу»? – с сочувствием спрашивает Кейт.
– Нет. Нормальной работы у меня тоже нет.
– Так ты просто путешественник со склонностью к экстремальному питанию?
– Типа того.
– Интересная жизнь.
– Более-менее. – Машина попадает в выбоину так, что мой желудок буквально подпрыгивает к потолку, а потом так же резко падает на пол. – И где именно ты играешь? – спрашиваю я, вновь обретя равновесие.
– Я – один из основателей и художник-постановщик небольшого нью-йоркского театра, «Гвалт» называется. Мы ставим спектакли, а еще проводим образовательные программы.
– Да уж, ничего особенного.
– Да, прикинь? У меня таких амбиций и не было, но мы с друзьями переехали в Нью-Йорк, ролей, которые хотели, нам не дали, поэтому мы открыли собственную компанию, а она давай развиваться. Мы ставим пьесы, преподаем, теперь у нас за рубежом стали появляться филиалы. Ради этого я и приехала сюда. В Мериде у нас будет мастер-класс по Шекспиру в сотрудничестве с Независимым университетом Юкатана.
– Ты преподаешь Шекспира на испанском?
– Ну, я лично – нет, я и двух слов по-испански не свяжу. Я буду работать с теми, кто разговаривает по-английски. Дэвид, мой жених, знает испанский. Забавно, даже когда я смотрю шекспировские пьесы на другом языке, я все равно понимаю, что происходит, в каком они месте. Может, потому, что я их настолько хорошо знаю. Или потому, что Шекспир за пределами языка.
Я киваю.
– Я впервые играл в шекспировской пьесе на французском.
Кейт поворачивается ко мне. Глаза у нее зеленые, яркого оттенка, как осенние яблоки, а переносица усыпана конопушками.
– Значит, ты играл Шекспира? Да еще и на французском?
– Больше все же на английском, естественно.
– Ах, естественно. – Она смолкает. – Для не совсем актера довольно неплохо.
– Не факт, что у меня хорошо выходило.
Она смеется.
– Я уверена, что хорошо.
– Правда?
– Ага. У меня на это интуиция, как у Супермена. – Кейт достает пачку жвачки, берет пластинку и предлагает мне. На вкус она как тальк с кокосами, в животе у меня еще урчит, а это не нравится ему больше. Я выплевываю.
– Мерзость, да? К ней почему-то так привыкаешь. – Она берет себе еще одну пластинку. – И как так вышло, что голландец играл в шекспировской пьесе на французском языке?
– Я путешествовал. Деньги кончились. Это было в Лионе. Там я познакомился с ребятами из труппы «Партизан Уилл». Они в основном ставили его на английском, но режиссер там слегка… эксцентричная, и она решила, что мы сможем обойти другие уличные выступления, давая Шекспира на местном языке. Она набрала народ, кто смог бы сыграть «Много шума из ничего» на французском, но Клаудио познакомился с каким-то норвежцем и сбежал; все остальные уже и так взяли по две роли, так что им нужен был хоть кто-то, кто знает французский. Я знал.
– А до этого ты Шекспира не играл?
– Вообще ничего не играл. Я путешествовал с труппой акробатов, я не шутил, когда я сказал, что так сложилось «случайно».
– Но после этого же ты играл в других пьесах?
– Да, «Много шума» провалилась, но Тор поняла это только с четвертого раза. Потом мы переключились обратно на английский, и я остался в труппе. Деньги были достойные.
– Ах, так значит ты из этих. Играешь Шекспира только ради денег, – прикалывается она. – Шлюха.
Я смеюсь.
– Ну а еще что за пьесы?
– «Ромео и Джульетта», естественно. «Сон в летнюю ночь». «Все хорошо, что хорошо кончается». «Двенадцатая ночь». Все любимицы толпы.
– Обожаю «Двенадцатую ночь»; мы как раз обсуждаем возможность поставить ее в следующем году, когда время освободится. У нас недавно закончился двухлетний прокат «Цимбелина» в театрах Офф-Бродвея, теперь ездим с ним по другим городам. Знаешь эту пьесу?
– Я слышал о ней, но не видел.
– Она милая, такая смешная и романтическая, там много музыки. Ну, у нас, по крайней мере.
– У нас было так же. В «Двенадцатой ночи» играл целый оркестр барабанщиков.
Кейт бросает на меня взгляд искоса.
– У нас?
– У них. У «Партизана Уилла».
– Похоже, шлюшка влюбилась в своего сутенера.
– Нет. Я не влюбляюсь.
– Но скучаешь?
Я качаю головой.
– Теперь у меня другая жизнь.
– Вижу уж, – какое-то время мы едем молча. – И часто у тебя так? Другая жизнь?
– Наверное. Я просто много путешествую.
Кейт настукивает какой-то слышный только ей ритм по рулю.
– Или наоборот, много путешествуешь, поскольку это позволяет тебе бросить старое.
– Может, и так.
Она снова смолкает.
– И сейчас ты тоже стараешься что-то забыть? Это привело тебя в огромный город Вальядолид?
– Нет. Туда меня привел попутный ветер.
– Что? Как полиэтиленовый пакет?
– Я предпочитаю думать, что я корабль. Парусник.
– Но ведь парусниками ветер не управляет. Это просто энергия. Тут есть разница.
Я смотрю в окно. Со всех сторон джунгли. Я снова перевожу взгляд на свою попутчицу.
– А можно убежать от чего-то, когда не уверен, что это вообще было?
– Можно бежать от чего угодно, – отвечает она. – Хотя, похоже, у тебя все действительно запутано.
– Да, – соглашаюсь я, – запутано.
Кейт не отвечает, и молчание растягивается, мерцая, как лежащая перед нами дорога.
– Да и долго рассказывать, – добавляю я.
– Нам и ехать долго, – отвечает она.
Есть в Кейт что-то такое, что напоминает мне Лулу. Может, дело в том, что она тоже американка, или в том, как мы встретились – во время путешествия, за завтраком.
А еще мы с ней расстанемся через несколько часов и не увидимся больше никогда. Терять мне нечего, поэтому я рассказываю Кейт всю историю того дня, правда, не так, как рассказывал Брудье и пацанам. Тор всегда повторяла, что выступать нужно перед определенной аудиторией. Может, поэтому я говорю ей даже о том, чего не сказал – просто не смог – доверить ребятам.
– Она меня как будто бы поняла, – говорю я. – Прямо с ходу.
– Как это?
Я рассказываю о том, как Лулу подумала, что я ее бросил в поезде, когда задержался в кафе. Как она истерически засмеялась, а потом, ни с того ни с сего – я еще поразился ее честности – поделилась опасениями, что я сошел с поезда.
– А ты собирался? – У Кейт прямо глаза на лоб полезли.
– Нет, нет, конечно, – отвечаю я. Это правда, но мне до сих пор стыдно думать о том, что я планировал сделать потом.
– Так как именно она тебя разгадала?
– Она сказала, что не понимает, как я мог пригласить ее в Париж без какой-либо задней мысли.
Кейт смеется.
– Не думаю, что твое желание переспать с симпатичной девчонкой можно считать задней мыслью.
Я, естественно, хотел с ней переспать.
– У меня был другой скрытый мотив. Я предложил ей поехать в Париж, потому что не хотел возвращаться в Голландию.
– Почему?
У меня снова становится плохо с животом. Брама больше нет. Яэль практически тоже. Хаусбот – распишусь, и тоже не будет. Я выдавливаю улыбку.
– Эта история куда длиннее, а я еще ту не закончил.
Я пересказываю историю про двойное счастье, услышанную от Лулу. Про китайского парнишку, который шел сдавать важный экзамен, а по пути заболел. О нем позаботился какой-то врач с гор. Его дочь сказала ему часть какого-то непонятного стихотворения, а потом, после успешного ответа на экзамене, император тоже произнес какие-то странные строки. Тогда парень понял, что это части одного и того же стихотворения и повторил их. Император возрадовался и дал ему работу, а он вернулся и женился на той девчонке. Получилось двойное счастье.
«Зеленые деревья стоят под весенним дождем так близко к небу, а небо над ними так мрачно. Красные цветы покрывают землю от края до края так, как будто вся земля окрашивается в красный цвет после поцелуя». Такое там было стихотворение. Когда Лулу рассказала мне эту легенду, она сразу показалась мне знакомой, но раньше я ее не слышал. Неизвестная, но знакомая. К этому времени у меня было такое же впечатление и о Лулу.
Я рассказываю Кейт и о том, как Лулу спросила, кто обо мне заботится – как будто и так знала ответ, – а потом позаботилась сама. Она защитила меня от скинхедов. Бросила книжку. Это их отвлекло, и нам удалось сбежать, но ее поранили. Даже сейчас, несколько месяцев спустя, когда я вспоминаю порез на ее шее от брошенной бутылки, мне становится плохо. И стыдно. Но в этом я Кейт не признаюсь.
– Смелый поступок, – комментирует она, когда я рассказываю ей о том, как повела себя Лулу.
Саба говорил мне, что между смелостью и отвагой есть разница. Смелость – это когда делаешь нечто опасное, не поняв, насколько рискуешь. А отвага – это когда ты осознаешь всю опасность, но все равно делаешь.
– Нет, – поправляю я Кейт, – отважный.
– Вы оба отважные.
Нет, я – нет. Потому что попытался отправить ее обратно. Как трус. Но не смог. Тоже из трусости. Это я Кейт тоже не рассказываю.
– Так, а в Мексике ты что делаешь? – спрашивает она.
Я вспоминаю ребят. Которые думают, что я хочу излечиться. То есть найти Лулу, переспать с ней еще несколько раз и вернуться к прежней жизни.
– Не знаю… найти ее. И по меньшей мере, объясниться.
– Что объяснять? Ты же оставил записку.
– Да, но… – Я чуть не рассказываю все до конца. Но все же останавливаюсь.
– Что «но»?
– Я не вернулся, – заканчиваю я.
Кейт пристально и долго смотрит на меня. И чуть не съезжает на обочину.
– Уиллем, ты в курсе, что Канкун – это в другую сторону? – Кейт показывает назад. Я киваю. – У тебя и так не очень много шансов ее найти, зачем ехать в другой город-то?
– Я бы ее не нашел. Я понял.
– Как это ты понял?
– Потому что когда ищешь, ничего не находишь, находишь, когда не ищешь.
– Если бы это было так, никто никогда не находил бы ключей.
– Я не про ключи. Я про большее.
Она вздыхает.
– Не понимаю. Ты, с одной стороны, так веришь во все эти случайные совпадения, а с другой – отрицаешь саму возможность случайности.
– Не отрицаю. Я был в Канкуне.
– И сразу же поехал в Мериду.
– Я бы не нашел ее. Если бы продолжал искать, – говорю я, качая головой. Это трудно объяснить. – Не суждено.
– Суждено, не суждено, – фыркает Кейт. – Извини, но я этот бред серьезно воспринять не могу. – Она начинает махать руками, так что мне приходится на время взяться за руль. – Без намерения ничего не происходит, Уиллем. Ничего. Эта твоя теория – о том, что жизнь зависит от воли случая – это же просто оправдание, чтобы ничего не делать, нет?
Я собираюсь возразить, но тут у меня в голове мелькает образ Аны Лусии. Она оказалась в нужном месте и в нужное время. Тогда я посчитал, что это удача. Я теперь понимаю, что я просто сдался.
– Ну а как ты объяснишь нашу встречу? – Я показываю на себя, на нее. – То, что мы сейчас сидим тут вместе, разговариваем? Что это, если не совпадение? Если бы у твоей тачки не отвалился глушитель, и ты бы не оказалась в Вальядолиде, где и меня не должно было бы быть? – Я не рассказываю о том, что еще и монетку бросал, хотя это был бы аргумент в мою пользу.
– Ой, нет, только в меня не влюбляйся, – со смехом говорит она, показывая на палец с кольцом. – Слушай, я полностью магию судьбы не отрицаю. Я в конце концов актриса и шекспировед, не иначе. Но нельзя делать ее главной движущей силой в жизни. Надо управлять. И да, мы ведем тут эту беседу потому, что у моей машины – прекрасная милая моя девочка, – Кейт начинает сюсюкать, снова поглаживая панель, – были некоторые технические трудности. Но ты попросил меня подвезти тебя, и делал это настойчиво, так что твое поведение говорит против твоей же теории. Это, Уиллем, был волевой поступок. Просто иногда жизнь, или судьба, назови как хочешь, приоткрывает перед тобой дверь, позволяя пройти. Иногда, наоборот, запирает, и нужно искать ключ, взламывать замок, или вообще на фиг дверь вышибить. Иногда ты даже двери не видишь и вынужден делать ее сам. Но если ждать лишь открытых дверей… – На этом она смолкает.
– Что?
– Думаю, так ты и одиночного счастья не найдешь, не говоря уже про двойную порцию.
– Я начинаю сомневаться в том, что оно вообще существует, – говорю я, вспоминая про родителей.
– Это потому, что ты его ищешь. Сомнение – неотъемлемая часть поиска. Такая же, как и вера.
– Разве это не противоположности?
– Может, это лишь части одного и того же стиха.
Тут мне вспоминаются слова Сабы: «Правда и ее противоположность – это разные стороны одной и той же монеты». Раньше я этого как-то особо не понимал.
– Уиллем, я полагаю, что в глубине души ты точно знаешь, почему ты здесь, и точно знаешь, чего ты хочешь, но ты не готов взять на себя ответственность за это желание, не говоря про то, чтобы это получить. Потому что и та и другая перспектива тебя пугает.
Кейт поворачивается и испепеляюще смотрит на меня. Через какое-то время машину опять начинает вести в сторону. Я снова хватаюсь за руль, чтобы выровнять курс. Она же совсем его отпускает, и я держу уже двумя руками.
– Видишь, Уиллем. Ты взялся за руль.
– Чтобы мы не разбились.
– Или, можно сказать, чтобы избежать несчастного случая.
Двадцать
Мерида, Мексика
Мерида – это тот же Вальядолид, только больше, колониальный городок пастельных тонов. Кейт высаживает меня перед каким-то историческим зданием цвета персика и говорит, что слышала, будто тут находится неплохой хостел. Я выбираю комнату с балконом, с которого открывается вид на площадь, сижу и наблюдаю за людьми, прячущимися от послеполуденного солнца. Магазины закрываются на сиесту, а ведь я собирался побродить вокруг и пообедать, но есть мне не хочется. Я несколько измотан после этой поездки; желудок как будто все еще трясет по кочкам. Я принимаю решение тоже устроить себе сиесту.
Просыпаюсь я в поту. На улице уже темно, в моей комнате воздух спертый, затхлый. Я пытаюсь подняться, чтобы открыть окно или дверь балкона, но меня начинает тошнить. Я плюхаюсь обратно на кровать и закрываю глаза, пытаясь снова заснуть. Иногда у меня получается обмануть организм, и ему удается как-то отрегулировать свое состояние, даже толком не заметив, что что-то пошло не так. Иногда получается.
Но сегодня – нет. Я вспоминаю съеденную накануне свинину в коричневом соусе, и от мысли о ней желудок начинает трепыхаться, как мешок с пойманным диким зверьком.
Отравился. Наверняка. Я вздыхаю. Ну ладно. Несколько часов пострадаю, потом усну. А потом все пройдет. Всегда главное – выспаться.
Я не знаю, сколько времени, не знаю, сколько до рассвета, но вот он наступает, а я не засыпал ни на минуту. Меня столько рвало, что пластмассовое ведро уже почти полно. Я несколько раз пытался добраться до общей ванной в конце коридора, но мне не удавалось уйти дальше двери. А теперь солнце встало, и комната начала прогреваться. Токсические пары, исходящие из ведра, буквально видно невооруженным глазом, и они отравляют меня повторно.
Меня все рвет. И никакого облегчения в перерывах между приступами я не чувствую. Я выблевываю все – всю пищу, всю желчь, кажется, что и от меня самого уже ничего не осталось.
Тут меня начинает мучать еще и ужасная жажда. Я давно уже выпил последнюю воду из бутылки, которую тоже выблевал. В моем воображении появляются горные ручьи, водопады, ливни, даже каналы Голландии – я бы и из них попил, если бы мог. Внизу продается бутилированная вода. В ванной есть кран. Но я не могу ни сесть, ни тем более встать, что уж говорить о том, чтобы дойти до воды.
«Есть кто-нибудь?» – зову я. По-голландски. По-английски. Пытаюсь вспомнить испанский, но слова путаются. Я даже не понимаю, произношу ли я что-нибудь, на площади очень шумно, моего слабого голоса никто не услышит.
Я жду, что в дверь постучат, предложат воды, сменить простыни, холодный компресс, положить мягкую ладонь на лоб. Но никто не приходит. Это хостел, никакого обслуживания, а я заплатил сразу за две ночи.
Очередной позыв, ничего не выходит, только слезы. Мне двадцать один год, а я до сих пор плачу, когда блюю.
Наконец, меня спасает сон. Потом я просыпаюсь и вижу ее. Она так близко. И я думаю лишь: «Если ты вернулась, оно того стоило».
«Кто о тебе теперь заботится?» – спрашивает она, и ее шепот похож на прохладный ветерок.
«Ты, – шепчу я в ответ. – Ты обо мне заботишься».
«Я стану для тебя той девушкой из горной деревушки».
Я тяну к ней руку, но она пропадает, а комната заполняется другими: Селин, Ана Лусиа, Кайла, Сара, девчонка с личинкой, и еще, и еще… Фрэнк из Риги, Джанна из Праги, Йоссра из Туниса. И все они начинают говорить.
«Мы о тебе позаботимся».
«Уходите, мне нужна Лулу. Скажите ей, чтобы вернулась».