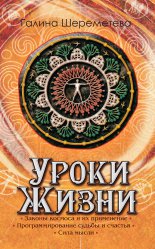Философия свободы. Европа Берлин Исайя

Свобода быть хозяином себе и свобода от того, чтобы мой выбор определяли другие, при поверхностном взгляде могут казаться одной и той же мыслью, выраженной утвердительно и отрицательно. Однако в историческом плане «позитивное» и «негативное» представления развивались в противоположных направлениях, каждое из которых было по-своему логичным, пока, наконец, не пришли к прямому конфликту.
Прояснить это можно на примере того, как развивалась вполне невинная метафора самостояния. «Я сам себе хозяин», «Я — не раб»; но не могу ли я быть (как говорили платоники и гегельянцы) рабом природы или своих необузданных страстей? И потом, у родового понятия «раб» много подвидов; одни — в политическом или юридическом рабстве, другие — в моральном или духовном. Разве не бывало так, что люди освобождались от духовного рабства или рабства у природы и убеждались, что, с одной стороны, на волю выходит независимое личностное начало, а с другой — что-то попадает под новый гнет? Это личностное начало отождествляют то с разумом, то с «высшей природой», то со способностью предвидеть и ставить задачи, влекущие за собой удовлетворение, то с «истинным», или «идеальным», или «лучшим», или «самостоятельным» Я, которое противопоставляется иррациональным импульсам, неконтролируемым желаниям, низменной природе, искушениям и соблазнам, «эмпирическому» и «раздрызганному» Я, которое уступит любой вспышке желания или страсти и нуждается в строгой дисциплине, иначе невозможно дорасти до своей «истинной» натуры. Пропасть увеличивается. Истинная натура становится больше человека (в обычном смысле); это уже социальное «целое», элементом или частью которого он оказался, — племя, раса, церковь, государство, огромное сообщество живых, мертвых и еще не рожденных. Целостность эту и признают «истинной» натурой, которая, подчиняя непокорных «членов» коллективной или «органической» воле, достигает «высшей» свободы для себя, а значит — для них. О том, как опасны органические метафоры, когда ими оправдывают принуждение одних людей другими, чтобы поднять их на более «высокий» уровень свободы, писали много. Но особую убедительность обретает такой язык, если мы признаем, что возможно, а часто — и оправдано принуждение во имя какой-то задачи (скажем, борьбы с правонарушениями или охраны здоровья), которую люди решили бы сами, будь они не столь невежественными, слепыми и порочными. Легко вообразить, что ты принуждаешь других для их же блага, в их же собственных, а не в своих интересах. Поскольку я знаю их подлинные нужды лучше, чем они сами, они не стали бы сопротивляться, если бы были такими же разумными и мудрыми, как я, и так же хорошо понимали свои интересы. Можно пойти и дальше. Можно сказать, что на самом деле они стремятся к тому, чему по своей косности сознательно противятся, так как в них таится некое мистическое начало — латентная воля или «подлинная» цель. Начало это, хотя ему противоречит все, что они чувствуют, делают и говорят, и есть их «истинная» натура, о которой может не знать их бедное эмпирическое «Я»; и считаться надо только с ее желаниями[55]. Встав на эту точку зрения, я могу игнорировать реальные желания людей и обществ, бесчинствовать, угнетать, мучить их во имя и от имени их «подлинных» натур в твердой уверенности, что какая-то настоящая цель (счастье, исполнение долга, мудрость, справедливое общество, самореализация) должна быть тождественной их свободе — свободному выбору «подлинной», но, увы, часто неосознанной натуры.
Этот парадокс обличали неоднократно. Одно дело говорить, что я знаю, в чем благо для X, а сам он не знает, и не считаться с ним ради этого блага; другое — верить, что он сам сделал выбор, правда, бессознательно, не так, как в повседневной жизни, а посредством своего разумного «Я», о котором эмпирическое «Я» может и не знать; посредством «подлинного Я», которое различает, что ему нужно, и непременно избирает это, однажды различив. Это чудовищное перевоплощение — ведь мы уже приравниваем то, что X выбрал бы, если бы не был собой, к тому, что он действительно хочет и выбирает, — лежит в основе всех политических теорий самореализации. Одно дело сказать, что меня можно принудить для моего же блага, которого я по слепоте своей не вижу; в некоторых случаях это мне полезно и даже расширит пространство моей свободы. Другое дело утверждать, что поскольку речь идет о моем благе, то это вообще не принуждение, а моя собственная воля, знаю я о том или нет, и я свободен (или «подлинно» свободен), даже если мое земное тело и глупая голова отчаянно сопротивляются тем, кто из самых добрых побуждений мне это благо навязывает.
Это волшебное превращение (из-за которого Уильям Джеймс справедливо высмеивал гегельянцев) можно, без сомнения, так же легко проделать и с «негативным» представлением о свободе, если за «Я», стремящееся оградить себя от вмешательства, принять не человека с его непосредственными нормальными желаниями и потребностями, а его «подлинное Я», отождествляемое со стремлением к какой-то идеальной цели, о которой человек эмпирический и не подозревает. Как и в случае с «позитивно» свободным «Я», эту внутреннюю натуру можно раздуть до масштабов сверхличностной сущности — государства, класса, нации или исторического прогресса, рассматриваемых как более «подлинные» носители значимых свойств, чем эмпирический индивид. Но «позитивная» концепция свободы как господства человека над самим собой, с ее возможностью представить, что он как бы сам себе противостоит, и исторически, и практически, и теоретически легче допускает это расщепление личности на трансцендентного контролера и сгусток желаний и страстей, которые необходимо подавить и обуздать. Именно этот исторический факт имел большое значение. Он доказывает (если вообще столь очевидная истина нуждается в доказательствах), что концепции свободы непосредственно выводятся из наших представлений о том, что такое человек, личность, наше «Я». Определения, даваемые человеку и свободе, допускают достаточно много манипуляций, чтобы тот, кто ими занялся, получил то, что ему требуется. История новейшего времени слишком хорошо показала, что вопрос этот — отнюдь не только академический.
К чему приводит различение двух видов «Я», станет еще яснее, если мы рассмотрим две главные формы желания управлять собой или подчиняться своему «подлинному Я», которые складывались исторически. Можно отречься от себя во имя независимости; можно ради той же независимости отождествить себя, частично или полностью, с каким-то принципом или идеалом.
III
Отступление во внутреннюю цитадель
Я обладаю разумом и волей, я ставлю перед собой цели и стремлюсь их достигнуть; а если мне не дают, я уже не чувствую себя хозяином положения. Мне могут препятствовать законы природы, или случайности, или действия людей, или непредумышленные воздействия человеческих институтов. Эти силы могут оказаться гораздо могущественней меня. Что же мне делать, чтобы они меня не сокрушили? Если я знаю, что желания мои неосуществимы, я должен от них освободиться. Я хочу быть властелином своего царства, но границы его слишком протяженны и ненадежны, значит, надо их сократить, чтобы уменьшить или вообще уничтожить небезопасную территорию. Поначалу я хочу счастья, или власти, или знаний, или еще чего-нибудь, но не могу их добиться. Тогда, чтобы избежать поражения и пустой траты сил, я решаю не стремиться к тому, в достижении чего не уверен, не желать недостижимого. Тиран угрожает мне бедностью, тюрьмой, изгнанием, гибелью близких. Но если я не привязан к собственности, если мне безразлично, в тюрьме я или на воле, если я убил в себе естественные чувства, он не сможет подчинить меня, ибо то, что от меня осталось, больше не подвержено эмпирическим страхам или желаниям. Я совершил стратегическое отступление в свою внутреннюю цитадель, в свое «ноуменальное Я», к которому не смогут прикоснуться, как ни станут стараться, ни слепые внешние силы, ни людская злоба. Я ушел в себя и здесь, и только здесь, нахожусь в безопасности. Это похоже на то, как если бы я сказал: «У меня на ноге рана. Есть два способа освободиться от боли. Можно рану залечить. Можно отрезать ногу. Если я научусь не хотеть ничего такого, для чего непременно нужны обе ноги, я не буду страдать без одной из них». Так ведут себя аскеты и квиетисты, стоики и буддистские святые, люди различных религий и люди без религии — словом, те, кто убежал от мира и сбросил с себя иго общества или общественного мнения в процессе намеренного самоусовершенствования, дающего им возможность не заботиться о мирских ценностях, оставаясь независимыми и отрешенными за краем мира, где ты уже неуязвим для его стрел[56]. Всякий политический изоляционизм, всякая экономическая автаркия, любая форма автономии содержит в себе такие элементы. Я устраняю препятствия на своем пути, покидая сам путь; я удаляюсь в свою секту, в свою плановую экономику, свою сознательно изолируемую территорию, где мне не надо прислушиваться к голосам извне и никакие посторонние силы на меня не влияют. Все это — разновидность стремления к безопасности, но называют это и стремлением к личной или национальной свободе.
От этой концепции, примененной к отдельным людям, недалеко и до представлений тех, кто, подобно Канту, отождествлял свободу не с устранением желаний, а с сопротивлением им, с контролем над ними. Я отождествляю себя с тем, в чьих руках контроль, и избегаю рабства, в котором пребывают находящиеся под контролем. Я свободен, поскольку и насколько я автономен. Я послушен законам, но я добровольно подчинил им свое «Я» или обнаружил их в нем. Свобода — это послушание, но, говоря словами Руссо, «послушание закону, который мы сами себе предписываем[57], а никакой человек не может поработить сам себя. Гетерономия — это зависимость от посторонних факторов, тенденция стать игрушкой внешнего мира, который вне моего контроля, а значит — контролирует и порабощает меня. Я свободен лишь в той степени, в какой моя личность не опутана тем, что подчиняется силам, мною не контролируемым; так, я не могу контролировать силы природы, и моя свободная деятельность должна подняться над эмпирическим миром причинности. Здесь не место обсуждать, верно ли это древнее и широко известное представление; замечу только, что взаимосвязанные идеи свободы как сопротивления неосуществимым желаниям (или бегства от них) и свободы как независимости от причинности играют в политике не менее важную роль, чем в этике.
Если сущность людей в том, чтобы быть автономными создателями ценностей, которые сами себе — цель, если обосновано это именно тем, что они наделены свободной волей, то нет ничего хуже, чем обращаться с ними как с неодушевленными предметами, подверженными причинным влияниям, которые находятся во власти внешних воздействий, и чьим выбором можно манипулировать с помощью угроз и вознаграждений. Обращаясь так с людьми, мы не признаем за ними свободы. «Никто не заставит меня быть счастливым так, как он это понимает», — писал Кант. «Патернализм — самая великая деспотия, какую только можно себе представить»[58]. Обходясь с людьми так, словно они не свободны, а представляют собой материал в руках желающего им добра реформатора, мы действуем по нашей, а не по их свободной воле. Разумеется, именно такую политику рекомендовали ранние утилитаристы. Гельвеций и Бентам верили не в то, что надо бороться с человеческой склонностью быть рабами своих страстей, а в то, что надо использовать эту склонность; они не хотели пугать людей наказаниями и соблазнять наградами, если подобные средства могут сделать «рабов» счастливее, — а это и есть самая острая из возможных форм гетерономии[59]. Манипулируя людьми, толкая их к целям, которые видны нам, социальным реформаторам, а им не видны, мы обращаемся с ними как с безвольными объектами, а значит — их разлагаем. Обманывая людей, используя их для наших, а не для ими самими поставленных целей, даже ради их блага, мы, в сущности, поступаем с ними как с недочеловеками, словно их цели менее окончательны и святы, чем наши. Во имя чего я заставляю других делать то, чего они делать не хотели и на что не согласились? Только во имя какой-то ценности, более высокой, чем они сами. Но если, как полагал Кант, все ценности становятся ценностями в результате свободных человеческих действий и называются так только в этой связи, то нет большей ценности, чем сам человек. Поэтому, делая так, как сказано выше, мы принуждаем людей во имя чего-то менее значительного, чем они сами, подчиняя их нашей воле, или чьему-то представлению о счастье, или силе обстоятельств, или заботе о безопасности. Я стремлюсь к тому, чего хочу я сам или хочет моя группа, и для этого использую других людей в качестве средств. Мотив может быть любым, даже благородным, но я вступаю в противоречие с представлением о человеке как конечной цели. Все виды безумных экспериментов на людях, давление, перевоспитание, контроль над мыслями отрицают в людях то, что делает их людьми, а их ценность — наивысшей и конечной[60].
Кантовский свободный индивид — трансцендентное существо, находящееся за рамками природной причинности. В эмпирической постановке вопроса, где человек берется в его обыденной жизни, это представление стало сердцевиной либерального гуманизма — и морального, и политического, — формировавшегося в XVIII в. под глубоким влиянием Канта и Руссо. В своем априорном виде это дает секуляризованный протестантский индивидуализм, где место Бога занимает концепция рациональной жизни, а место отдельной души, стремящейся к единению с ним, — концепция индивида, наделенного разумом, стремящегося жить по разуму и не зависеть от того, что может, подключив иррациональную сторону натуры, увести его в сторону или ввести в заблуждение. Это — автономия, а не гетерономия; человек должен действовать, а не быть объектом воздействия. Для тех, кто мыслит подобным образом, рабство у страстей — более чем метафора. Отделавшись от страха, от любви, от желаний, мы освободим себя от деспотии того, что не можем держать под контролем. Софокл, чьи слова приводит Платон, говорил, что только старость освободила его от любовных страстей, жестокого господина, и для него это было так же реально, как освобождение от настоящего тирана или рабовладельца. Психологический опыт, связанный с тем, что ты уступил какому-то «низменному» импульсу и действовал в силу мотива, который тебе не нравится, или вел себя недостойно, а потом обнаруживал, что «был не в себе» или «не владел собой», принадлежит к этому типу мышления и словесному стилю. Я отождествляю себя со своим разумным и критическим состоянием. Последствия моих действий не имеют значения, поскольку я их не контролирую; важны только мотивы. Вот кредо уединенного мыслителя, отринувшего мир и сбросившего людские и вещественные цепи. В этой форме такие представления могут казаться сугубо этическими и едва ли относятся к политике, однако политические выводы достаточно ясны, и они входят в традицию либерального индивидуализма не менее глубоко, чем «негативное» понимание свободы.
Возможно, надо отметить, что в своем индивидуалистическом виде представление о разумном мудреце, укрывшемся во внутренней крепости подлинного «Я», возникает, скорее всего, в те периоды, когда внешний мир особенно бездушен, жесток и несправедлив. «Подлинно свободен, — писал Руссо, — тот, кто желает того, что может сделать, и делает то, чего желает»[61]. В мире, в котором человек, ищущий счастья, справедливости или свободы (в любом ее понимании), не может почти ничего добиться, поскольку многие пути для него закрыты, соблазн уйти в себя становится непреодолимым. Так, вероятно, случилось в Греции, где стоический идеал нельзя не связать с падением независимых демократий и установлением централизованной македонской автократии; так было в Риме после конца республики[62]. Так было в Германии XVII в., когда за Тридцатилетней войной последовало глубочайшее разложение, и самый характер общественной жизни, особенно в небольших княжествах, вынуждал тех, кому дорого человеческое достоинство, не в первый и не в последний раз отправляться во внутреннюю эмиграцию. Доктрина, согласно которой я не должен желать того, чего не получу, гласящая, что подавленное или успешно сдержанное желание столь же прекрасно, как и желание удовлетворенное, — на мой взгляд, утонченный, но все же узнаваемый принцип «зеленого винограда»: не желай того, в чем ты не уверен.
Становится ясно, почему не годится определение негативной свободы как возможности делать все, что хочешь (а это и есть, по сути, формулировка, принятая Миллем). Если я попадаю в положение, когда мало что могу сделать или не могу сделать ничего, нужно сократить или устранить само желание, и я свободен. Если тирану (хотя бы замаскированному) удастся так настроить своих подданных (или клиентов), чтобы они потеряли изначальные желания и приняли («ввели внутрь») тот образ жизни, который он для них измыслил, он, по данной формуле, их освободил. Да, конечно, он дал им чувство свободы, подобно тому, как Эпиктет чувствовал себя свободнее своего господина (или как пресловутый праведник блаженствует на дыбе). Но то, что он создал, прямо противоположно политической свободе.
Аскетическое самоотречение может способствовать целостности характера, безмятежному спокойствию, духовной силе, но трудно увидеть в нем увеличение объема свободы. Если я, спасаясь от противника, спрячусь в доме и запру все входы и выходы, я, может быть, и буду свободней, чем у него в плену, но буду ли я свободнее, чем если бы я победил и пленил его самого? Если я надолго запрусь в тесном помещении, я задохнусь и умру. Уничтожение всего, чем меня можно уязвить, логически завершается самоубийством. Пока я живу в физическом мире, я никогда не смогу быть в полной безопасности. В этом смысле (как правильно ощутил Шопенгауэр) полное освобождение дает только смерть[63].
Я — в мире, где моя воля наталкивается на препятствия. Тех, кто принял «негативное» понимание свободы, должно быть, легче оправдать, если мы примем, что самоотречение — не единственный способ преодоления препятствий. Их можно и устранить — физическим действием, если речь идет не о людях, или силой, или убеждением, как случается, когда я прошу потесниться и уступить мне место или завоевываю землю, угрожающую интересам моей страны. Такие действия могут быть несправедливыми, они могут сопровождаться насилием, жестокостью, порабощением, но трудно отрицать, что с их помощью мы получаем возможность расширить свою свободу в самом буквальном смысле. Ирония истории в том, что эту простую истину отрицают многие из тех, кто воплощает ее в жизнь самым воинственным образом; люди, которые, насильственно отвоевывая власть и свободу действия, отвергают «негативные» представления и принимают «позитивные». Их взгляды господствуют в половине мира. Посмотрим, на каких метафизических основаниях они покоятся.
IV
Самореализация
Нам говорят, что единственный способ достигнуть свободы — использование критического разума, отличающего необходимое от второстепенного и случайного. Если я школьник, даже простейшие математические истины застревают у меня в мозгу в виде неизвестно кому нужных теорем, мешая мне думать. Их сочли истинными какие-то внешние авторитеты, а мне они кажутся инородными телами, которые я, раз уж от меня этого ждут, должен механически встроить в свою систему. Но когда я пойму, зачем существуют символы, аксиомы, правила построения уравнений и математических преобразований, — словом, ту логику, с помощью которой получаются решения, и смогу убедиться, что иначе и быть не может, потому что все это следует из законов, управляющих моим собственным мышлением[64], математические истины покажутся мне не навязанными, внешними предметами, которые я должен принять независимо от своих желаний, а плодами моей свободной воли, которые я получаю, работая разумом. Для математика доказательство этих теорем — часть свободного проявления его естественных мыслительных способностей. Музыкант, который научился читать партитуру, играя на рояле, не повинуется каким-то законам или чьему-то принуждению и не теряет свободы, а свободно, без помех, проявляет себя. Он не привязан к партитуре, как вол к плугу или рабочий — к станку. Он впитал нотную грамоту, ввел ее в свою систему, понял ее, отождествился с ней и превратил из помехи свободе в часть свободной деятельности.
То, что относится к музыке или математике, скажут нам, должно относиться к любым препятствиям, возникающим на пути самосовершенствования, подобно глыбам постороннего вещества. В этом и состоит программа просвещенного рационализма от Спинозы до позднейших (нередко — бессознательных) последователей Гегеля. Sapere aude[65]. Если вы понимаете рациональную необходимость чего-то, вы не можете, оставаясь разумным, хотеть, чтобы было по-другому. Если миром правит необходимость, хотеть, чтобы что-то было не таким, как должно быть, может либо невежда, либо глупец. Страсти, предрассудки, страхи, неврозы вырастают из невежества, принимая вид мифов и иллюзий. Породило ли их воображение беззастенчивых шарлатанов, обманывающих нас, чтобы эксплуатировать, или они имеют психологические или социологические корни, попадая под их власть, мы подчиняемся внешним факторам, толкающим нас туда, куда мы идти не хотим. Научные детерминисты XVIII в. полагали, что, изучая естественные науки и создав по тому же образцу науку об обществе, мы поймем такие силы, а значит — осознаем свою роль в работе разумного мира, который подавляет только тех, кто его не понял. Как давным-давно учил Эпикур, знание освобождает, устраняя иррациональные страхи и желания.
Гердер, Гегель и Маркс заменили своими виталистическими моделями социальной жизни более старые, механистические, но и они не меньше, чем их оппоненты, верили в то, что, поняв мир, мы достигнем свободы. От оппонентов их отличало то, что они подчеркивали роль изменений и роста в становлении человека. Социальную жизнь нельзя понять через аналогии, почерпнутые в математике и физике. Нужно понять еще и историю, то есть особые законы непрерывного роста, через «диалектические» противоречия или как-то иначе управляющие людьми в их отношениях друг с другом и с природой. Согласно таким мыслителям, если мы этого не поймем, мы впадем в заблуждение и поверим, что человеческая натура статична, что ее существенные свойства одинаковы везде и всегда, что управляют ею неизменные естественные законы, как бы их ни сформулировать — в теологических или материалистических терминах. Отсюда следует неверный вывод: мудрый законодатель в принципе может, путем просвещения и права, создать совершенно гармоничное общество, потому что разумные люди всех веков и стран требуют удовлетворения одних и тех же неизменных потребностей. Гегель считал, что его современники (и, собственно, все его предшественники) не понимали природы институтов, ибо не знали законов, постигаемых разумом (поскольку возникают они в результате его, разума, действий), по которым создаются и изменяются институты и преобразуется человек. Маркс и его ученики были убеждены, что людям мешают не только препятствия или несовершенства их собственной натуры, но и в еще большей мере социальные институты, первоначально созданные (не всегда сознательно) для определенных целей, чье действие они снова и снова толкуют неправильно[66], в результате чего те и препятствуют прогрессу своих создателей. Маркс предложил социально-экономические гипотезы, объясняющие неизбежность таких заблуждений, в особенности — иллюзию, подсказывающую нам, что созданные человеком установления независимы, неотвратимы, как законы природы.
Примерами таких псевдообъективных сил он считал законы спроса и предложения, институт собственности, вечное разделение общества на богатых и бедных, на собственников и рабочих и множество других неизменных человеческих категорий. Старый мир можно разрушить и создать вместо него более совершенные и обеспечивающие свободу социальные устройства только тогда, когда мы сбросим чары этих иллюзий, то есть когда достаточное число людей достигнет такой стадии общественного развития, которая даст возможность понять, что институты — порождение человеческих рук и умов, необходимое в свое время, которые потом ошибочно сочли неумолимыми объективными силами.
Мы порабощены учреждениями, верованиями, неврозами, которые можно свергнуть только тогда, когда проанализируешь и поймешь их природу. Мы — в плену у злых духов, которых мы сами сотворили (пусть и бессознательно) и можем изгнать, если станем сознательными и будем действовать должным образом. Для Маркса осознание и есть действие. Я свободен в том, и только в том, случае, если я планирую свою жизнь в соответствии со своей волей; планы влекут за собой правила; правило не угнетает и не порабощает меня, если я сознательно возлагаю его на себя или свободно принимаю, независимо от того, выработано оно мной или другими, и если оно рационально, то есть соответствует порядку вещей. Поняв, что вещи таковы, какими они должны быть, мы и хотим, чтобы они такими были. Знание освобождает нас не тем, что предоставляет больше возможностей, а тем, что предохраняет от разочарований, которыми чреваты попытки совершить невозможное. Желая, чтобы непреложные законы были не тем, что они есть, мы становимся жертвами иррационального стремления к тому, чтобы что-то было X и не X одновременно. Пойти дальше и считать, что законы эти — другие, чем то, что они из себя по необходимости представляют, может только безумец. Такова метафизическая сердцевина рационализма. Заложенное в нем понимание свободы — не «негативное» представление о пространстве без препятствий (в идеале), о вакууме, где ничто не загораживает мне путь, а представление о самоконтроле и самостоянии. Я делаю все по собственной воле. Я — разумное существо; если я убедился, что то или иное не может быть другим в разумном обществе, то есть в обществе, которое разумные люди направляют к целям, какие и должно ставить, я не захочу устранять их со своего пути. Я приму их, впитаю как законы логики, математики, физики, искусства- словом, принципы, управляющие всем, что я понимаю и потому принимаю, и разумные цели, которые никогда не помешают мне, поскольку я не хочу, чтобы они стали другими.
В этом и состоит позитивная доктрина освобождения через разум. Социализированные ее версии, совершенно не похожие друг на друга и друг с другом конфликтующие, таятся в сердцевине многих националистических, коммунистических, авторитарных и тоталитарных убеждений. Развиваясь, эта доктрина могла уплывать далеко от своей рационалистической гавани. Тем не менее именно такую свободу обсуждают, за такую свободу борются и в демократиях, и в диктатурах многих уголков земли. Не вдаваясь в подробности ее исторической эволюции, я хочу коснуться некоторых превратностей ее судьбы.
V
Храм Сарастро
Тем, кто верил в свободу как в рациональное самовоспитание, рано или поздно пришлось подумать о том, как приложить это не просто к внутренней жизни человека, но и к его отношениям с другими членами общества. Даже самые большие индивидуалисты среди них — а Руссо, Кант и Фихте, безусловно, начинали как индивидуалисты — в какой-то момент встали перед вопросом: возможна ли разумная жизнь не только индивида, но и общества, а если возможна, то как ее достичь? Я хочу быть свободным и жить по указанию моей разумной воли («настоящего Я»), но такими же должны быть и другие. Как мне избежать столкновения с их волями? Где пролегает граница между моими (рационально определенными) правами и такими же правами других людей? Если я разумен, я не могу отрицать, что правильное для меня, по тем же соображениям, правильно и для других, таких же разумных. Разумным (или свободным) государство будет в том случае, если в нем будут править законы, свободно принятые всеми разумными людьми; иначе говоря, такие законы, которые они сами учредили бы, если бы их спросили как разумных людей, что им требуется; следовательно, границы были бы такими, которые все разумные люди сочли бы правильными для разумных существ.
Кто же, в самом деле, должен определить эти границы? Мыслители этого типа доказывали, что, если моральные и политические проблемы подлинны (а такими те, несомненно, и были), их можно решить; то есть должно существовать одно и только одно решение любой проблемы. Все истины может в принципе открыть любой рациональный мыслитель и продемонстрировать с такой убедительностью, что другие разумные люди непременно согласятся; именно так обстоит дело в новых естественных науках. Получалось, что проблему политической свободы можно разрешить, установив справедливый порядок, который предоставил бы каждому человеку свободу, положенную разумному существу. Мои претензии на неограниченную свободу, казалось бы, могут противоречить таким же претензиям другого. Но разумное решение одной проблемы не сталкивается с верным решением другой, ибо две истины не могут быть логически несовместимыми; значит, в принципе можно изобрести справедливый порядок, правила которого позволят решить все возникающие проблемы. Такое идеальное положение дел всегда представляли в виде Эдемского сада до грехопадения, из которого мы были изгнаны, но по которому все еще тоскуем, или в виде еще предстоящего нам золотого века, когда люди, обретя разум, перестанут идти на поводу у других и не будут больше подвергать друг друга «отчуждению» и обидам. В существующих обществах справедливость и равенство — идеалы, которые все еще требуют определенной толики насилия; ведь если преждевременно снять социальный контроль, более сильные, способные и наглые станут угнетать физически и умственно слабых. Согласно рассматриваемой доктрине только сохранившаяся в людях иррациональность побуждает их угнетать, эксплуатировать и унижать друг друга. Люди разумные будут уважать друг в друге разум и лишатся всякого стремления к борьбе и к господству. Желание господствовать само по себе — симптом неразумия, его можно объяснить и исцелить рациональными методами.
Спиноза предлагает одни объяснения и лекарства, Гегель — другие, Маркс — третьи. Некоторые из этих теорий могут, по-видимому, в какой то степени дополнить друг друга, какие-то из них несочетаемы, но все они исходят из допущения, что в обществе совершенных и разумных существ жажды господства не будет или она станет неэффективной. Угнетение или влечение к нему — первый симптом того, что проблемы социальной жизни еще не решены.
Все это можно представить и другим образом. Я свободен, когда я сам себе хозяин, когда нет препятствий моей воле, чем бы они ни были, — сопротивлением ли сил природы, собственными ли моими страстями, неразумными ли институтами или же противостоящей мне волей других людей. Природу я всегда могу, по крайней мере в принципе, перекроить и подогнать по своей воле с помощью технических средств. Но как мне быть с неподатливыми людьми? Я должен, если могу, подчинить их своей воле, перекроить по своему фасону, определить им роль в своей пьесе. Не будет ли это означать, что я один свободен, а они — рабы? Да, если мой план соответствует не их желаниям и ценностям, а только моим собственным. Если же он разумен, он позволит им до конца раскрыть их «подлинную» натуру, реализовать способность к разумному решению, к проявлению «лучшего Я». Все верные решения истинных проблем должны быть совместимыми. Более того, они должны составлять единое целое, ибо это и есть представление о них как о рациональных и о мире как гармоничном. У каждого человека свой особый характер, способности, устремления, цели. Постигнув их характеры, цели, отношения, я могу, по крайней мере в принципе, если у меня достанет знаний и силы, удовлетворить их всех, коль скоро эти характеры и цели рациональны. Разумный человек знает и вещи и людей такими, какие они есть. Не надо делать скрипки из камня или заставлять прирожденных скрипачей, чтобы они играли на флейте. Если вселенной управляет разум, то нет нужды в насилии. Правильно спланированная жизнь совпадет с полной свободой для всех — свободой разумного самонаправления. Но так будет в том, и только в том, случае, если план верен; если он представляет собой единственно возможную схему, отвечающую требованиям разума. Если законы будут правилами, предписанными разумом, их воспримут с раздражением только те, чей разум дремлет, кто не понимает подлинных потребностей своего «настоящего Я». Коль скоро каждый исполнитель признает и играет роль, назначенную разумом — инстанцией, способной понять его настоящую натуру и различить его настоящие цели, конфликта быть не может. Каждый человек будет свободным самоуправляемым актером в космической драме. Спиноза говорит нам, что дети, хотя их и принуждают, не становятся рабами, поскольку слушаются приказаний, отдаваемых для их же пользы. И член настоящего сообщества — не раб, так как общий интерес должен включать его собственный[67]. Локк провозглашает: «Где нет закона, нет и свободы», поскольку разумный закон указывает направление к «правильным интересам» и «общему благу» человека; и добавляет, что, раз такой закон «только и служит оградой от болот и пропастей», его «вряд ли можно назвать ограничителем свободы»[68], а желание уклониться от него неразумно, «звероподобно», свидетельствует о «распущенности»[69] и т. п. Монтескье, забывая о своих либеральных позывах, говорит о политической свободе не как о позволении делать, что хочешь или даже то, что разрешает закон, а как о «возможности делать то, что должно желать»[70], и это фактически повторил Кант. Берк провозглашает «право» индивидуума на то, чтобы его ограничивали ради его же интереса, так как «предполагаемое согласие всякого разумного существа совпадает с предустановленным порядком вещей».[71]
Общая посылка этих мыслителей (и многих схоластов до них, и коммунистов после) состоит в том, что разумные цели наших «настоящих» натур должны совпадать или их надо к этому принудить, как бы яростно ни протестовали наши бедные, невежественные, обуреваемые желаниями и страстями эмпирические «Я». Свобода не есть свобода поступать неразумно, неверно или глупо. Принуждая эмпирические «Я» к правильному образу действия, мы не подавляем их, а освобождаем[72]. Руссо объясняет мне, что, если я свободно уступаю обществу все составные части своей жизни, я создаю такую целостность, которая, поскольку она построена на равном самопожертвовании всех своих членов, не может сознательно причинить боль ни одному из них. В таком обществе, говорит он, никто не заинтересован в том, чтобы нанести ущерб другому. «Отдавая себя всем, я не отдаю себя никому»[73] и возвращаю назад столько же, сколько теряю, поскольку у меня достаточно новых сил, чтобы защитить мои новые обретения. Кант сообщает нам, что, «когда индивидуум окончательно расстается со своей дикой беззаконной свободой, обретая ее вновь ничуть не пострадавшей от того, что он зависим от закона», только это и есть настоящая свобода, «ибо такая зависимость — работа моей собственной воли, действующей в качестве законодателя»[74]. Свобода, столь недалеко отстоящая от власти, фактически с ней совпадает. Таковы мысли и таков язык всех деклараций о правах человека в XVIII в. и всех тех, кто смотрит на общество как на проект, построенный по рациональным законам мудрого законодателя, или природы, или истории, или Высшего Существа. Бентам почти в одиночку упрямо твердил, что дело законов — не освобождать, а ограничивать, и всякий закон ущемляет свободу[75], даже если такое ущемление суммарно ее и увеличит.
Если бы все эти посылки были верны, социальные проблемы разрешались бы так, как разрешаются проблемы в естественных науках, а разум был бы тем, чем его считали рационалисты, — может быть, все и было бы, как сказано выше. В идеальном случае свобода совпадает с законом, автономия — с властью. Закон, запрещающий мне делать то, чего я как здравомыслящее существо и не захочу делать, свободу не ограничивает. В идеальном обществе, состоящем из полностью ответственных людей, правила, которые я буду едва чувствовать, постепенно отомрут. Только одно социальное движение — движение анархистов — оказалось достаточно смелым, чтобы вполне открыто это провозгласить и принять все последствия. Но всякий либерализм, основанный на рационалистической метафизике, в большей или меньшей мере разбавлен версиями этой доктрины.
С течением времени мыслители, стремившиеся решить эти проблемы в подобном духе, столкнулись с вопросом, как же на практике сделать людей разумными в указанном смысле. Конечно, им нужно дать образование; ведь необразованные люди неразумны, гетерономны и нуждаются в принуждении хотя бы для того, чтобы жизнь была терпимой для людей разумных, если те хотят жить в том же обществе, а не быть вытесненными в пустыню или на Олимпийские высоты. Фихте пишет, что образование должно непременно работать таким образом, чтобы «вы впоследствии признали и приняли мотивы того, что я теперь делаю»[76]. Трудно ожидать, чтобы дети поняли, почему их заставляют ходить в школу. Так же и невежественные, то есть пока что большая часть человечества, не понимают, почему они должны слушаться законов, которые сделают их разумными. «Принуждение — это тоже своего рода образование»[77]. Вы познаете, как полезно слушаться тех, кто вас превосходит. Если вы не можете понять своих собственных интересов, не надо ждать, что, воспитывая в вас разумность, я стану с вами советоваться или считаться с вашими желаниями в процессе воспитания. В конце концов, я должен защитить вас от оспы, даже если вы этого не хотите. Милль и тот вынужден признать, что я имею право удержать человека, который хочет вступить на мост, если у меня нет времени предупредить его, что мост вот-вот обрушится, ибо я знаю или с большой долей уверенности могу полагать, что человек этот и сам не хочет свалиться в воду. Фихте уверен, что ему известно лучше, чем необразованному немцу его времени, кем тот хочет быть и что хочет делать. Мудрец знает вас лучше, чем вы сами, ибо вы — жертва своих страстей, гетерономный раб, зависимый от всего на свете, близорукий, не способный понять свои настоящие цели. Вы хотите быть человеком. Задача государства — помочь вам в этом. «Принуждение оправдано, поскольку оно воспитывает будущую способность к пониманию»[78]. Мой внутренний разум, если он восторжествует, должен подавить и уничтожить мои «низменные» инстинкты, мои желания и страсти, превращающие меня в раба. Подобным же образом (фатальный переход от индивидуального к социальному совершается почти неуловимо) высшие слои общества, лучше образованные, более разумные, те, кто «обладает наивысшими для своего времени и народа способностями понимания»[79], имеют право совершать насилие, чтобы сделать разумной неразумную часть общества. Как часто заверяли нас Гегель, Брэдли, Бозанкет, подчиняясь разумному человеку, мы подчиняемся самим себе, но не таким, какие мы есть, погрязшим в невежестве и страстях, слабым существам, подверженным болезни и нуждающимся в целителе, несмышленышам, требующим опеки, а таким, какими мы можем стать, обретя разум; какими можем быть уже сейчас, если к нему прислушаемся, поскольку, согласно гипотезе, рациональное начало есть в каждом человеке, заслуживающем этого имени.
Философы «объективного разума», от Фихте с его твердым, жестко организованным «органическим» государством до Т. Х. Грина с его мягким и гуманным либерализмом, несомненно считали, что они способствуют, а не препятствуют разумным потребностям, которые, пусть в зачаточном виде, можно найти в душе любого одушевленного существа. Но я могу отвергнуть такой демократический оптимизм и повернуть от телеологического детерминизма гегельянцев к какой-то более волюнтаристской философии, родив в своем разумном мозгу идею навязать обществу в его же интересах свой там же рожденный план, который, пока я не стану действовать по-своему, возможно, — против устойчивых желаний огромного большинства моих сограждан, скорее всего, не осуществится. Или, вообще отбросив понятие «разум», я могу вообразить себя вдохновенной художественной натурой, в свете своего уникального видения составляющей из людей комбинации, подобно тому, как живописцы сочетают цвета, а композиторы — звуки. Человечество — сырой материал, с которым работает моя творческая воля. Даже если, пока я все это делаю, люди страдают и умирают, они поднимаются на высоту, на которой никогда не оказались бы, не насилуй их моя понуждающая, но созидательная воля. Такими аргументами пользуются все диктаторы, инквизиторы и бандиты, ищущие моральных или даже эстетических оправданий своему образу действий. Я должен сделать для людей (или с людьми) то, что они не могут сделать сами, и не могу просить у них разрешения или согласия, так как они не знают, что для них лучше. То, что они позволят и примут, может представлять собой жизнь презренной посредственности или, того хуже, даже гибель и самоубийство. Позвольте мне еще раз процитировать настоящего прародителя героической доктрины: «Ни у кого нет… прав идти против разума». «Человек боится подчинить свою субъективность законам разума. Он предпочитает традицию или произвол»[80]. Тем не менее его нужно подчинить[81]. Фихте вещает от имени того, что он называет разумом; Наполеон, или Карлейль, или иные романтики авторитаризма могут поклоняться другим ценностям и видеть в их утверждении силой единственный путь к «настоящей» свободе.
Такой же подход с подчеркнутой ясностью демонстрировал Огюст Конт, вопрошавший: если мы не допускаем свободу мысли в химии или биологии, почему мы должны допускать ее в морали или политике?[82] Почему, в самом деле? Если есть смысл в выражении «политические» истины, то есть такие утверждения о социальных целях, которые все люди, именно потому, что они люди, должны признать истинными; и если, по мнению Конта, научный метод со временем приведет к открытию этих истин, можно ли защищать свободу мнений или действий индивидуума и группы, во всяком случае как самоцель, а не просто как стимул интеллектуальной деятельности? Почему нужно терпеть любое поведение, которое не санкционировано надлежащими специалистами? Конт без обиняков высказал то, что подразумевала рационалистическая теория политики с самого ее начала в Древней Греции. В принципе может существовать только один правильный образ жизни; мудрые ведут его спонтанно, потому они и мудрые. Немудрых нужно к нему подталкивать всеми социальными средствами, находящимися во власти мудрых, ибо не понятно, почему мы должны терпеливо взирать, как живет и множится явственно неверное поведение. Незрелых и необученных надо принудить к мысли: «Только истина освобождает, а я могу познать истину, только слепо выполняя то, что вы, знающие ее, мне приказываете, к чему принуждаете, в твердой уверенности, что тогда я буду видеть так же ясно, как вы, и стану таким же свободным».
Вот куда мы забрели от нашего первоначального либерализма. Эти доводы, используемые поздним Фихте, а после него — другими защитниками авторитаризма, от викторианских педагогов и колониальных администраторов до националистических и коммунистических диктаторов, — в точности то, против чего во имя свободного и разумного индивидуума, повинующегося своему внутреннему свету, отчаянно протестовала мораль стоиков и Канта. Таким образом, рассуждения рационалистов с их посылкой единственно верного решения шаг за шагом вели, может быть, и не совсем логично, но понятно для психолога или историка, от этической доктрины индивидуальной ответственности и самосовершенствования к авторитарному государству, послушному директивам элиты, состоящей из наставников в духе Платона.
Что может так странно повернуть мыслителей, часть которых претендовала на звание учеников Канта, от его непреклонного индивидуализма к чему-то очень близкому чисто тоталитарной доктрине? Этот вопрос имеет не только исторический интерес, ведь многие из современных либералов проделывают такую же любопытную эволюцию. Кант действительно утверждал, следуя Руссо, что способностью рационального самонаправления обладают все люди, и не может быть специалистов в делах морали, поскольку мораль зависит не от специальных знаний (как утверждают утилитаристы и философы французского Просвещения), а от того, правильно ли мы используем универсальное человеческое свойство. Следовательно, то, что делает человека свободным, действует не каким-то самосовершенствованием, к которому людей надо принудить, а только тем, чтобы люди знали свой долг, этого же никто не может сделать для другого или от чьего-то имени. Когда приходилось иметь дело с политическими проблемами, даже Кант соглашался, что никакой закон, поскольку он таков, что я, как разумное существо, одобрил бы его, если бы меня спросили, никак не может лишить меня хотя бы части моей разумной свободы. Тут уж дверь широко открывалась для правления специалистов. Я не могу все время со всеми советоваться; невозможно управлять, непрерывно проводя плебисцит. К тому же одни люди не так хорошо прислушиваются к голосу собственного разума, как другие, а некоторые исключительно глухи. Законодатель или правитель должен исходить из того, что, если закон, который он устанавливает, разумен (тут он советуется только с собственным разумом), его автоматически одобрят все члены общества в той мере, в какой и они разумные существа. Если они его не одобрят, значит, они неразумны и должны подвергнуться давлению разума, неважно, своего собственного или чужого, ведь веления его одинаковы во всех головах. Я издаю приказы, а вы, если вы сопротивляетесь, возлагаете на меня обязанность подавить неразумное в вас, противостоящее разуму. Мне было бы легче, если бы вы сами подавили его, и я стараюсь научить вас этому. Но на мне лежит ответственность за общественное благосостояние, и я не могу ждать, пока все станут совсем разумными. Кант мог бы возразить, что сущность свободы субъекта — в том, что он сам, и только сам, приказывает себе подчиниться. Но это совет для совершенных. Если вам не удалось дисциплинировать себя, я должен сделать это для вас, и вы не можете жаловаться на отсутствие свободы, ибо тот факт, что кантовский рациональный судья отправил вас в тюрьму, свидетельствует о том, что вы не услышали собственный внутренний разум, но, подобно ребенку, дикарю или идиоту, не созрели для самонаправления или постоянно обнаруживаете неспособность к нему[83]. Если это ведет к деспотии, пусть даже деспотии лучших и мудрейших, как в храме Сарастро из «Волшебной флейты», но все-таки к деспотии, которая оказывается тождественной свободе, не значит ли это, что в посылках данного рассуждения что-то упущено и где-то в самой их основе кроется ошибка? Позвольте мне еще раз их перечислить. Первое: у всех людей есть одна и та же настоящая цель — разумное самонаправление. Второе: устремления всех разумных существ должны непременно складываться в единое и всеобщее гармоничное целое, которое одни различают яснее, чем другие. Третье: все конфликты и, следовательно, все трагедии происходят исключительно из-за столкновения разума с неразумным или недостаточно разумным, с незрелыми и неразвитыми элементами жизни, индивидуальными или групповыми; таких столкновений в принципе можно избежать, а среди полностью разумных существ они невозможны. Наконец, когда все люди станут разумными, они будут послушны законам своей собственной натуры, одинаковыми в них всех, а значит, и совершенно законопослушными, и свободными. Может ли быть, что Сократ и следовавшие за ним создатели основной западной традиции в этике и политике больше двух тысячелетий ошибались, приравнивая добродетель к знанию, а свободу — к тому и другому? Неужели, хотя эта традиция управляет сейчас жизнью большего числа людей, чем когда бы то ни было, ни одно из основных ее положений не доказано эмпирически, а может быть, даже не соответствует истине?
VI
В погоне за статусом
Есть еще один исторически важный подход к этой теме, в котором смешивание свободы с ее близкими родственниками, равенством и братством, ведет к таким же нелиберальным выводам. С тех пор как в конце XVIII в. подняли эту проблему, настойчиво и с возрастающей силой возникал вопрос: что же такое «индивидуум»? Пока я живу в обществе, все, что я делаю, неизбежно влияет на действия других и от них зависит. Даже самоотверженные усилия Милля обозначить различие между частной и общественной жизнью при таком рассмотрении терпят неудачу. Практически все его критики указывали: всё, что я делаю, может иметь результаты, вредящие другим людям. Мало того, я — существо общественное, в более глубоком смысле, чем просто взаимодействие с другими. Разве я именно такой не из-за того, в какой-то степени, что другие думают и чувствуют? Когда я спрашиваю себя, кто я, и отвечаю «англичанин», «китаец», «торговец», «заурядная личность», «миллионер», «преступник», то, вдумавшись, я нахожу: характеристики эти означают, что другие члены моего общества признают меня принадлежащим к определенной группе или классу и такое признание входит в большинство устойчивых моих качеств. Я — не разум без телесной оболочки и не Робинзон Крузо на острове. Важно не только то, что моя материальная жизнь зависит от взаимодействия с другими людьми, и не только то, что социальные силы сделали меня именно таким, но и то, что некоторые, а может быть, и все мои представления о себе, особенно в том, что касается моральных и социальных определений, можно осмыслить лишь в терминах социальных связей, в которых я — просто частица (метафору эту не надо понимать слишком широко).
Отсутствие свободы, на которое жалуются люди или группы, порой сводится к отсутствию должного признания. Я могу искать не того, чего хочет от меня Милль, не гарантий против принуждения, произвольного ареста, тирании, лишения определенных возможностей и не пространства, внутри которого я ни перед кем не обязан отчитываться. Равным образом я могу не стремиться к разумной организации социальной жизни или самосовершенствованию в духе бесстрастного мудреца. Представим, что я просто боюсь невнимания, снисходительного презрения или безразличия, короче говоря, не хочу, чтобы со мной обращались, не замечая моей уникальности, и воспринимали меня как часть какой-то бесцветной амальгамы, как статистическую единицу, у которой нет своих собственных, особенных свойств и устремлений. Именно с таким отношением к себе я и борюсь. Я ищу не равенства юридических прав или свободы делать что угодно (хотя и этого мне хочется), но условий, при которых смогу чувствовать себя ответственным действующим лицом, потому что другие меня им признают. Я хочу, чтобы с волей моей считались, признавая мои права даже в том случае, если на меня ополчатся или станут преследовать за то, какой я, или за мой выбор.
Это — жажда статуса или признания. «Самому бедному, что только есть в Англии, дана такая же жизнь, что и наизнатнейшему»[84]. Я хочу, чтобы меня поняли и признали, даже если это значит, что меня не любят и преследуют. Дать мне признание, то есть ощущение, что я — не никто, а кто-то, могут только члены общества, к которому исторически, экономически и, возможно, этнически я, на мой взгляд, принадлежу[85]. Мое индивидуальное «Я» нельзя от них оторвать; оно складывается из их отношения ко мне. Следовательно, когда я требую, чтобы меня освободили, скажем, от политической или социальной зависимости, я требую, чтобы ко мне относились иначе те, чьи мнения и чье поведение помогают мне определить мой собственный образ самого себя.
То, что верно относительно индивидуума, верно и в отношении социальных, политических, экономических, религиозных групп, то есть людей, осознающих нужды и устремления, имеющиеся у них как у членов такой группы. Угнетенные классы и национальности добиваются, как правило, не какой-то неограниченной свободы действия для своих членов, не поставленного превыше всего равенства социальных групп и уж никак не места в бесконфликтном органическом государстве, сконструированном разумным законодателем. Хотят они чаще всего, чтобы их (их класс, их расу, их цвет кожи) просто признали как независимый источник человеческой активности, как целостность со своей собственной волей, намеренную действовать в соответствии с ней, а не быть управляемой, воспитуемой, ведомой, пусть даже легкой рукою, но все же не совсем человеческой, а значит — не совсем свободной.
Это сообщает чисто рационалистическому замечанию Канта о патернализме как «самой величайшей деспотии, какую только можно себе представить» гораздо более широкое звучание. Патернализм деспотичен не потому, что он больше угнетает, чем голая, брутальная, непросвещенная тирания, и не потому просто-напросто, что он не считается с воплощенным во мне трансцендентным разумом, но потому, что он оскорбляет мое представление о себе как о человеке, который хочет жить в соответствии со своими собственными (не обязательно разумными или добропорядочными) стремлениями, а главное — имеет право на то, чтобы это признали. Если за мной этого не признают, я сам могу себя не признать, усомниться в своих претензиях на звание независимого человека. Ведь то, что я есть, во многом определяется тем, что я чувствую и думаю, а это, в свою очередь, определяется чувствами и мыслями общества, в котором я, по Берку, не изолированный атом, а (прибегая к рискованной, но необходимой метафоре) деталь социальной конструкции. Я могу чувствовать, что несвободен, то есть меня не признают самоуправляющимся индивидуумом, могу чувствовать это и как член непризнанной или недостаточно уважаемой группы; и хочу тогда эмансипации всего моего класса, сообщества, нации, расы или профессии. Желание это может быть настолько сильным, что в отчаянной жажде статуса я предпочту грубое, несправедливое обращение какого-то представителя своей расы и класса, которые хотя бы признают меня человеком и соперником, то есть равным, хорошему и терпимому отношению вышестоящих и отдаленных от меня групп, которые не признают меня тем, чем я хочу себя видеть.
Вот почему шумно требуют признания индивидуумы и группы, а в наши дни — профессии и классы, расы и нации. Пусть я не получу от членов моего общества «негативной» свободы, но они — члены моей группы, они понимают меня, я понимаю их и потому чувствую, что я некто в этом мире. Именно это ведет к тому, что самые авторитарные демократии порой сознательно предпочитают самым просвещенным олигархиям, а представитель какой-нибудь азиатской или африканской страны меньше сетует, когда его грубо попирают представители его собственной нации или расы, чем когда им правит осторожный, справедливый, воспитанный и благожелательный, но чужеземный администратор. Пока мы этого не осмыслили, останутся непостижимым парадоксом идеалы и действия целых народов, которые, в миллевском смысле этого слова, лишены элементарных человеческих прав, но совершенно искренне говорят, что у них больше свободы, чем когда эти права хоть в какой-то мере были.
И все-таки не с индивидуальной свободой в ее «негативном» и «позитивном» смысле отождествляется тяга к статусу и признанию. Это — нечто, не менее глубоко востребованное и страстно отстаиваемое людьми, нечто родственное, но не тождественное. Хотя здесь и присутствует «негативная» свобода для всей группы, больше всего это связано с солидарностью, братством, взаимопониманием, потребностью в общении на равных — и все это часто именуют социальной свободой. Социальные и политические понятия неизбежно нечетки. Попытки сделать язык политики слишком точным могут сделать его бесполезным. Понятие «свобода», и в «негативном», и в «позитивном» смысле, означает, что кто-то или что-то не переходит границы моего пространства, не устанавливает надо мной власть, будь то наваждения, страхи, неврозы, иррациональные силы, какие бы то ни было деспоты. Желая признания, мы желаем чего-то иного — союза, понимания, общности интересов; взаимозависимости и взаимной жертвенности. Только смысловое смешение тяги к свободе с глубокой и всепроникающей жаждой статуса и понимания, а там — и дальнейшая путаница, когда отождествляют все это с «социальным самостоянием», в котором нуждающееся в освобождении «я» — уже не индивидуум, а «социальное целое», только вся эта мешанина позволяет людям, отдавая себя во власть олигархов и диктаторов, утверждать, что в каком-то смысле они обрели свободу.
Много писали и о том, что нельзя представлять социальную группу как личность или субъект, а дисциплину и контроль над членами — как самодисциплину, добровольный самоконтроль, не ущемляющий свободу. Но даже при таком «органическом» взгляде, естественно ли и желательно ли называть требование статуса и признания свободой в каком-то третьем смысле? Правда, группа, признания которой мы ищем, сама должна иметь достаточную долю «негативной» свободы от внешней власти; в противном случае ее признание не даст нам искомого статуса. Но может ли борьба за повышение статуса, желание уйти с более низкой позиции называться борьбой за свободу? Не слишком ли педантично ограничивать это слово теми основными смыслами, которые обсуждались выше, или, наоборот, мы не вправе говорить, что любое улучшение социального статуса увеличивает свободу, так как термин «свобода» в таком случае становится слишком туманным, раздутым и фактически бесполезным? И все же мы не можем просто отбросить все это как простое смешение понятия «свобода» с понятиями «статус», «солидарность», «братство», «равенство» или с любой их комбинацией. Ведь жажда статуса в каких-то отношениях стоит очень близко к желанию быть независимым.
Мы можем отказать этой цели в праве называться свободой, но несерьезно утверждать, что аналогии между индивидуумами и группами, или органические метафоры, или несколько смыслов слова «свобода» — простые заблуждения, вызванные либо тем, что мы усматриваем сходство, хотя его нет, либо просто семантической путаницей. Те, кто готов променять свою и чужую свободу индивидуального действия на статус для своей группы или внутри нее, не просто отказываются от свободы ради безопасности или обеспеченного места в какой-нибудь гармоничной иерархии, где все знают свое место и готовы отдать мучительное право выбора, «бремя свободы», за мирное, удобное, относительно бездумное существование в авторитарной или тоталитарной структуре. Несомненно, есть и такие люди, и такие устремления, и довольно часто случается, что они жертвуют индивидуальной свободой. Но мы не поймем духа нашего времени, если решим, что именно поэтому национализм и марксизм популярны в странах, управлявшихся иноземными хозяевами, или у классов, которым способ жизни диктовали другие классы, устанавливавшие полуфеодальный или какой-либо иной иерархический режим. То, чего они добивались, больше похоже на «языческое самоутверждение» Милля, но в коллективной, социализированной форме. И в самом деле, когда он пишет, почему он сам хочет свободы и какую ценность придает смелости и нонконформизму; когда говорит о том, как индивидуум утверждает свои ценности вопреки господствующему мнению, или о сильных, самостоятельных личностях, свободных от помочей, надеваемых официальными законодателями и общественными воспитателями, многое связано не столько с пониманием свободы как свободы от вмешательства, сколько с человеческим желанием избежать слишком низкой оценки — с боязнью, что «аутентичное» поведение, которое кажется хорошим даже тогда, когда оно ведет к позору или к ограничениям и запретам со стороны закона и общества.
Желание утвердить «личность» своего класса, группы или нации связано с ответом на вопрос «Каковы границы власти?» (ибо в дела группы не должны вмешиваться внешние властители) и еще теснее — с вопросом «Кто вправе управлять нами?» — плохо ли, хорошо ли, либерально или деспотично, но прежде всего «Кто?». Такие ответы, как «представители, свободно избранные мною и другими», или «все мы вместе, собираясь на регулярные сходы», или «лучшие», или «мудрейшие», или «народ, олицетворенный в этих лицах и институтах», или «помазанник Божий», логически, а иногда и политически и социально, независимы от того, сколько «негативной» свободы действия я требую для себя и своей группы. Если же на вопрос «Кому мной править?» мы ответим: тому, о ком я могу сказать «свой», другими словами — тому, кто принадлежит мне и кому принадлежу я, подразумевая при этом братство и солидарность, а также что-то из представлений, составляющих «позитивный» смысл слова «свобода» (что именно, трудно определить точнее), можно описать это как некую форму свободы, во всяком случае — как идеал, должно быть, более распространенный в современном мире, чем любой другой, и все-таки, по-видимому, такой, к которому в точности не приложим ни один из существующих терминов. Те, кто следует ему, жертвуя своей «негативной» миллевской свободой, разумеется, утверждают, что в каком-то путаном, но пылко отстаиваемом смысле они действительно освобождаются. Того, «кто сам — совершенная свобода», можно совершенно секуляризовать, а государство, нация, раса, собрание, диктатор или собственная семья, свое окружение, я сам заместят божество, спасая слово «свобода» от полного обессмысливания[86].
Несомненно, любое толкование слова «свобода», каким бы необычным оно ни было, должно включать хотя бы минимум того, что я называю свободой «негативной». Должно существовать пространство, где меня никто не ущемляет. Никакое общество не подавляет буквально все свободы своих членов. Существо, которому другие ничего не позволяют делать по его собственному усмотрению, вообще не субъект морали, его нельзя считать человеком ни морально, ни юридически, как бы на этом ни настаивали физиологи, биологи или даже психологи. Отцы либерализма Милль и Констан хотели большего, чем этот минимум; они требовали максимального невмешательства, какое только совместимо с минимальными требованиями социальной жизни. Вряд ли такое крайнее требование выдвигал кто-либо, кроме небольшого меньшинства высокоцивилизованных и ценящих свою личность людей. Основная масса человечества почти во все времена была готова жертвовать этим во имя других целей — безопасности, статуса, благополучия, власти, добродетели, вознаграждения в потустороннем мире или же справедливости, равенства, братства и многих других ценностей, которые, по-видимому, полностью или частично несовместимы с высочайшей степенью индивидуальной свободы и определенно не нуждаются в ней для своей реализации. Не требование Lebensraum[87] для каждого подвигало людей на освободительные восстания и войны, где и раньше и теперь они готовы были умереть за свободу. Борцы за свободу сообща сражались за право иметь свое собственное правительство или правительство своих представителей, если нужно, правящее жестоко, как в Спарте, где оно оставляло немного индивидуальной свободы, но обеспечивало участие всех в законодательном и административном управлении жизнью коллектива, или, во всяком случае, веру в такое участие. Люди, совершавшие революции, чаще всего подразумевали под свободой только то, что власть и рычаги управления возьмет определенная секта приверженцев какой-то теории, старая или новая социальная группа. Такие победы, конечно, ущемляли тех, кого они сбрасывали, а иногда вели к репрессиям, порабощению и уничтожению огромного числа людей. Тем не менее революционеры обычно испытывали необходимость доказывать, что они — партия свободы или «настоящей» свободы, претендуя на универсальность своего идеала и утверждая, что к нему стремятся «подлинные Я» даже тех, кто им сопротивляется, поскольку люди эти сбились с пути или ошиблись в определении цели по нравственной или духовной слепоте. Все это имеет мало общего с миллевским пониманием свободы, ограничиваемой только опасностью причинить вред другим. Возможно, именно непризнание этого психологического и политического факта (которое прячется за явной противоречивостью термина «свобода») мешает некоторым современным либералам увидеть мир, в котором они живут. Их призывы четки, их дело справедливо, но они не учитывают разнообразия основных человеческих потребностей и той изобретательности, с которой люди в своих собственных интересах способны доказывать, что дорога к одному идеалу ведет к противоположному.
VII
Свобода и суверенность
Французская революция, подобно всем великим революциям, была, по крайней мере в своей якобинской форме, именно таким извержением тяги к «позитивной» свободе коллективного самостояния, которую испытывало множество французов, чувствовавших себя освобожденными как нация, хотя весьма многие из них лишились почти всех личных свобод. Руссо ликующе писал, что законы свободы могут оказаться более строгими, чем тирания. Тирания служит тем, кто господствует над людьми. Закон не может быть тираном. Руссо подразумевает под свободой не «негативную» свободу индивидуума от вмешательства в определенной и ограниченной сфере, но то, что все, а не некоторые, полностью дееспособные члены общества наделены какой-то долей общественной власти, которой дано право вмешиваться во все стороны повседневной жизни гражданина. Либералы первой половины XIX в. верно предвидели, что такая «позитивная» свобода легко может разрушить слишком много священных для них «негативных» свобод. Они указывали, что суверенность народа легко может стать губительной для индивидуумов. Милль объяснял терпеливо и неоспоримо, что народное право не всегда означает в этом смысле свободу для всех. Ведь те, кто управляет, — не всегда тот же «народ», которым управляют; демократическое же самоуправление не значит, что управляет каждый и сам по себе, а в лучшем случае — то, что «каждый управляет всеми остальными»[88]. Милль и его последователи писали о «тирании большинства», о тирании «господствующих мнений и чувств»[89] и не видели большой разницы между ней и другими видами тирании, так как все они вторгаются в деятельность человека, за священные рубежи частной жизни.
Конфликт между двумя типами свободы лучше всего разглядел и выразил Бенжамен Констан. Он писал, что когда успешное восстание передает неограниченную власть, обычно называемую суверенитетом, из одних рук в другие, не увеличивается свобода, а перемещается бремя рабства; и резонно спрашивал, какое дело человеку до того, кто его сокрушил — народное правительство, монарх или даже свод репрессивных законов? Он видел, что для стремящихся к «негативной» личной свободе главный вопрос не в том, в чьих руках власть, а в том, какой объем власти находится в любых руках, — ведь неограниченная власть в чьем бы то ни было распоряжении непременно рано или поздно кого-то уничтожит. Обычно, говорил он, люди протестуют против тех или иных правителей как против угнетателей, хотя на самом деле причина угнетения — концентрация власти в чьих бы то ни было руках, поскольку опасно для свободы само существование абсолютной власти как таковой. «Не против руки надо ополчаться, а против оружия в ней. Оно может быть слишком тяжелым для человеческих рук»[90]. Демократия разоружит данную олигархию, привилегированное лицо или группу таких лиц, но может при этом так же беспощадно крушить людей, как и любой прежний правитель. Равное право на угнетение или вмешательство не равнозначно свободе. Всеобщее согласие на потерю свободы тоже не сохранит ее каким-то чудом только потому, что все на это согласны. Если я угнетен, стану ли я свободнее, согласившись на угнетение или отнесясь к нему отрешенно или иронически? Если я сам продал себя в рабство, меньше ли я от этого раб? Если я совершил самоубийство, меньше ли я мертв оттого, что лишил себя жизни добровольно? «Народное правительство — это попросту судорожная тирания, монархия — более сосредоточенный деспотизм»[91]. Констан видел в Руссо самого опасного врага личной свободы, так как тот говорил: «Отдавая себя всем, я не отдаю себя никому»[92]; и не мог взять в толк, почему, если сувереном стали «все и каждый», один из «членов» этого неделимого целого не может подвергнуться угнетению, коль скоро это целое так решит. Конечно, я могу предпочесть, чтобы меня лишали моих свобод собрание, семья, класс, где я — в меньшинстве. Это дает мне возможность в другой раз убедить людей, чтобы они сделали для меня то, что мне, по моим представлениям, полагается. Но, лишаясь свободы по воле семьи, друзей или сограждан, я все равно ее лишаюсь. Гоббс, во всяком случае, был откровеннее — он не делал вид, что бывают суверены, которые не порабощают. Да, он оправдывал это рабство, но, по крайней мере, не называл его бесстыдно свободой.
В течение всего XIX в. либеральные мыслители доказывали: если свобода подразумевает, что кто-то вправе вынудить меня к тому, чего я даже предположительно не желаю делать, каков бы ни был идеал, во имя которого меня принуждают, я не свободен; другими словами — учение об абсолютной суверенности само по себе тираническое учение. Если я хочу сохранить свою свободу, недостаточно сказать, что ее нельзя нарушить, пока тот или иной носитель власти — абсолютный властитель, народное собрание, король с парламентом, судьи, какая-то комбинация этих властей или сами законы (ибо и законы могут быть репрессивными) не утвердит такого нарушения. Я должен учредить общество, где границы свободы не дозволено пересечь никому. Правила, определяющие эти границы, можно называть и обосновывать по-разному. Они могут именоваться естественными правами, словом Бога, законом природы, требованиями пользы или «постоянных интересов человека». Я могу верить, что они априорно верны, и говорить, что сам стремлюсь к ним или к ним стремится мое общество или моя культура. Общее в этих правилах или заповедях то, что они приняты очень широко и очень глубоко коренятся в действительной природе людей, какими те сформировались на протяжении истории, а потому к нынешнему времени стали существенной частью нормального человека, как мы его понимаем. Искренняя вера в нерушимость какого-то минимального объема индивидуальной свободы влечет за собой такую абсолютную позицию. Ясно, что свобода немного получит от правления большинства; демократия как таковая логически ей ничем не обязана, а исторически редко умела ее защитить, хотя и оставалась верной своим собственным принципам. Немногим правительствам, как показывают наблюдения, было так уж трудно побудить своих подданных выразить именно такую волю, какая этим правительствам нужна. Триумф деспотизма наступает тогда, когда рабы говорят, что они свободны. Тут не всегда нужна сила; рабы могут совершенно искренне называть себя свободными, и тем не менее они остаются рабами.
Возможно, для либералов политические права участия в управлении ценны прежде всего тем, что они могут защитить конечную, с их точки зрения, ценность, а именно — индивидуальную, «негативную» свободу.
Но если демократии, не переставая быть демократиями, могут подавлять свободу, по крайней мере ту, которую имеют в виду либералы, употребляя это слово, что делает общество подлинно свободным? Для Констана, Милля, Токвили и для либеральной традиции, к которой они принадлежат, никакое общество не свободно, пока оно не следует, по меньшей мере, двум взаимосвязанным принципам. Во-первых, абсолютными могут считаться только права, так что все люди, независимо от власти, которая ими управляет, имеют абсолютное право отказаться вести себя бесчеловечно. Во-вторых, существуют отнюдь не искусственные границы, в пределах которых люди неприкосновенны, и границы эти определены в терминах правил, настолько давно и широко принятых, что их исполнение вошло в само представление о нормальном человеке, а значит, и о том, что считать нечеловечным или безумным. Нелепо говорить, например, что какая-то формальная процедура может отменить эти правила судом или иным суверенным органом. Когда я называю человека нормальным, понятие это подразумевает, в числе прочего, что ему трудно нарушить эти правила, не испытав отвращения. Именно они бывают нарушены, когда кого-то объявляют виновным без суда или осуждают по закону, не имеющему обратной силы; когда детям велят доносить на родителей, друзьям — предавать друг друга, солдатам — использовать варварские методы; когда людей пытают и убивают, а национальным меньшинствам устраивают резню, поскольку они раздражают большинство или тирана. Если даже такие действия получают легальную санкцию власти, они все равно внушают ужас, и происходит это потому, что, независимо от законов, мы признаем моральную значимость неких абсолютных запретов, когда речь идет о том, чтобы одни люди навязывали свою волю другим. Свобода общества, класса или группы при таком понимании свободы измеряется прочностью этих запретов и значимостью путей, которые общество открывает своим членам, — если не всем, то, во всяком случае, многим[93].
Это находится почти на противоположном полюсе от устремлений тех, кто верит в «позитивную» свободу как в свободу самоопределения. Первые хотят обуздать власть как таковую. Вторые хотят взять ее в свои руки. Это — кардинальное различие; не просто разные интерпретации одного и того же понятия, а глубоко расходящиеся друг от друга и непримиримые подходы к жизненным целям. Хорошо бы это признать, даже если на практике часто бывает нужно искать компромисс, ведь каждый из них выступает с абсолютными притязаниями. Притязания эти невозможно полностью удовлетворить. Но мы проявим полное отсутствие социального и морального понимания, если не признаем, что те и другие устремлены к конечным ценностям, каждую из которых и исторически, и нравственно мы вправе отнести к разряду глубочайших ценностей человечества.
VIII
Один и многие
За то, что людей приносят в жертву великим историческим идеалам — справедливости, прогрессу, счастью будущих поколений, освобождению нации, расы или класса или даже самой свободе, которая жертвует человеком во имя свободы общества, прежде всего отвечает вера в то, что где-то, в прошлом или в будущем, в божественном откровении или в мозгу отдельного мыслителя, в велениях истории или науки или в добром сердце простого неиспорченного человека таится окончательный ответ. Эта древняя вера покоится на убеждении, что все позитивные ценности, в которые верят люди, в конечном счете совместимы или даже вытекают одна из другой. «Природа связывает между собой истину, счастье и добродетель неразрывной цепью», — сказал один из лучших людей, когда-либо живших на земле, и в таких же выражениях он писал о свободе, равенстве и правде[94].
Верно ли это? Все знают, что и политическое равенство, и эффективная организация, и социальная справедливость не совмещаются даже с малой долей индивидуальной свободы, не говоря уж о неограниченном laissez-fair[95]; что справедливость и щедрость, общественная и частная верность, требования гения и притязания общества часто находятся в остром конфликте. Отсюда уже недалеко до обобщения: не все хорошее совместимо, а уж идеалы человечества меньше всего. Но где-то, скажут нам, и каким-то образом должно быть так, чтобы все эти ценности уживались друг с другом, ибо, если это не так, вселенная утрачивает лад и гармонию; если это не так, конфликт может быть присущим человеческой жизни, неустранимым ее элементом. Допустив, что исполнение каких-то наших идеалов может в принципе исключать исполнение других, мы скажем, что полное человеческое совершенство — формальное противоречие, метафизическая химера. Для всякого рационалистического метафизика, от Платона до поздних учеников Гегеля или Маркса, такой отказ от представления о конечной гармонии, в которой решены все загадки и устранены все противоречия, — проявление грубого эмпирицизма, капитуляция перед грубым фактом, непереносимое банкротство разума перед сиюминутной видимостью, неспособность объяснить и обосновать, привести все в систему; и «разум» его с негодованием отвергает.
Но, если мы не вооружены априорной гарантией того, что где-то, может быть — в идеальном царстве, о котором мы, по своей ограниченности, можем только строить догадки, будет найдена полная гармония настоящих ценностей, мы вынуждены опираться на обычные ресурсы эмпирического наблюдения и обычное человеческое знание. Они же совершенно не подкрепляют предположение (или даже просто не позволяют понять), что все хорошее, а значит, и все плохое совместимо между собой. В мире, который предстает перед нами в обычном опыте, мы сталкиваемся с выбором между конечными целями, претендующими на абсолютность, и, осуществляя одну из них, неизбежно жертвуем другой. Именно поэтому люди придают свободе выбора такую громадную ценность. Если бы у них была уверенность, что в каком-то совершенном состоянии, осуществимом на земле, никакие их цели никогда не столкнутся, необходимость и мучительность выбора исчезли бы, а вместе с ними — и первостепенная важность свободы. Любые способы приблизить это окончательное состояние казались бы тогда вполне оправданными, безотносительно к тому, сколько свободы мы принесли в жертву.
Несомненно, именно такая уверенность ответственна за глубокую, безмятежную, непоколебимую убежденность самых безжалостных в истории тиранов и палачей, что их дела полностью оправдываются целью. Я не хочу сказать, что идеал самоусовершенствования людей, наций, церквей или классов надо вообще осудить, а язык, на котором его защищают, всегда путает понятия, или заведомо неверно использует слова, или же возникает в результате морального или интеллектуального извращения. Напротив, я старался показать, что именно понимание свободы в «позитивном» смысле стоит в центре требований национального и социального самоопределения, которые дают жизнь самым мощным и морально оправданным движениям нашего времени, и, не понимая этого, мы не поймем самые жизненно важные факты и идеи нашего века. Однако мне представляется, что веру в возможность найти, хотя бы в принципе, какую-то единую формулу, позволяющую гармонично осуществить все разнообразные цели, можно доказательно опровергнуть. Если, как я полагаю, цели наши множественны и не всегда совместимы, возможность конфликта, даже трагедии, никогда нельзя исключить из человеческой жизни — и личной, и социальной. Необходимость выбора между абсолютными притязаниями, таким образом, — неустранимое свойство человеческой жизни. Это определяет ценность свободы в том понимании, какое сформулировал Актон, то есть как цели в самой себе, а не временной потребности, порожденной путаницей наших понятий и иррациональных беспорядочных жизней, или неприятности, которую когда-то исправят с помощью какой-нибудь панацеи.
Я не хочу сказать, что индивидуальная свобода даже в самых либеральных обществах — единственный или просто преобладающий критерий социального действия. Мы заставляем детей учиться, мы запрещаем публичные казни, этим определенно стесняя свободу. Оправдываем мы это тем, что невежество, варварское воспитание или жестокие забавы и зрелища — большее зло, чем те ограничения, которые необходимы, чтобы их устранить. Суждение это, в свою очередь, зависит от того, как мы определяем добро и зло, иными словами, от наших нравственных, религиозных, интеллектуальных, экономических и эстетических ценностей, которые опять-таки связаны с нашими представлениями о человеке и об основных требованиях его натуры. Таким образом, решение подобных проблем основывается на том, что мы сознательно или бессознательно руководствуемся нашим представлением о, скажем так, состоявшейся человеческой жизни в противовес другой, которую ведут, по словам Милля, «ограниченные и карликовые», «недальновидные и приземленные» натуры. Протестуя против законов, регулирующих цензуру или личную нравственность, и считая, что они непозволительно вторгаются в сферу свободы личности, мы предполагаем, что действия, запрещаемые такими законами, принадлежат к числу фундаментальных потребностей человека как человека, живущего в хорошем (а по существу, в любом) обществе. Защищая такие законы, мы полагаем, что потребности эти неосуществимы или что их нельзя удовлетворить, не пожертвовав другими, более высокими ценностями, связанными с удовлетворением потребностей, более глубоких, чем индивидуальная свобода, и определяемых стандартами, имеющими не только субъективный, но некий объективный статус, эмпирический или априорный.
Пределы свобод человека или народа выбирать жизнь в соответствии со своими устремлениями нужно соизмерять со многими другими ценностями, среди которых, возможно, самыми очевидными будут равенство, справедливость, счастье, безопасность, общественный порядок. По этим соображениям, свобода не может быть безграничной. Р. Г. Тоуни справедливо напомнил нам, что свободу физически или экономически сильных нужно сдерживать. Эта максима предполагает, что мы должны уважать людей не вследствие какого-то априорного правила, по которому уважение к свободе одного человека логически влечет за собой уважение к свободе других, а просто потому, что уважение к принципам справедливости или стыд за вопиющее неравенство столь же укоренены в человеке, как и желание свободы. То, что мы не можем иметь все сразу, — обязательная, а не условная истина. Призыв Берка к тому, чтобы мы постоянно пеклись о возмещении, примирении, равновесии; миллевский призыв к неизведанным «жизненным экспериментам» с их неизбежной возможностью ошибки; мысль о том, что не только на практике, но и в принципе невозможно достичь четких и определенных ответов даже в идеальном мире добропорядочных, разумных людей и ясных идей, — все это очень раздражает тех, кто ищет окончательных решений и единых всеохватывающих систем, которым гарантирована вечность. Но, увы, к таким заключениям пришли те, кто вместе с Кантом, познал, что «из кривой древесины человечества не сделаешь ничего прямого»[96].
Не так уж нужно подчеркивать, что монизм и вера в единый критерий всегда умели успокоить умы и сердца. Возникает ли такой принцип, потому что мы видим некое будущее совершенство, как французские просветители XVIII в. и их технократические преемники в наши дни, или он коренится в прошлом, «в нашей земле и наших мертвых», как утверждают немецкие историцисты, французские теократы и неоконсерваторы в англоязычных странах, он неизбежно (ведь, ко всему прочему, он недостаточно гибок) сталкивается с каким-нибудь непредвиденным и непредвидимым ходом в человеческом развитии, к которому он неприменим. Тогда им пользуются, чтобы оправдать априорно варварские прокрустовы действия — вивисекцию реальных человеческих обществ по застывшему шаблону, продиктованному нашим ненадежным пониманием во многом воображаемого прошлого или целиком воображаемого будущего. Сохраняя абсолютные категории или идеалы ценой человеческих жертв, мы оскорбляем сами принципы и науки и истории. Это могут делать в наше время те, кто находится на правом или на левом фланге; те же, кто уважает факты, не могут с этим примириться.
Плюрализм, с вытекающей из него долей «негативной» свободы, представляется мне более верным и более гуманным идеалом, чем цели тех, кто ищет в авторитарных структурах идеал «позитивного» самоопределения классов, народов или всего человечества. Он более верен, поскольку, по крайней мере, признает множественность человеческих целей, несоизмеримость многих из них и вечное соперничество друг с другом. Исходное положение, согласно которому можно сопоставить их на одной шкале так, чтобы определить наивысшую, по-моему, искажает наши знания о том, что люди — свободные деятели, представляя моральное решение как операцию, которую в принципе можно проделать с помощью логарифмической линейки. Говоря, что в каком-то окончательном, всепримиряющем и в то же время осуществимом синтезе долг — это и есть интерес, а индивидуальная свобода и есть чистая демократия или авторитарное государство, мы набрасываем метафизическое покрывало либо на самообман, либо на заведомое лицемерие. Плюрализм человечнее, потому что во имя отдаленного и непоследовательного идеала не лишает людей многого из того, что сами они считают в своей жизни незаменимым[97]. В конце концов, люди делают выбор из конечных ценностей; а делают они его потому, что мысли их определяются фундаментальными нравственными категориями и представлениями, которые, во всяком случае — на протяжении больших отрезков времени и пространства, остаются частью их бытия, их мышления, их чувства собственной идентичности — словом, частью того, что делает их людьми.
Может статься, что этот идеал — свобода выбрать цель, не претендуя на ее вечную значимость, и связанный с нею плюрализм ценностей — всего лишь поздний плод нашей клонящейся к закату капиталистической цивилизации. Его не признавали в отдаленные века и в примитивных обществах, и будущее, возможно, посмотрит на него с любопытством и симпатией, но вряд ли хорошо его поймет. Да, может быть и так. Но из всего этого, мне кажется, не следуют скептические выводы. Принципы не становятся менее священными от того, что не гарантирована их долговечность. На самом деле, желая гарантировать вечность и неприкосновенность наших ценностей на каком-то небе объективности, мы, возможно, проявляем тоску по детской защищенности или по абсолютным ценностям немудреного прошлого. «Осознать относительность своих убеждений и все же твердо отстаивать их — вот что отличает цивилизованного человека от варвара», — написал один из замечательных современных авторов[98]. Хотеть чего-то большего, быть может, глубокая и неизлечимая метафизическая потребность, но, позволив ей определять наше практическое поведение, мы обнаружим столь же глубокую и еще более опасную моральную и политическую незрелость.
ДЖАМБАТТИСТА ВИКО И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
«Giambattista Vico and the Cultural History» ©Isaiah Berlin 1983
пер. А. Курт
I
Человек издавна стремился изучать свое прошлое. К этому важнейшему для него делу его побуждало немало причин. В своем известном эссе Ницше называет некоторые из них: гордость, желание прославить род, нацию, церковь, расу, класс, партию; стремление поддержать единство общества, ибо «все мы — дети Кадма», и, наконец, вера в священные предания рода — в то, что только наши предки удостаивались откровений об истинных целях жизни, о добре и зле, правде и лжи, о том, как и во имя чего нужно жить, и вместе с тем обладали чувством коллективного достоинства, испытывали потребность знать и объяснять другим, в каком обществе мы живем, понимали структуру отношений, через которые наш коллективный гений выразил себя и может действовать.
Существует этический подход к истории — в ней мы находим подлинные образцы порока и добродетели, яркие примеры того, к чему стоит стремиться и чего избегать; она разворачивает перед нами галерею героев и злодеев, мудрецов и глупцов, баловней судьбы и неудачников. При таком подходе история — это прежде всего школа этики, по выражению Лейбница, или экспериментальной политики, как полагал Жозеф де Местр (и, возможно, Макиавелли).
Другие ищут в истории некий узор, постепенное осуществление вселенского замысла, дело Божественного мастера, сотворившего нас; в нем все служит единой цели, скрытой от нас (возможно, потому, что мы чересчур слабы, грешны или глупы), но реальной и незыблемой, с отличительными чертами, внятными тем, кто при всем своем несовершенстве имеет глаза, чтобы видеть. Одна из форм этого видения — представление об истории как о космической драме, которая должна завершиться развязкой за границами времени и всеобщим духовным преображением, недоступным ограниченному человеческому разуму. Третьи видят в истории циклический процесс, ведущий к вершинам человеческих свершений, а затем — к упадку и краху, после которого все начинается заново. Считается, что подобные узоры сами по себе придают смысл историческому процессу, иначе он был бы обыкновенной игрой случая, механической последовательностью причин и следствий.
Многие верят в могущество социологической науки и в то, что исторические факты суть данные, позволяющие предсказывать будущее и воссоздавать прошлое, если нам известны законы, управляющие общественными изменениями. Тогда история — это совокупность наблюдений, которые соотносятся с современной научной социологией примерно так, как наблюдения Тихо Браге соотносятся с законами Кеплера или Галилея, и этот новый и мощный инструмент возвращает нас к простому накоплению фактов, необходимых лишь для того, чтобы проверить специальные гипотезы. Так полагали позитивисты прошлого века Конт и Бокль. Они верили в возможность и необходимость естественно-научной истории, созданной по принципам если не физики, то, по крайней мере, биологии.
А некоторые хотят изучать историю просто из любопытства к прошлому, из чистой жажды знаний и желания понять, что, когда и почему произошло, не прибегая при этом к широким обобщениям и не выводя законов.
Последнее, хоть и не малое, стремление владеет теми, кто хочет знать, как мы, нынешние, стали теми, кто мы есть, кем были наши предки, что они делали и к чему это привело, как были связаны разные грани их деятельности, их упования, страхи, цели, с чем им приходилось бороться, ибо очевидно, что лишь варваров не интересуют истоки их жизни и культуры, их место в миропорядке, обусловленное опытом и самобытностью предков — тем единственным, что способно передать потомкам ощущение самобытности.
Это стремление к историческим штудиям проистекает из желания познать себя. Оно было отчасти свойственно средневековым авторам, но отчетливо проявилось лишь в XVIII в. у западных мыслителей — противников французского Просвещения, сильно повлиявшего на большинство европейских ученых. Просветители были убеждены в том, что для решения важнейших вопросов, веками волновавших человечество, наконец найден универсальный действенный метод, критерий истинного и ложного в любой области знания, прежде всего указывающий, как жить, чтобы достичь неизменных и вечных целей: свободы, справедливости, счастья, добродетели, гармонического и творческого развития всех способностей. Для этого нужно приложить рациональные (то есть научные) законы, давшие в прошлом веке головокружительные результаты в математике и естественных науках, к нравственным, общественным, политическим и экономическим проблемам. С помощью этих законов человечество, закосневшее в невежестве и заблуждениях, суевериях и предрассудках, многие из которых умышленно насаждались священниками, власть имущими, бюрократами и честолюбивыми авантюристами, распространявшими ложь, чтобы держать людей в повиновении, решит эти проблемы.
Величайший публицист эпохи Просвещения Вольтер призывал расширить границы исторической науки, чтобы охватить общественную и экономическую деятельность и ее следствия, и вместе с тем был глубоко убежден, что изучать стоит лишь вершины, а не низменности истории. Он без колебаний причислял к ним век Перикла в Афинах, конец республиканского Рима и начало принципата, Флоренцию эпохи Возрождения и Францию при Людовике XIV. Каждая из этих эпох — звездный час человечества, когда истинные, единственно достойные цели, манившие лучшие умы всех времен в искусстве, мысли, нравственности и нравах, определяли судьбы государств и отдельных личностей. Эти цели не ограничены во времени и пространстве; они ведомы всем здравомыслящим людям, имеющим глаза, чтобы видеть, и не подвержены переменам и превратностям исторической эволюции. Подобно тому как в естественных науках существуют незыблемые решения, а теоремы геометрии, законы физики и астрономии не подвержены переменам, в человеческих суждениях или образе жизни можно найти столь же точные и окончательные решения чисто человеческих проблем (по крайней мере, теоретически).
Даже Монтескье, убежденный в неизбежном многообразии традиций и мнений, обусловленных прежде всего физическими факторами и общественными институтами, полагал, что важнейшие цели человечества всегда и всюду неизменны, хотя формы, которые они принимают в разных обществах и обстоятельствах, неизбежно разнятся и не дают выработать единообразные законы. Сама идея прогресса у философов XVIII в., будь то оптимисты, как Кондорсе и Гельвеций, или скептики, как Вольтер и Руссо, подразумевала веру в то, что свет истины, lumen naturale[99], везде и всюду один и тот же, даже если люди зачастую слишком злы, безрассудны или слабы, чтобы увидеть его или жить в его ослепительном блеске.
Темные века истории, по мнению Вольтера, просто недостойны внимания образованных людей. Цель истории — сообщить поучительные истины, а не поощрять праздное любопытство, и достичь ее можно, лишь изучая триумфы разума и воображения, а не его провалы. «Если вам больше нечего сказать, — говорил Вольтер, — кроме того, что один варвар сменил другого на берегу Оша или Икарта, на что вы нужны? Кому интересно знать, что Кванкум сменил Кинкума, а Кинкум пришел на смену Кванкуму? Кому интересен Салманассар или Мардохей?» Историки не должны забивать головы читателей религиозными нелепостями, безумствами кретинов и дикарей или выдумками подлецов, если только эти рассказы не предостерегают человечество от ужасов варварства и тирании. Этот глубоко неисторичный подход к природе людей и обществ был весьма распространен в XVIII в. и отчасти обусловлен феноменальным успехом точных наук предыдущего столетия. Он привел к тому, что Декарт начал смотреть на историю как на занятие, недостойное умного человека, изучающего развитие объективного знания, которое едва ли можно разглядеть в такой мутной водице. Представление о том, что истина едина и неделима для всех и во все века, где бы она ни была сокрыта — в священных книгах, народной мудрости и народных массах, церковном предании, в наблюдениях и опытах, проведенных специалистами, или убеждениях простых, не тронутых цивилизацией людей, — это представление, идущее от Платона и его школы, в той или иной форме господствовало в западноевропейской мысли.
Нельзя сказать, что оно не вызывало возражений. Кроме греческих и римских скептиков, некоторые деятели Реформации XVI в. — противники папской власти (в особенности протестантские правоведы) полагали, что различия между культурными традициями важнее, чем сходство. Отман во Франции, Коук и Мэтью Хейл в Англии, отвергавшие вселенскую власть Рима, первыми объявили, что, подобно тому как разнятся традиции, образы жизни и взгляды, точно так же отличаются друг от друга законы и правила, определявшие жизнь разных обществ и отражавшие глубокие, коренные отличия в развитии этих четко очерченных и подчас глубоко несхожих общественных организмов. Тем самым эти историки права внесли свою лепту в понятие культурного многообразия.
Само понятие культуры — переплетение разнообразных занятий, характерное для данного общества, связей между правовой системой, религией, искусством, науками, традициями и, прежде всего, языками, так же, как мифы, легенды и обряды, создающие отчетливые стили жизни с разными идеалами и ценностями, — это целостное понятие в его совершенно осознанной, явной форме довольно ново. Своим возникновением оно немало обязано интересу к античности, зародившемуся в эпоху итальянского Возрождения, когда очевидные и глубокие различия между современным и античным обществом обратили внимание ученых и их последователей на возможность существования не одной, а нескольких культур. Парадоксально, что сама идея возрождения, желание воскресить великолепие Древней Греции и Рима после темной ночи Средневековья и построить жизнь на вечных и здравых началах, управлявших классическим миром, постепенно, по мере освоения его истории, уступили место осознанию непримиримых различий в мироощущении и поведении, законах и принципах древнего и современного мира. Многие французские историки XVI в. — Винье, Ла Попелиньер, Ле Карон, Боден — утверждали, что, изучая древний мир — его традиции, мифы, религиозные обряды, языки, а также надписи, монеты, произведения искусства, и прежде всего, литературные памятники, — можно воссоздать целые культуры. Но представление о том, что все высокоразвитые культуры — ветви одного великого дерева просвещения, а прогресс — единое движение вперед, иногда прерываемое движением вспять и крахом, которое никогда не останавливается, постоянно обновляясь и приближаясь к конечной победе разума, — неизменно преобладало в западной мысли. Историки и правоведы, главным образом протестанты, подчеркивали непреодолимые различия между старым и новым, римлянами и франками, и неуклонно подвергали сомнению эту гипотезу. Все отдаленное, экзотическое вызывало серьезный и сочувственный интерес. Были отмечены различия между Востоком и Западом, Европой и Америкой, но почти не существовало настоящих исторических исследований или анализа этих столь разных обществ, привлекавших путешественников и ученых несходством с их собственной культурой.
Главный шаг в этом направлении сделали первые противники парижских властителей дум. Они критиковали всех, кто призывал оценивать прошлое по степени его близости к вкусам нашей просвещенной эпохи. В начале XIX в. английские и швейцарские ученые стали изучать древние легенды, саги, поэзию с точки зрения истории, видя в них средство самовыражения отдельных народов. Они считали, что гомеровские поэмы, эпос о Нибелунгах, исландские саги обязаны своей мощью и красотой своеобразию породившего их общества, времени и места. Профессор Оксфордского университета, преподаватель иврита, епископ Лоут называл Ветхий Завет национальным эпосом древних евреев и считал, что к нему нельзя подходить с мерками, сложившимися при изучении Софокла, Вергилия, Расина или Буало.
Самым известным поборником этих идей был немецкий поэт и критик Иоганн Готфрид Гердер. Он отстаивал и воспевал неповторимость национальных культур, их несопоставимость друг с другом и разницу подходов к их пониманию и оценке. Он всю жизнь был очарован разнообразием путей развития культур — прошлых и настоящих, европейских и азиатских, и оживившийся интерес к Востоку, к языкам Индии и Персии поддерживал его энтузиазм новыми фактами. Это, в свою очередь, оживило немецкую школу исторического права, выступавшую против вневременного рационализма и всеобщей юридической силы римского права, наполеоновского кодекса или принципов, провозглашенных идеологами Французской революции и их сторонниками в других странах. Временами оппозиция единственному и непреложному естественному праву, сформулированному Католической церковью или французскими просветителями, принимала отчетливо реакционные формы, оправдывала гнет, произвол и несправедливость. Но у этой медали была и оборотная сторона — она привлекала внимание к огромному многообразию общественных институтов и глубокому различию в подходах и опыте, сформировавшему и разделившему их, и прежде всего подчеркивала невозможность свести их к единому образцу и даже к разновидностям этого образца.
В связи с этим важно отметить, что трудно найти в истории столь резкую смену понятий, как рождение новой веры не столько в неизбежность, сколько в ценность и важность единичного и уникального, в ценность самого разнообразия и неотделимой от нее уверенности в том, что единообразие таит в себе нечто гнетущее и глубоко неприглядное, и если разнообразие — знак жизненной силы, то противостоит ему мертвящая скука. Это понятие, это ощущение сегодня кажется нам совершенно естественным и противоречит представлению о единстве истины и множественности заблуждений; идеал — это совершенная гармония, а явные и непримиримые отличия во взглядах или мнениях — признак несовершенства, непоследовательности, порожденной ошибками, невежеством, слабостью или пороком. И все же поклонение единичному лежит в основе платонизма и идущей от него философской мысли, проникшей в иудаизм и христианство, а позже — в философию Возрождения и Просвещения, на которую сильно повлияли блистательные успехи естественных наук. Даже Лейбниц, веривший в полноту и ценность разнообразия видов, считал, что они должны гармонировать; даже Перикл, по словам Фукидида, ставивший суровую, военную дисциплину Спарты ниже неупорядоченной жизни Афин, мечтал о гармоничном полисе, где все граждане должны сознательно стремиться к его сохранению и укреплению. Аристотель допускал неизбежные различия и противоречия во взглядах и характере, но не превозносил их как добродетели, а просто считал свойством неизменной человеческой натуры. Крупнейший сторонник разнообразия Гердер горячо верил в то, что каждая культура вносит свой собственный незаменимый вклад в развитие рода человеческого, и вместе с тем считал, что несхожие культуры не должны бороться друг с другом, а, напротив, призваны влиться в мировую культуру и обогатить всеобщую гармонию народов и земных институтов, для которых человек и был создан Богом или природой. Ни одно учение, основанное на понятиях истины, блага и красоты, или телеология, доказывающая, что все движется к окончательному гармоническому завершению, то есть к высшему порядку вещей, где разрешится все внешнее неустройство и несовершенство мировой жизни, ни одно учение такого рода не признает самостоятельную ценность многообразия и не призывает к нему ради него самого, ибо многообразие влечет за собой конфликт ценностей и непреодолимое противоречие между идеалами или ближайшими целями полностью реализовавших себя и равно добродетельных людей.
Тем не менее романтизм в искусстве и философии вырос вокруг культа цветущего многообразия. На мой взгляд, это привело к тому, что само понятие объективной истины расплылось, по крайней мере, в нормативной сфере. Как бы ни обстояли дела в естественных науках, в сфере этики, политики и эстетики для решения внутренних задач были необходимы искренность и неподдельность. Это в равной степени относится к отдельным людям и сообществам — государствам, народам, движениям — и отчетливей всего проступает в эстетике романтизма, где понятие вечных идей, учение Платона об идеальной красоте, которую художник стремился выразить на холсте или в звуке, уступило место страстной вере в духовную свободу и личное творчество. Художники, поэты, композиторы не подставляют зеркальце к лику природы, какой бы идеальной она ни была, а изобретают, не подражают, а творят не просто средства, но и цели, и главная из них — выразить уникальный мир художника, его внутреннее видение. Отбросить его, повинуясь требованиям «внешних» голосов — церкви, государства, общественного мнения, семьи, друзей, законодателей вкуса, — значит предать все, что оправдывает их существование перед теми, кто хоть сколько-нибудь причастен к творчеству.
Истинный родоначальник романтизма Иоганн Готлиб Фихте был самым пламенным пророком такого волюнтаризма. Эти взгляды и привели в конце концов к дикой анархии и иррационализму, к байроническому самоупоению, культу мрачного отщепенства, зловещему и притягательному. Так возник враг устоявшегося общества, демонический герой, Каин, Манфред, Гяур, Мельмот, способный платить за свою гордую независимость любую цену, сколько бы человеческих жизней или людского счастья она ни стоила. Это отрицание самого понятия общечеловеческих ценностей временами вселяло в отдельные народы дух национализма и агрессивного шовинизма, непререкаемого или коллективного самоутверждения. Иногда оно принимало крайние формы — преступные или патологические, люди теряли рассудок и всякое чувство реальности, что нередко приводило к чудовищным нравственным и политическим последствиям.
Однако на раннем этапе это движение ознаменовало огромный скачок исторического сознания; развитие человеческой цивилизации теперь мыслилось не линейно — как восходящее и нисходящее движение — и не диалектически — как борьба противоположностей, всегда разрешающаяся высшим синтезом, но как сосуществование множества разных культур, каждая из которых олицетворяет иерархию ценностей, отличную от другой и подчас несовместимую с нею, но доступную пониманию, то есть может быть воспринята теми, кто наделен достаточно чутким историческим видением, как путь жизни, по которому можно идти, полностью сохраняя человечность. Главный и общепризнанный выразитель этого взгляда- Гердер; но, возможно, первый, кто облек его в плоть и кровь, был Вальтер Скотт. В лучших его исторических романах впервые обрисованы отдельные люди, классы и целые общества как полнокровные, живые образы, а не условные сценические персонажи или двумерные обобщенные типы Тацита, Ливия и даже Гиббона и Юма. Читатель может проникнуть в их внутренний мир, чувства и настроения. Скотт — первый писатель, воплотивший то, что проповедовал Гердер: он изобразил мир, столь же полновесный, как его собственный, совершенно реальный и все же глубоко отличный, но не настолько далекий, чтобы его нельзя было понять, как мы понимаем современников, чьи характеры и судьбы сильно отличаются от наших. Влияние Скотта на историографию еще недостаточно изучено. Увидеть прошлое изнутри, глазами тех, кто в нем жил, узреть его подлинную суть, а не просто череду далеких фактов и событий или вереницу людей, которых можно описывать извне как объект повествования или статистического исследования, — достичь этого понимания, пусть немалыми усилиями, значит претендовать на способность, едва ли присущую историкам былых эпох, взыскующим истины.
Природу подобного художественного проникновения исследовал Гердер, но первым, кто отчетливо заговорил о такой возможности и предложил использовать этот метод, был итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико. Его главные труды оставались неизвестными (если не считать кучку итальянцев и нескольких французов, узнавших его много лет спустя), пока в начале прошлого века на них не наткнулся Жюль Мишле. Он загорелся идеями Вико и прославил его имя по всей Европе.
II
Вико — родоначальник современной культурологии и так называемого культурного плюрализма. Согласно этому учению, каждая подлинная культура обладает своим собственным неповторимым видением, иерархией ценностей. В ходе развития их вытесняют другое видение и другие ценности, но лишь отчасти; былые системы ценностей не становятся совершенно недоступными для последующих поколений. В отличие от релятивистов Шпенглера и Вестермарка, Вико не считал, что люди замурованы в своей собственной эпохе или культуре, заперты в замкнутом пространстве, а значит — не способны понять другие, глубоко чуждые им общества и эпохи, чьи ценности в корне отличаются от их собственных. Он был глубоко убежден: то, что сделано одним поколением, могут постичь другие. Возможно, для того чтобы расшифровать смысл поведения или языка, непохожего на наш собственный, потребуются неимоверные усилия. Тем не менее, по мнению Вико, если слово «человеческий» что-то значит, у всех представителей этого рода должно быть достаточно много общего, чтобы вообразить жизнь людей, далеко отстоящих от нас во времени и пространстве, которые придерживались таких-то обрядов, употребляли такие-то слова и создавали произведения искусства как естественные средства самовыражения, стремясь постичь и объяснить свой мир.
По сути, Вико использовал тот же метод, что и большинство современных антропологов, стремящихся понять поведение и представления первобытных племен (или того, что от них осталось). Их мифы, сказки, метафоры, сравнения и аллегории не казались им нелепыми выдумками неразумных, наивных дикарей (как считали в XVIII в.); скорее они искали ключ к первобытному миру, хотели увидеть его их глазами, помня о том, что человек (как позднее скажет другой философ) по отношению к себе — одновременно и объект и субъект. С их точки зрения, первобытные люди — не примитивные создания Божьи, которых можно описывать, но невозможно постичь, словно растения или животных, действующих по законам физики или биологии, а существа, равные нам, жителям этого мира, чьи действия и слова могут быть истолкованы как ясный ответ на естественные условия их существования, которые они стремятся понять. В известном смысле, одно лишь несходство языков, на которых говорят народы (скажем, Кавказа или Тихого океана), — знак или модель того, как непреодолимо разнообразны формы самовыражения. Разнообразие это столь явно, что точный перевод с одного языка на другой, даже родственный, принципиально невозможен, а пропасть между ними, говорящая о разнице восприятия и действий, поистине огромна.
С другой стороны, этот подход не слишком отличается от всякой попытки понять других людей, их слова, внешность, жесты, выражающие их намерения и стремления. Лишь тогда, когда связь прерывается, мы обращаемся к чисто научным методам дешифровки, формулируем гипотезы, проверяем их, устанавливаем подлинность документов, датируем памятники древности, проводим анализ материалов, из которых они сделаны, выясняем степень достоверности свидетельств, источников информации и т. д. Для этого мы прибегаем к научным методам, а не вдохновенным догадкам, коими неизбежно оборачиваются все попытки понять, как жили люди в данной ситуации, в определенное время, как они боролись с силами природы или другими людьми, или познать, что испытывали те, кто верил в могущество колдовства, заклинаний и жертв, приносимых, чтобы умилостивить богов или подчинить природу человеческой воле.
По мнению Вико, наши предки были такими же людьми, как мы, и знали не хуже нас, что такое любить и ненавидеть, надеяться и бояться, молиться, сражаться, предавать, угнетать или бунтовать. Вико был знатоком римского права и римской истории, он часто черпал оттуда примеры. Его этимология подчас причудлива, но оценка экономических условий, породивших те или иные законы на фоне постоянной классовой борьбы между плебеями и патрициями, — огромный шаг вперед по сравнению с более ранними гипотезами. Исторические детали могут быть неверными, даже нелепыми, сведения неточными, критические методы недостаточными, но подход — смел, самобытен и плодотворен. Вико не раскрывает точного смысла слов «проникнуть в сознание», но из его «Новой науки» видно, что он ценил дар проникновения и называл его фантазией. Позднее немецкие мыслители говорили о verstehen[100], противопоставляя ее wissen[101] — знанию, характерному для естественных наук, где речь не идет о «проникновении», поскольку человек не может проникнуть в надежды и страхи пчел и бобров. Фантазия — неотъемлемая часть исторического познания, в отличие от сведений о том, что Юлий Цезарь умер, Рим не сразу строился, тринадцать — простое число, а в неделе семь дней. Она не научит нас ездить на велосипеде, изучать статистику или выигрывать сражения. Скорее она сродни знанию о том, что такое бедствовать, принадлежать к определенной нации, взбунтоваться, влюбиться, испугаться, уверовать в Бога, восхищаться картиной или симфонией. Примеры эти- аналогии, Вико интересовал опыт не отдельных людей, а целых обществ. Он хотел исследовать именно этот вид коллективного самосознания — что люди думали, воображали, чувствовали, желали, с чем боролись вопреки законам природы на определенном этапе развития общества с присущими ему институтами, памятниками, символами, манерой речи и письма, сложившимися в результате усилий представить и объяснить мир, и полагал, что нашел к нему непроторенный путь. По его мнению, чтобы открыть дверь в историю культуры, нужно «расшифровать» мифы, обряды, законы, поэтические образы, и этот труд он считал своим главным достижением. Понятно, почему Карл Маркс в известном письме Лассалю писал, что эти размышления об эволюции общества достигают гениальных прозрений.
Вико, как никто другой, может считаться родоначальником исторической антропологии, и прав был Жюль Мишле, называвший себя его учеником. Он — забытый предтеча немецкой исторической школы, первый и, в сущности, крупнейший критик антиисторических учений об естественном праве или теории Спинозы о том, что всякую истину может обнаружить кто угодно и когда угодно, а люди блуждали во тьме потому, что не могли или не хотели правильно использовать разум. Идея исторического развития как череды культур (каждая вырастает из предыдущей по мере того, как люди борются с силами природы, которая на определенном этапе общественного развития порождает войну между экономическими классами, сложившимися в процессе производства), так вот, идея эта — важнейшая веха в истории человеческого самосознания. Подобное представление об исторических переменах (какие бы признаки его мы ни отыскали в общественной мысли от Гесиода до Харрингтона) никто еще не сформулировал с такой полнотой.
Критики Вико замечали, что его учение — человек может понять лишь то, что он делает, — недостаточно для раскрытия и анализа культуры. Но разве не бывает бессознательных влечений и иррациональных сил, которые мы не сознаем даже ретроспективно? Разве действия не приводят к непредсказуемым последствиям и непредвиденным результатам, не зависящим от действующих лиц? Разве Провидение (для Вико — форма гегелевского «высшего разума») не обращает даже наши недостатки во благо человечеству? (Похожую идею развивал Бернард Мандевиль, его современник.) И можем ли мы постичь Промысел, проистекающий, как полагал Вико, из воли Божьей, если мы не посвящены в его работу? Более того, разве мы не привносим собственные представления и оценки в картину прошлого? Отсылая нас к гомеровскому рассказу о том, как Одиссей вызвал тень Ахилла из Аида, великий знаток античности Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф сказал: мертвые не могут говорить, пока не испили крови. Если мы предложим им нашу кровь, они заговорят с нами нашими голосами и нашими словами, а не своими, поэтому всякая попытка понять их мир всегда отчасти иллюзорна.
Все эти бесспорно веские соображения противоречат идее о том, что, поскольку человеческая история творится людьми, ее можно полностью понять, лишь «проникнув» в сознание наших предков. История — не просто рассказ о людских надеждах, идеях или действиях, которые их воплощают, не просто повествование о человеческом опыте или этапах самосознания (как, по-видимому, считали Гегель и Коллингвуд).
Маркс был прав, говоря, что историю творят люди (выдумывая ее, но все же в обстоятельствах, обусловленных природой и предыдущими общественными институтами, которые могут привести к ситуациям, не обязательно соответствующим цели действующих лиц). Притязания Вико сейчас кажутся чересчур честолюбивыми, и все же, несмотря на эти оговорки, остается нечто важное. Теперь все сознают коренное отличие между историками, создающими портреты целых обществ или групп людей, такие законченные и трехмерные, что, глядя на них, мы думаем, будто знаем, как жили тогда люди, и хранителями древностей, летописцами, собирателями фактов или статистики (то есть материала для широких обобщений), образованными компиляторами или теоретиками, усматривающими в игре воображения первый шаг к гаданию на кофейной гуще, субъективности, журналистике или чему-нибудь похуже.
Это коренное отличие основано на отношении к дару, который Вико называл фантазией, полагая, что без него невозможно воскресить прошлое. Решающая роль, которую он отводит воображению, не должна обманывать нас, как не обманывала его; по мнению Вико, критическая проверка свидетельств совершенно необходима. Без фантазии прошлое остается мертвым. Чтобы воскресить его, мы должны, по крайней мере — в идеале, слышать голоса людей, представлять (опираясь на доступные факты), каким мог быть их опыт, их формы выражения, ценности, взгляд на мир, цели и образ жизни. Без всего этого мы не поймем, откуда мы взялись, как стали именно такими, не только физически, биологически и, в более узком смысле, политически, но и социально, психологически, нравственно; не поймем — и не познаем себя. Мы называем великими историками тех, кто не только владеет достоверными фактами, полученными с помощью доступных им критических методов, но, подобно талантливым романистам, наделен даром глубокого проникновения. По меткому выражению английского историка Дж. Тревельяна, Клио — как-никак Муза.
III
Предложенный Вико метод реконструкции прошлого привел к интереснейшим результатам — как я уже сказал, была создана теория культурного плюрализма, то есть панорама разных культур, несхожих и подчас несовместимых образов жизни, идеалов, критериев. Отсюда в свою очередь вытекает, что вечная идея совершенного общества, где истина, справедливость, свобода, счастье, добродетель сливаются в их совершеннейших формах, не просто утопична (это мало кто отрицает), но внутренне противоречива, ибо если некоторые из этих ценностей несовместимы друг с другом, то они не могут, просто не могут слиться воедино. Каждая культура выражает себя в произведениях искусства, в философии, образе жизни, все они своеобразны и не способны сочетаться или становиться этапами движения к какой-то единой цели.
Теория разных представлений о жизни и ценностях, которые не вписываются в единую гармоничную картину, ярко проиллюстрирована в разделе «Новой науки», посвященном Гомеру. Взгляды Вико расходятся с господствующими эстетическими учениями той эпохи, утверждавшими, что, несмотря на некоторый уклон к релятивизму, критерии превосходства объективны, универсальны и вневременны: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus[102]. Возьмем известный пример: некоторые считали, что древние поэты лучше, чем современные, другие возражали им; знаменитая битва древних и новых разыгрывалась в его молодости. Здесь важно то, что противники отстаивали свои позиции, опираясь на одни и те же ценности — вечные и подходящие ко всем эпохам и стилям.
Вико думал иначе. Он говорил, что «на заре цивилизации люди от природы были возвышенными поэтами», ибо воображение первобытных людей сильнее, чем мышление. Гомер жил на излете той эпохи, которую он описывал с присущим ему гением, не только непревзойденным, но не имеющим себе равных. Гомеровские герои — грубые, неотесанные, дикие, гордые, упрямые люди. Ахилл жесток, неистов, мстителен, занят только собой, и тем не менее он — безупречный воин, идеальный герой гомеровского мира. Ценности этого мира остались в далеком прошлом; Вико жил в более гуманное время. Но, по его мнению, это не значит, что позднейшее искусство непременно выше созданий величайшего из поэтов. Гомер восхищался страшными чертами своих героев; воспевая диких и свирепых воинов, он рисовал кровавую бойню. Рассказ о богах-олимпийцах, поразивший Платона и вызвавший у Аристотеля желание его поправить, не мог выйти из-под пера утонченных поэтов Возрождения или современников Вико.
Вико не скрывает, что это невосполнимая утрата. Он рассказывает о римских писателях, изображавших Брута, Муция Сцеволу, Манлия достойными всяческого восхищения, хотя именно эти герои разоряли, грабили, топтали несчастных римских плебеев. Когда, много раньше, спартанский царь Агид пытался помочь угнетенным, его казнили как предателя; и все же эти угрюмые, свирепые варвары — авторы и герои непревзойденных шедевров. По мнению Вико, мы можем быть умнее, добрее, образованней их, но нам далеко до великолепной, стихийной силы их воображения и языка, далеко до эпосов и саг, которые могли возникнуть лишь в жестокой, первобытной культуре. Вико считал, что в искусстве нет прогресса и нельзя сравнивать гениев разных эпох. Вопрос, кто лучше — Софокл или Вергилий, Вергилий или Расин, он счел бы праздным. Каждая культура создает свои шедевры, и они безраздельно принадлежат ей одной. Когда она завершена, можно восхищаться ее взлетами или сожалеть о ее недостатках, но, раз они уже в прошлом, ничто не воскресит их для нас. Само понятие совершенного общества, где гармонично сочетаются высшие достижения культуры, лишено всякого смысла. Одна добродетель может быть несовместима с другой. Нельзя сочетать несочетаемое. Доблести гомеровских героев резко отличаются от добродетелей Платона и Аристотеля, во имя которых порицали мораль гомеровских поэм, а высокие добродетели Афин V в., что бы ни говорил Вольтер, ничуть не похожи на достоинства, ценившиеся во Флоренции эпохи Возрождения или при версальском дворе. Развитие цивилизации влечет за собой и утраты и приобретения. Каковы бы ни были приобретения, то, что утрачено, утрачено навсегда и ни в каком земном раю не воскреснет.
Каким же дерзновением должен был обладать этот самобытный мыслитель, сын самодовольной цивилизации, полагавшей, что она ушла далеко вперед от жестокости, нелепости, невежества былых времен, если он осмелился сказать, что бесподобная поэма могла быть создана лишь в жестокую, дикую и, на взгляд последующих поколений, безнравственную эпоху! Говорить так — все равно что отрицать саму возможность идеальной гармонии. Отсюда следует, что судить достижения той или иной эпохи с помощью единого абсолютного критерия, выработанного критиками и теоретиками позднейшего времени, — не просто антиисторично; такой суд основан на заблуждении или ложном предположении, будто существуют вневременные ценности идеального мира. На самом же деле лучшие творения человека органически связаны с культурой его времени; мы же вправе осуждать или не осуждать отдельные ее стороны и даже претендовать на то, что понимаем, почему люди думали и поступали так, а не иначе.
Словом, представление о совершенном обществе, в котором все, к чему стремились люди, находит свое полное завершение, воспринимается как нечто внутренне противоречивое, по крайней мере, по земным понятиям: Гомер не может соседствовать с Данте, а Данте — с Галилеем. Сегодня это трюизм. Но антиутопический смысл главы о Гомере в «Новой науке», недооцененный при жизни автора, — неплохой урок нашему времени. Эпоха Просвещения сыграла поистине беспримерную роль в борьбе с мракобесием, гнетом, несправедливостью и безрассудством. Но все великие освободительные движения вынуждены прорываться сквозь заслоны общепринятых догм и традиций, а потому заходят слишком далеко и перестают замечать добродетели, на которые они замахнулись. Тезис о том, что человек сам для себя — и субъект и объект, не вяжется со взглядами парижских философов, считавших, что человечество — прежде всего объект научного изучения. Лишь горстка дерзновенных мыслителей отважилась усомниться в том, что человеческая природа в целом всегда одна и та же и повинуется вечным законам, неподвластным человеку. Принимая эту гипотезу как научную, мы умаляем роль человека, создателя и разрушителя ценностей и целостных форм бытия, существа с внутренней жизнью, неведомой другим обитателям вселенной. Знаменитые утописты Нового времени — от Томаса Мора и Мабли до Сен-Симона, Фурье, Оуэна и их последователей — изображали основные человеческие свойства статически и создали статическую модель совершенного общества. Они недооценивали природу человека, самопреобразующегося существа, умеющего свободно выбирать между соперничающими, несовместимыми целями в пределах, положенных ему природой и историей.
В основе всех настоящих исторических исследований лежит представление о человеке как о действующем лице, движимом и осознанными целями, и причинно-следственными законами, способном к непредсказуемым взлетам мысли и воображения, и о культуре, рождающейся из жажды познать себя и обрести власть над окружающим миром перед лицом подчас полезных, но всегда неизбежных материальных и духовных сил. На этом поприще необходимо и воображение; без него кости прошлого останутся сухими и безжизненными. Но воплощать этот дар в творчество — дело рискованное.
ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР И ИСТОКИ ФАШИЗМА
«Joseph de Maistre and the Origins of Fascism» © Isaiah Berlin 1990
пер. Е. Ляминой
Victor Hugo, Chansons des Rues et des Bois.[103]
- Un roi, c'est un homme questre,
- Personnage numro,
- En marge duquel de Maistrc
- crit: Roi, Iisez: Bourreau.
Но еще не пришло время говорить о подобных предметах; наш век не созрел для того, чтобы ими заниматься.
Жозеф де Местр, «Санкт-петербургские вечера»[104]
I
Личность и взгляды Жозефа де Местра обычно не рассматриваются историками политической или религиозной мысли как сложные или непонятные. Для своего века — века, когда слияние внешне несовместимых идей и позиций, восходящих к разным историческим традициям, привело к появлению ряда чрезвычайно изменчивых, «текучих» личностей, слишком сложных, противоречивых и потому не укладывающихся в рамки привычных категорий, де Местр выглядит чрезвычайно простым, цельным и ясным. Историками, биографами, теоретиками политики, историками идей, богословами с большой тонкостью воссоздана политическая и социальная атмосфера конца XVIII — начала XIX в., специфика этого времени, когда на смену одним воззрениям приходили другие, резко противоположные; типичные представители этой эпохи — такие психологически неоднозначные фигуры, как Гёте и Гердер, Шлейермахер и Фридрих Шлегель, Фихте и Шиллер, Бенжамен Констан и Шатобриан, Сен-Симон и Стендаль, российский император Александр I и, разумеется, Наполеон. Ощущения некоторых современников в известной степени передает знаменитое полотно Антуана Гро, изображающее Наполеона в сражении при Прейсиш-Эйлау (1808; ныне в Лувре). На нем представлен некий всадник, возникший из неизвестности — странный, загадочный, запечатленный на столь же таинственном фоне; это l'homme fatal, сопричастный непостижимым силам, человек рока, являющийся ниоткуда, действующий в согласии с потусторонними законами, коим подвластно все человечество и, шире, вся природа; это экзотический герой барочных романов эпохи («Мельмот-Скиталец», «Монах», «Оберман») — новый, гипнотически притягательный, ужасный и глубоко волнующий.
Эту эпоху в истории западной культуры обычно считают кульминацией того продолжительного периода, когда формировались классические методы в философии и искусстве, основанные на нблюдении, рациональном постижении и исследовании. В то же самое время принято отмечать здесь влияние (нет, больше — воплощение) нового духа, который неутомимо и яростно стремится разрушить старые, тесные формы; робкий, но пристальный интерес к непрерывной смене внутренних состояний сознания; тягу к тому, что неопределимо и не имеет границ, к вечному движению и изменению; попытки вернуться к забытым источникам жизни; страстный порыв к самоутверждению — и личному, и коллективному; поиски средств для выражения непреодолимой тоски по недостижимым целям. Это мир немецкого романтизма: Ваккенродера и Шеллинга, Тика и Новалиса, иллюминатов и мартинистов. Он возникает из отторжения всего спокойного, цельного, светлого, понятного; его влечет к темноте, к ночи, к бессознательному, к потаенным силам, царящим и в каждой отдельной душе, и в окружающей природе. Он одержим стремлением к мистическому отождествлению двух личностей, непреодолимой тягой к недостижимому центру вселенной — средоточию тварного и нетварного миров; из него рождается ироническая отрешенность и неистовая неудовлетворенность, печальная и взвинченная, раздробленная, отчаянная и в то же время служащая источником всякого проникновения в суть вещей и подлинного вдохновения, разрушительного и созидательного одновременно. Этот процесс сам по себе разрешает (или растворяет) все внешние противоречия, вынося их за пределы обычного мышления и трезвых суждений, преображая их при помощи особенного зрения, которое иногда отождествляется с творческим воображением, а иногда — с особенным даром философского постижения «логики» и «внутренней сути» истории, с умением видеть многослойность метафизически понятого процесса роста, скрытого от поверхностных умозаключений материалистов, эмпириков и заурядных людей. Это мир «Гения христианства», «Обермана», «Генриха фон Офтердингена» и «Вольдемара», «Вильяма Лавелла» Тика и Шлегелевой «Люцинды», Кольриджа, новой биологии и физиологии, черпавших вдохновение в учении Шеллинга о природе.
К этому миру де Местр, по утверждению практически всех его биографов и истолкователей, не принадлежал. Он терпеть не мог романтического духа. Подобно Шарлю Моррасу и Т. С. Элиоту, он отстаивал тройственный союз классицизма, монархии и церкви. Он представляет собой воплощение ясного латинского ума, полную противоположность «сумрачному германскому гению». В мире полутонов и нюансов он отчетлив и ясен; в обществе, где религия и искусство, история и мифология, социальное учение, метафизика и логика, кажется, смешаны до полной неразличимости, он классифицирует, разделяет и придерживается своих разграничений жестко и последовательно. Он католик, реакционер, ученый и аристократ — «franais, catholique, gentilhomme»[105], которого в равной степени оскорбляют идеи и деяния Великой французской революции; он с равной твердостью противостоит рационализму и эмпиризму, либерализму, технократии и уравнительной демократии, он враг секуляризма и всякой не имеющей строгого исповедания и институций религии. Это сильная, влекущая вспять фигура, чьи вера и методы ведут свое происхождение от Отцов церкви и учения иезуитов. «Пылкий абсолютист, неистовый теократ, твердокаменный легитимист, провозвестник чудовищного союза Папы, короля и палача, всегда и везде поборник самого тяжеловесного, узкого, косного догматизма, мрачный средневековый образ — частью ученый, частью инквизитор, частью палач»[106], — сказал о нем Эмиль Фаге. «Его христианство — это страх, покорное повиновение и религия государства»[107]; его вера — «слегка подправленное язычество»[108]. Это римлянин V в. — крещеный, но все равно остающийся римлянином, или, иными словами, «ватиканский преторианец»[109]. Поклонник де Местра Самюэль Рошблав пишет о его «христианстве Террора»[110]. Известный датский критик Георг Брандес, посвятивший де Местру и его эпохе проницательное исследование, называет его чем-то вроде полковника папских гвардейцев от литературы и христианином лишь в том смысле, в каком человек может заниматься свободной торговлей или протекционизмом[111]. Эдгар Кине говорит о его «безжалостном Боге, которому помогают палачи» и о «Христе — члене постоянно действующего Комитета общественного спасения»[112]. Стендаль (неизвестно, впрочем, читал ли он де Местра) называет его «другом палача»[113], а Рене Думик — «испорченным богословом»[114].
Все приведенные высказывания на самом деле — вариации шаблонного портрета, который в значительной степени создан воображением Сент-Бёва[115], увековечен Фаге и точно воспроизводился авторами учебников по истории политической мысли. Де Местр предстает здесь как фанатик-монархист и еще более фанатический сторонник папской власти, гордый, нетерпимый и несгибаемый, обладающий сильной волей и редким даром переходить от догматических посылок к крайним и неприятным выводам; как блистательный, едкий сочинитель парадоксов в духе Тацита, несравненный мастер французской прозы, средневековый схоласт, опоздавший родиться, озлобленный реакционер, жестокий противник движения истории, надменно тщившийся истребить его одной силой своей великолепной прозы, изысканная аномалия — грозная, единственная в своем роде, утонченная, чувствительная и проникнутая крайним пафосом; в лучшем случае — как трагическая фигура патриция, который презирает и осуждает переменчивый и пошлый мир, где ему так некстати пришлось родиться, в худшем — как несгибаемый фанатик, мечущий громы и молнии на дивный новый век, который ему не дано ни видеть, ибо он ослепил сам себя, ни чувствовать, ибо он слишком упрям и своенравен.
Сочинения де Местра считаются скорее интересными, чем значительными, и рассматриваются как последнее отчаянное усилие феодального строя и темных веков помешать движению вперед. Он задевает за живое всех, и едва ли кто-то из споривших с ним смог остаться беспристрастным. Консерваторы изображают его как отважного, но обреченного рыцаря, сражающегося в безнадежно проигранной битве, либералы — как тупой или ненавистный обломок старшего, более бессердечного поколения. И те и другие согласны в том, что его время прошло и его мир лишен связи с каким бы то ни было настоящим или будущим течением мысли. Эту точку зрения разделяют Ламенне (некогда бывший его сторонником) и Виктор Гюго, Сент-Бёв и Брандес, Джеймс Стивен, Морли и Фаге; они отрицают де Местра как выдохшуюся, ни на что не годную силу. К такому приговору присоединяются известные противники де Местра в ХХ столетии — Гарольд Ласки, Адольф Омодео, Джордж Гуч и даже Роберт Трайэф, основательнейший и в высшей степени критически настроенный биограф де Местра, относящийся к нему как к странному анахронизму, имевшему некоторое влияние на современников — впрочем, слабое и аномальное[116].
Эта оценка, вполне понятная в менее беспокойном мире, все-таки кажется мне неверной. Де Местр, возможно, говорил на языке прошлого, но суть сказанного им предвосхитила будущие события. В сравнении со своими передовыми современниками — Констаном и мадам де Сталь, Иеремией Бентамом и Джеймсом Миллем, не говоря уже о радикальных экстремистах и утопистах, — он в некоторых отношениях очень современен и родился словно бы раньше, а не позже своего времени. Его идеи не имели широкого влияния (кроме ультрамонтанских католических кругов и савойской аристократии, откуда вышел Кавур, других следов этого влияния, пожалуй, не так уж много), но лишь потому, что при его жизни почва оказалась бесплодна. Его учению, и в еще большей степени — направлению его ума, пришлось прождать целый век, прежде чем они оказались (и слишком роковым образом) востребованы. Это утверждение может, а первый взгляд, показаться столь же нелепым парадоксом, сколь и любой из тех, за которые обычно высмеивали де Местра; чтобы сделать его правдоподобным, требуется наглядность. Настоящее исследование — попытка обосновать выдвинутый тезис.
II
В годы наибольшей творческой активности де Местра проблемой, особенно занимавшей общественное сознание, был своеобразный извод универсального вопроса о том, как именно следует управлять людьми. Французская революция дискредитировала набор рационалистических решений этой проблемы, на обоснование которых в последние десятилетия XVIII в. было затрачено столько пламенного красноречия. Что же, собственно, стало причиной этого провала? Великая революция была уникальным событием в истории человечества — хотя бы потому, что она, вероятно, оказалась самой желанной, обсуждаемой и сознательно предпринятой переменой целой формы общественной жизни на Западе со времен распространения христианства. Те, кого она разорила, могли сколько угодно представлять ее необъяснимым катаклизмом, внезапным всплеском развращенности или безумия масс, яростным извержением божественного гнева или таинственной грозой, разразившейся среди ясного неба и уничтожившей самые основания старого мира. Именно такой, вне всякого сомнения, искренне считали революцию наиболее нетерпимые или ограниченные эмигранты-роялисты в Лозанне, Кобленце и Лондоне. Но для идеологов среднего класса, да и для всякого человека (к какому бы сословию он ни принадлежал), испытавшего влияние упорной пропаганды радикально или либерально настроенных интеллектуалов, она была — по крайней мере, в первое время — долгожданным освобождением, решительной победой света над древней тьмой, началом эпохи, когда люди наконец-то начнут управлять своей судьбой, и под действием разума и науки судьба эта перестанет быть игрушкой Природы, которую называли жестокой только потому, что неверно ее понимали, и человека, который становится тираном и разрушителем лишь в том случае, если он морально или умственно слеп или извращен.
Но революция не принесла желанных плодов; в последние годы XVIII в. и в начале следующего бесстрастным историкам-созерцателям и в еще большей степени — жертвам новой индустриальной европейской эры становилось все яснее, что слабость и нищета человека почти не уменьшились, хотя их тяжесть была до некоторой степени переложена с одних плеч на другие. Проанализировать такое положение вещей, частично — из искреннего желания понять происходящее, а частично — из стремления найти ответственного или, говоря иначе, оправдать себя, как и можно было ожидать, пытались с разных сторон. История этих попыток установить причины катастрофы и найти лекарства во многом и составляет историю политической мысли первой половины XIX в. Прослеживание всех ее разветвлений завело бы нас слишком далеко. Однако основные формы истолкования — критическая и апологетическая — достаточно известны. Либералы винили во всем Террор, власть толпы и фанатизм ее вождей, поправших умеренность и разум. Люди действительно стремились к свободе, процветанию и справедливости, но их необузданные страсти или заблуждения (например, вера в то, что централизация власти и личная свобода совместимы) привели к тому, что они сбились с пути, еще не достигнув земли обетованной (можно ли было этого избежать или нельзя, зависело от оптимизма или пессимизма размышляющего). Социалисты и коммунисты не соглашались с этим полагая, что деятели революции недооценили социальных и экономических факторов, прежде всего- структуру отношений собственности (и, как следствие, не смогли с ними справиться). Талантливые новаторы вроде Сисмонди и Сен-Симона предлатали проницательные и оригинальные объяснения истоков, природы и следствий социальных, политических и экономических конфликтов, совершенно отличные от априорных методов, которые были в ходу у их предшественников-рационалистов. Религиозно и метафизически настроенные немецкие романтики считали причиной катастрофы господство ошибочных форм рационалистического мышления с его глубоко неверным пониманием истории и механистическим взглядом на природу человека и общества. Иллюминаты и мистики, чье влияние в последние десятилетия XVIII и в начале следующего века было куда более мощным и широко распространенным, чем принято считать, говорили о том, что потусторонние духовные силы (которые в значительно большей мере управляют судьбами людей и народов, нежели материальные причины или сознательно разделяемые мнения) понять почти невозможно, вступить же с ними в связь — еще труднее. Консерваторы — и католики, и протестанты (Берк, Шатобриан, Малле дю Пан, Иоганнес Мюллер, Галлер и их единомышленники) — подчеркивали феноменальную силу и значимость бесконечно сложной и непостижимой паутины: так, Берк писал о мириадах нитей социального и духовного родства, которыми с самого начала опутано каждое новое поколение; им люди обязаны практически всем, чем они обладают и чем стали. Эти мыслители превозносили таинственную силу наследственного, традиционного развития, уподобляя его широкому потоку, противостоять течению которого (как надеялись недалекие французские философы-просветители, чьи головы были забиты абстракциями), во всяком случае, глупо и бесполезно и почти наверняка — самоубийственно; некоторые из них сравнивали его с растущим деревом, чьи корни теряются в сумрачных и недосягаемых глубинах, с деревом, в тени переплетенных ветвей которого мирно пасется огромное человеческое стадо. Другие говорили о постепенно разворачивающемся свитке божественного замысла, чьи последовательные исторические фазы были лишь мимолетными предвестиями не имеющего временного измерения целого, которое вечно и во всех проявлениях предстоит мысли бестелесного Творца. Как бы ни разнились образы, по смыслу они всегда близки: разум — как способность к абстракции, к незатейливым подсчетам или классификации и анализу действительности в ее первичных составляющих и как умение человека заниматься эмпирическими или дедуктивными исследованиями — просто выдумали философы Просвещения. Эти мыслители (вне зависимости от того, что на них влияло — физика Ньютона или интуитивистские, эгалитарные теории Руссо) размышляли о человеке как таковом, человеке как создании природы, равном самому себе во всех действиях; его основные качества, способности, потребности и склад могли быть открыты и проанализированы при помощи рациональных приемов. Одни подчеркивали, что цивилизация обусловила развитие этого естественного человека, иные — что она повредила ему, но и те и другие сходились в том, что всякое движение вперед — в области нравственности, политики, ума и общественных отношений — зависит от удовлетворения его потребностей.
Де Местр, подобно Берку, отрицал это понятие как таковое:
«Конституция 1795 года, — писал он, — как и ее предшественницы, была создана для человека. Но ничего подобного человеку в мире нет. За свою жизнь я повидал французов, итальянцев, русских и других; благодаря Монтескье я знаю также, что «можно быть персианином». Что же до человека, то я заявляю, что никогда в жизни его не встречал; ежели он и существует, то мне он остался неизвестен»[117].
Наука, основанная на этом фиктивном понятии, бессильна перед великим космическим процессом. Попытки его объяснить (и в еще большей степени — изменить или направить по иному руслу, согласно формулам, выведенным учеными) просто дики, и от них можно было бы отмахнуться со смехом или улыбкой жалости, если бы они не принесли столько ненужных страданий, а в худшем случае — потоков крови. Так история, природа или природные божества наказывают человеческое безумие и самонадеянность.
Историки обычно причисляют де Местра к консерваторам. Нам говорят о том, что он вместе с Бональдом олицетворяет крайнюю форму католической реакции — традиционалистскую, монархическую, обскурантистскую, жестко связанную с традициями средневековой схоластики, враждебную всему новому и живому в послереволюционной Европе, тщетно стремящуюся восстановить старую, донационалистическую, додемократическую и во многом умозрительную теократию Средних веков. Применительно к Бональду это весьма справедливо: он почти во всех отношениях вписывается в стереотипный образ теократа-ультрамонтана. Бональд был человеком ясного ума и узких воззрений, делавшихся все уже и резче в течение его долгой жизни. Офицер и дворянин в лучшем и худшем смысле этих слов, Бональд искренне пытался приложить интеллектуальные, нравственные и политические каноны, почерпнутые из сочинений Фомы Аквинского, к современным ему событиям. Он занимался этим с тяжеловесной, механической косностью, с упрямым и подчас самодовольным нежеланием видеть суть своей эпохи. Он учил, что цепь заблуждений зиждется на естественных науках, что стремление к личной свободе — одна из форм первородного греха, а обладание всей полнотой светской власти (вне зависимости от того, принадлежит ли она монархам или народным собраниям) основывается на кощунственном отрицании власти божественной, которой облечена только Католическая церковь. Таким образом, узурпация власти народом оказывалась всего лишь лицевой стороной медали и была прямым следствием изначального, нечестивого присвоения власти королями и их советниками. Дух соревнования — панацея, с точки зрения либералов, — для Бональда был мелочным попранием божественного порядка, а стремление к иному знанию, чем то, что записано на священных скрижалях ортодоксального богословия, — просто судорожной жаждой сильных ощущений со стороны развращенного и беспутного поколения. Подобно сторонникам Папы в великой средневековой распре, он полагал, что единственная возможная для человека форма правления — это старая европейская иерархия сословий и корпораций, когда социальные связи освящены традицией и верой, а верховная власть, светская и духовная, находится в руках Наместника Христова, чьими преданными и послушными орудиями служат монархи. Все это излагалось тяжелым, мрачным и безжалостно монотонным слогом, и в итоге оказалось, что, хотя идеи Бональда вошли в общий корпус политической теории католицизма и имели немалое влияние, его сочинения и, шире, его личность сегодня, судя по всему, безнадежно забыты и не известны никому, кроме узкого круга специалистов по истории церкви.
Де Местр весьма высоко ценил Бональда (с которым, впрочем, никогда не встречался), переписывался с ним и во всеуслышание признавал себя его духовным близнецом, что с излишней серьезностью восприняли все биографы де Местра, в том числе и безупречный Фаге. Да, конечно, Бональд — француз, а де Местр — савоец; Бональд — родовитый дворянин, де Местр — сын адвоката, выслужившего дворянство; Бональд — офицер и придворный, а де Местр — преимущественно юрист и дипломат; де Местр — философ-эссеист и писатель незаурядного дарования, в то время как сочинения Бональда педантичны и неукоснительно посвящены богословию; де Местр более горячо поддерживал королевскую власть и был более искушен в переговорах и практических делах, Бональд же, глубже образованный, более строгий и дидактичный, чуждался аристократических гостиных, где блестящего и оживленного де Местра так тепло приняли и так глубоко почитали. Но это скорее внешние расхождения. Бональд и де Местр воспринимаются как неразрывно связанные вожди единого движения, как своего рода двуглавый орел католической реставрации. Такое впечатление создается благодаря объединенным усилиям нескольких поколений историков, критиков и биографов, во многом повторяющих и перепевающих друг друга, однако мне оно кажется ошибочным. Бональд был ортодоксальным политическим медиевалистом, столпом реставрации, грозным как скала, но отчасти устаревшим уже при жизни. Это скучная, не обладающая воображением, просвещенная и упорно догматичная фигура реакции. Наполеон верно осознал, что такой оплот сопротивления всякой критической мысли, пусть даже открыто враждебный его собственному правлению, ему полезен, почему и предложил Бональду кресло в Академии и пригласил его учителем к своему сыну. Де Местр — личность и мыслитель иного склада. Его блеск был не менее сухим, его интеллектуальный строй в той же степени тяжеловесен и холоден, однако его идеи — и позитивные (то, каким он видел мир и каким желал его видеть), и негативные, направленные на уничтожение других типов мышления и чувствования, — смелее, интереснее, оригинальнее, неистовее и на самом деле куда страшнее, чем все, что могло привидеться во сне Бональду с его ограниченным легитимистским кругозором. Ибо де Местр понимал (а Бональд — ни в малейшей степени), что старый мир умирает, и различал (что Бональду было недоступно) кошмарные очертания нового порядка, идущего ему на смену. Представления де Местра, изложенные совсем не пророческим языком, глубоко шокировали его современников. Однако они оказались пророческими, и суждения, которые в его эпоху представлялись извращенно парадоксальными, ныне — едва ли не общее место. Современникам и, быть может, ему самому казалось, что он тихо пасется на поле классического и феодального прошлого, однако увидел он леденящую картину будущего. В этом — интерес и значение де Местра.
III
Жозеф де Местр родился в 1753 г. в Шамбери и был старшим из десяти детей президента Сената; его отец получил этот титул, занимая высшую юридическую должность в герцогстве Савойском, в то время составлявшем часть Сардинского королевства. Его семейство переселилось в Савойю из Ниццы, и на протяжении всей жизни он испытывал к Франции восхищение, время от времени встречающееся у тех, кто живет на внешнем краю или сразу за пределами страны, к которой они привязаны кровными или душевными узами и устойчивое романтическое представление о которой дорого им. Де Местр всю жизнь был верным подданным правителей своей страны, но по-настоящему любил одну Францию, которую вслед за Гуго Гроцием называл «прекраснейшей страной после Царства Небесного»[118]. Судьба (писал он по какому-то поводу) хотела, чтобы он родился во Франции, но, заблудившись в Альпах, забросила его в Шамбери[119]. Он получил обычное для молодого савойца из хорошей семьи образование: посещал иезуитскую школу и вступил в светское сообщество, одной из обязанностей которого было опекать преступников, и в особенности присутствовать при казнях и подавать последнюю помощь и поддержку приговоренным к смерти. Возможно, поэтому образ эшафота занимает его помыслы. Он слегка заигрывал с конституционализмом и масонством, к которому неизменно питал уважение (даже в более поздние годы, когда ему из соображений лояльности пришлось осуждать масонов), и, идя по стопам отца, стал в 1788 г. сенатором герцогства Савойского.
Симпатии де Местра к весьма умеренным савойским масонам оставили след в его мировоззрении. Особенное влияние на него оказали труды Луи-Клода де Сен-Мартена, известного мистика конца XVIII в., и сочинения его предшественника Мартинеса Паскуалиса. Он глубоко проникся призывом Сен-Мартена к благотворительности, добродетельной жизни, его неприятием скептицизма, материализма и истин, провозглашаемых естественными науками; отсюда же, вероятно, и устойчивый экуменизм де Местра — он страстно желал единства христиан, осуждал «тупое безразличие, называемое толерантностью»[120]. Мартинистским можно назвать и его пристрастие к выявлению в тексте Библии эзотерических учений, таинственных намеков и откровений, к визионерским ее толкованиям, его интерес к Сведенборгу, акцент на непостижимости путей, которыми свершаются Божественные чудеса, на непредсказуемости Провидения, преображающего случайные следствия человеческой деятельности в движущие силы исполнения Божьих замыслов, о чем и не подозревают безнадежно близорукие исполнители. В годы его юности церковь, во всяком случае — в Савойе, не порицала масонских склонностей среди паствы; во Франции масоны под руководством Виллермоза были оружием в борьбе против таких врагов, как материализм и антиклерикальный либерализм Просвещения. Ранние масонские симпатии де Местра стали постоянным источником преследовавших его всю жизнь подозрений со стороны наиболее фанатичных защитников церкви и королевской власти, хотя он был неукоснительно предан и той и другой. Но это началось позже: во времена его молодости при дворе герцогов Савойских был распространен мягкий — по сравнению с французским королевским двором — прогрессизм. Феодализм был уничтожен в начале XVIII в.; королевская власть была патриархальной, но умеренно просвещенной; крестьяне не были раздавлены бременем налогов, а купцы и промышленники — менее стеснены старинными привилегиями дворянства и церкви, нежели в немецких или итальянских княжествах. Туринское правительство было консервативным, но не деспотическим; ощущались даже некоторые экстремистские веяния — и реакционного, и радикального толка; страной в то время (и впоследствии) управляли осторожные чиновники, заботившиеся о сохранении мира и о том, чтобы избежать неприятных столкновений с соседями. Когда в Париже начался революционный террор, в Савойе его встретили с недоверчивым ужасом; к якобинцам здесь относились практически так же, как в консервативных кругах Швейцарии в 1871 г. воспринимали Парижскую коммуну, а в течение Второй мировой войны — движение Сопротивления во Франции, когда перепуганные добропорядочные граждане Женевы и Лозанны с симпатией взирали на маршала Петена. Почтенная, склонная к либерализму придворная аристократия в ужасе отшатнулась от катаклизмов, сотрясавших Францию. Когда воинственная Французская республика вторглась в Савойю и аннексировала ее, король был вынужден сначала бежать в Турин, затем провести несколько лет в Риме, а после того, как Папа Римский оказался заложником Наполеона, — удалиться в Кальяри, столицу Сардинии. Де Местр, поначалу одобрявший деятельность французских Генеральных штатов, вскоре изменил свое мнение и уехал в Лозанну; оттуда он направился в Венецию и Сардинию, где вел типичную жизнь эмигранта-роялиста, лишившегося средств, и служил своему государю, сардинскому королю, который существовал на русские и английские субсидии. Из-за своих радикальных настроений и взглядов, которые он всегда отстаивал и выражал с излишней горячностью, де Местр оказался неудобным для консервативного, провинциального, пугливого маленького двора. Он мог и предвидеть это, когда его друг Анри Коста отговаривал его от публикации написанного в 1793 г. сочинения («Писем савойского роялиста к соотечественникам»): «Все, что обдумано слишком сильно и содержит чересчур много энергии, в этой стране распродается плохо»[121]. Вероятно, его назначение в Петербург в качестве официального представителя Сардинского королевства в 1803 г. было воспринято с известным облегчением.
Революция — и это неудивительно — потрясла сильный и цепкий ум де Местра, заставив его пересмотреть самые основания своей веры и убеждений. Его либерализм, и без того довольно маргинальный, исчез бесследно. Он стал свирепым критиком всех форм конституционализма и либерализма, легитимистом-ультрамонтаном, убежденным в божественном происхождении власти и силы, и, разумеется, непреклонным противником всего, за что ратовала эпоха Просвещения, — рационализма, индивидуализма, либеральных компромиссов и светского воспитания. Его мир, вдребезги разбитый дьявольскими силами атеистического рассудка, мог быть восстановлен только в том случае, если бы отсекли все головы революционной гидры во всех ее многочисленных обличьях. Два мира сошлись в смертельном поединке. Де Местр выбрал, на чьей он стороне, и не собирался щадить врага.
IV
Основной источник всей интеллектуальной деятельности де Местра, от «Размышлений о Франции», вышедших без указания его имени в Швейцарии в 1797 г., мощного, блестяще написанного полемического трактата, в котором содержится большинство оригинальных или усвоенных извне идей автора, до напечатанных посмертно «Санкт-петербургских вечеров» и «Исследования философии Бэкона» — реакции на то, что казалось ему наиболее плоским и поверхностным из всех способов видения мира, когда-либо предлагавшихся влиятельными мыслителями. Сильнее всего его раздражал успокаивающий, натуралистический оптимизм, ценность которого представлялась модным философам той эпохи (особенно французам) совершенно очевидной. В середине XVIII в. в просвещенных кругах считалось, что истинного знания можно достичь только при помощи естественнонаучных методов — хотя, несомненно, представление о том, что такое естественные науки и каковы их возможности, было в то время несколько иным, чем два с лишним столетия спустя. Только опора на способности рассудка и накопление знаний, основанных на чувственном восприятии (а не мистический внутренний свет или послушное принятие традиции и догматических правил, не голос сверхъестественных сил, снизошедший в качестве прямого откровения или же донесенный через священные тексты), — только это могло дать окончательные ответы на великие вопросы, занимавшие человека с самого начала его истории. Конечно, между философскими школами и отдельными мыслителями имелись глубокие разногласия. Локк верил в интуитивную истинность религии и этики, а Юм — нет; Гольбах был атеистом, как большинство его друзей, за что его жестоко критиковал Вольтер. Тюрго, которым де Местр в свое время восхищался, был убежден в неизбежности прогресса; Мендельсон, так не считавший, защищал учение о бессмертии души, которое Кондорсе, в свою очередь, отвергал. Вольтер не сомневался в том, что книги имеют решающее влияние на социальное поведение человека, а Монтескье был уверен, что определяющая роль принадлежит климату, почве и другим факторам окружающей среды, из совокупности которых возникли резкие различия национальных характеров и социальных или политических институций. Гельвеций полагал, что образование и законодательство могут сами по себе полностью изменить — разумеется, к лучшему — природу людей и обществ, и за это на него в свое время нападал Дидро. Руссо писал о разуме и чувстве, но, в отличие от Юма и Дидро, с подозрением относился к искусству и терпеть не мог науку; он придавал особенное значение воспитанию воли, осуждал интеллектуалов и ученых знатоков и, в противоположность Гельвецию и Кондорсе, возлагал мало надежд на будущее человечества. Юм и Адам Смит полагали, что чувство долга можно исследовать эмпирически, а Кант строил свою моральную философию на предельно резком опровержении этой идеи; Джефферсон и Пейн считали, что наличие у человека естественных прав не нуждается в доказательствах, а Бентам находил это превыспренним вздором и называл Декларацию прав человека и гражданина бумажным кликушеством.
Но как бы значительны ни были расхождения между этими мыслителями, некоторых убеждений никто из них не оспаривал. Все они, пусть в разной степени, верили, что люди по природе своей создания разумные, общественные и, уж во всяком случае (если только их не обманывают мошенники и не сбивают с дороги дураки), способные разобраться, что именно необходимо им самим и окружающим. Они считали, что, если людей научить, они будут следовать правилам, доступным разумению обычного человека; что существуют законы, управляющие живой и неживой природой, и что законы эти, вне зависимости от того, доступны они эмпирическому познанию или нет, становятся очевидны, стоит человеку вглядеться в себя или во внешний мир. Они считали также, что открытие таких законов и знание их, будь оно достаточно широко распространено, само по себе привело бы к устойчивой гармонии и между человеком и обществом, и внутри самого человека. Большинство из них верило в то, что максимум личной свободы совместим с минимумом власти — во всяком случае, после того, как люди будут соответствующим образом перевоспитаны. Они думали, что образование и законодательство, основанные на «предписаниях природы», в состоянии исправить практически любое заблуждение и зло; что природа — это всего лишь разум в действии, и значит, всякое ее явление в принципе можно объяснить, исходя из набора элементарных истин, подобных геометрическим теоремам, а позднее — законам физики, химии и биологии. Они верили, что все благое и желательное можно совместить, и даже более — что все ценности связаны между собой паутиной прочных, логически сцепленных отношений. Те из них, кто мыслил наиболее эмпирически, были уверены в том, что наука о природе человека может развиваться не менее успешно, чем изучение неодушевленных объектов, и что вопросы этики и политики (если они сформулированы верно) можно в принципе разрешить с не меньшей определенностью, чем математические и астрономические задачи. Жизнь, устроенная на основании полученных ответов, была бы свободной, безопасной, счастливой, добродетельной и мудрой. Говоря коротко, они не видели причины, которая помешала бы достичь золотого века при помощи тех способов и методов, которые за сто лет привели естественные науки к победам куда более великолепным, чем все, чего человеческая мысль достигла на протяжении предшествующей истории.
Де Местр поставил себе задачу ниспровергнуть все это. Вместо априорных формул подобного идеализированного взгляда на основания человеческой природы он апеллировал к конкретным фактам истории или зоологии и наблюдениям здравого ума. Вместо идеалов прогресса, свободы и способности человека к совершенствованию он проповедовал спасение при помощи веры и традиций. Он подчеркивал, что человек по природе своей безнадежно дурен и развращен, а значит, необходимы власть, иерархия, послушание и подчинение. Первенствующую роль он отводил не науке, а инстинкту, христианской мудрости, предрассудкам (представляющим собой плод опыта многих поколений), слепой вере; вместо оптимизма проповедовал пессимизм, вместо вечной гармонии и мира — предопределенную свыше неизбежность вражды и страдания, греха и возмездия, кровопролития и войны. Вместо идеалов мира и социального равенства, основанных на общности интересов и естественной добродетельности, он провозглашал, что неравенство неотделимо от природы вещей, а ожесточенный конфликт целей и интересов — необходимое условие бытия падшего человека.
Де Местр не признавал таких абстракций, как природа и естественное право. Он создал учение о языке, целиком противоречившее всему, что писали по этому поводу Кондильяк и лорд Монбоддо. Он вдохнул новую жизнь в давно развенчанную доктрину о божественном праве королей; он отстаивал необходимость тайны, сумрака и в особенности стихийности как основы общественной и политической жизни. С замечательным блеском и силой он обличал всякую ясность и разумное устройство. По темпераменту он походил на своих врагов якобинцев; подобно им, он веровал безоглядно, ненавидел яростно и во всем шел до конца. Экстремисты образца 1792 г. отличались тем, что отвергали старый порядок целиком, осуждая не только его пороки, но и его достоинства; они желали уничтожить все, разрушить систему зла до основания, истребив и корни и ветви, и построить нечто совершенно новое — такое, что ни в малейшей степени не было бы уступкой и оглядкой на тот мир, на руинах которого должен был встать новый порядок. Де Местр — полная им противоположность. Он нападал на рационализм XVIII столетия с той же нетерпимостью и страстью, силой и увлечением, которые были свойственны великим революционерам. Он понимал их лучше, чем те, кто придерживался умеренных взглядов, и питал своего рода братское чувство к отдельным их качествам, но то, что представлялось им упоительной мечтой, для него было страшным сном. Он хотел стереть с лица земли «небесный град философов XVIII века»[122], не оставив камня на камне.
Методы, к которым прибегал де Местр, и истины, которые он провозглашал (несмотря на его заверения в том, что он заимствовал их у Фомы Кемпийского или Фомы Аквинского, Боссюэ или Бурдалу), на самом деле едва ли обязаны своим происхождением этим столпам католической церкви и имеют больше общего с антирационалистическими воззрениями Блаженного Августина или учителей юности де Местра — с иллюминатством Виллермоза и последователей Мартинеса Паскуалиса и Сен-Мартена. В чем-то де Местр сродни основоположникам немецкого иррационализма и фидеизма, а также тем французам, которые, подобно Шарлю Моррасу, Морису Барресу и их сторонникам, проповедовали ценности и власть римской курии, но при этом не всегда были верующими христианами; нечто объединяет его с теми, кто по-прежнему питает личную ненависть к эпохе Просвещения, и с теми, кто защищает вечные, незыблемые устои и считает, что их подлинное значение затемняется и искажается любой попыткой поставить их в один ряд с наукой и здравым смыслом, то есть открыть их интеллектуальному или моральному критицизму.
V
Воззрения Гольбаха и Руссо диаметрально противоположны, однако о природе и тот и другой говорили с благоговением, словно она в известном, не слишком метафорическом, смысле гармонична, добра и может дарить свободу. Руссо считал, что ее гармония и красота открываются в неискушенном сердце естественного человека; Гольбах был убежден, что то же самое происходит и с обработанными воспитанием, не затуманенными предрассудками и суевериями чувствами и умами тех, кто прилагает к раскрытию ее тайн методы рационального познания. Де Местр, напротив, придерживался старых представлений о том, что до всемирного потопа люди обладали знанием, но жили неправедно и за это были уничтожены; ныне их выродившиеся потомки могут найти истину не в гармоническом развитии своих дарований, не в философии или физике, а в откровениях, услышанных святыми католической церкви и ее учеными богословами, личные же наблюдения лишь подкрепляют эту истину. Нам говорят, что следует изучать природу. Что ж, попробуем. Какие открытия сделаны в столь превосходных науках, как история и зоология? Неужели нашему взору предстает зрелище гармонического раскрытия существ, как полагает оптимистический рационалист маркиз де Кондорсе? Как раз наоборот: природа, оказывается, состоит из клыков и когтей. В «Санкт-петербургских вечерах» де Местр пишет:
«В обширной области живой природы господствует явное насилие, некая предписанная свыше ярость, вооружающая каждое существо in mutua funera[123]. Едва покинув пределы царства бесчувственности, вы обнаруживаете, что закон насильственной смерти начертан на самой границе жизни. Уже в мире растительном начинаем мы ощущать его действие. От громадной катальпы до самых скромных злаков сколько растений умирает и сколько бывает убито! Но стоит войти в царство животных — и закон этот предстанет пред вами со всей своей ужасающей очевидностью. Некая сила, одновременно скрытая и осязаемая ‹…› в каждом крупном разряде животных избрала ‹…› известное число представителей и предназначила к тому, чтобы пожирать остальных. Существуют хищные насекомые, хищные птицы, хищные рыбы, хищные четвероногие, и нет такого мгновения, когда бы одно живое существо не истреблялось другим. А над всеми бесчисленными видами животных поставлен человек, чья смертоносная рука не щадит ничего: он убивает, чтобы доставить себе пропитание, убивает, чтобы раздобыть себе одежду, убивает, чтобы облечь себя в украшения, убивает, когда нападает, убивает, когда защищается, убивает ради науки, убивает ради забавы — он убивает, чтобы убивать! Гордый и грозный повелитель, он требует всего, и ничто не в силах ему противиться ‹…› Человек требует всего и сразу: у ягненка — внутренности, чтобы звонко играла арфа ‹…› у волка — смертоносные клыки, чтобы полировать легкие произведения искусства, у слона — бивни для игрушек ребенку, а обеденный стол человека весь покрыт трупами ‹…› Но какое же существо станет истреблять того, кто истребляет всех? Он сам: именно человеку предписано убивать человека. Так ‹…› неуклонно исполняется великий закон насильственного истребления живых существ. И земля, непрерывно орошаемая кровью, есть лишь громадный алтарь, где все живущее должно приноситься в жертву, — без передышки, без отдыха, без меры, вплоть до скончания веков, вплоть до полного исчезновения зла, вплоть до смерти самой смерти»[124].
Таков знаменитый, ужасающий взгляд де Местра на жизнь. Его страстная завороженность кровью и смертью принадлежит иному миру, чем богатая тихая Англия, представлявшаяся воображению Берка, чем медленная зрелая мудрость помещиков, глубокий покой больших и малых деревенских домов, вечное общество, основанное на общественном договоре мимолетных и смертных с теми, кто еще не родился, кому не угрожают треволнения и нищета тех, чье положение менее завидно. Воззрения де Местра в равной степени чужды и сокровенному духовному миру мистиков и иллюминатов, жизнь и учение которых увлекали его в молодости. Это не квиетизм и не консерватизм, не слепая вера в status quo, не обскурантизм духовенства. Что-то сближает его с параноидальным миром современного фашизма, и поразительно, что мы имеем дело с самым началом XIX в. Из современников де Местра только Геррес в некоторой степени перекликается с ним в своих обличительных размышлениях, написанных позднее.
И все же для де Местра жизнь — не бессмысленное кровопролитие, которое испанский философ Мигель де Унамуно назвал «бойней покойного графа де Местра»[125]. Хотя исход битвы неясен, хотя нельзя ни рассчитывать на победу, ни достичь ее при помощи одного только искусства или того рода знаний, которым, по их собственным уверениям, обладают ученые или правоведы, невидимое воинство в конце концов сражается на одной стороне против другой, и в исходе сомневаться не приходится. Божественная составляющая чем-то напоминает дух мировой истории, человечества или вселенной — если прибегать к терминам, в которых немецкие романтики начала века (Шеллинг, братья Шлегели) были склонны описывать и объяснять мир, некую сверхъестественную силу, проявляющую себя как способность одновременно творить и постигать, как создательница и истолковательница всего сущего.
Ироническим слогом, порой напоминающим Тацита, а порой — Льва Толстого, и с не меньшим жаром, чем немецкие романтики (а вслед за ними — французские противники позитивизма Равессон и Бергсон), де Местр пишет о том, что естественно-научные методы губительны для подлинного понимания. Классифицировать, абстрагировать, обобщать, сводить к единообразию, делать выводы, подсчитывать и суммировать в строгих, лишенных временного параметра формулах — значит ошибочно принимать внешнее за сущность, описывать наружную сторону, оставляя глубины нетронутыми, дробить живое единство искусственным анализом и неверно представлять себе процессы, происходящие и в истории, и в человеческой душе, прилагая к ним категории, которые в лучшем случае годятся для химических или математических исследований. Чтобы действительно постичь суть вещей, требуется иной подход — тот, который немецкий метафизик Шеллинг (а до него — Гаман) видел во вдохновении, нисходящем на поэта или пророка свыше; это условие, в чем-то сродное творчеству самой природы, позволяет провидцу в его борьбе за осуществление своих собственных или общественных задач понять их как составную часть цели, к которой стремится вселенная, осмысляемая почти как одушевленное существо. Де Местр искал ответ в откровениях религии и в истории как воплощении скрытых путей, которые мы видим (впрочем, смутно и изредка), если ставим себя в рамки свойственных нашему обществу традиций, его манеры чувствовать, действовать и мыслить; только здесь и можно найти правду.
Вероятно, Берк не отверг бы эти воззрения целиком; во всяком случае, он присоединился бы к ним в большей степени, чем немецкие философы-романтики, питавшие отвращение к политике и воспевавшие поэзию, мудрость древних «путей народа», талант художников и мыслителей, одаренных особой способностью к творчеству и предсказанию. Любая власть, основанная на определенных законах, исходит из узурпации законодательных прерогатив Всевышнего. Следовательно, всякая конституция как таковая плоха. Это уже чересчур даже для Берка; как бы то ни было, и английские традиционалисты, и немецкие романтики относились к человечеству без презрения и пессимизма, тогда как де Местра — во всяком случае, в произведениях зрелого периода — ни на минуту не оставляет сознание первородного греха, порочной, никчемной, самоубийственной ограниченности людей, предоставленных самим себе. Снова и снова он возвращается к мысли о том, что лишь страдание может удержать людей от падения в бездонную пропасть анархии и ниспровержения всех ценностей. Невежество, своеволие, глупость, с одной стороны, и кровь, боль, возмездие — с другой, в качестве противоядия — таковы опорные понятия его мрачного мира. Человечество (огромное большинство людей) — ребенок, безумец, рассеянный хозяин, которому прежде всего нужен опекун, заслуживающий доверия наставник, духовный руководитель, распоряжающийся и личной жизнью подопечного, и его имуществом. Человек, безнадежно развращенный и слабый, может пойти на все, если не оградить его от соблазна растратить силы и средства на достижение призрачных целей, если не принудить его к исполнению указанных задач под неослабным присмотром опекунов. Те, в свою очередь, должны принести жизнь в жертву поддержанию прочной и жесткой иерархии — истинного закона природы; во главе ее стоит земной Наместник Христа, а все кирпичики великой пирамиды человечества распределены симметричными рядами, от высших до ничтожнейших ее членов.
В начале каждой верной дороги, ведущей к знанию и спасению, де Местр не случайно видел огромную фигуру Платона, указующую путь. Он надеялся на то, что иезуиты будут действовать подобно сословию стражей в «Государстве» и спасут европейские державы от модных и роковых заблуждений века сего. Однако главный герой его мира, замковый камень свода, поддерживающего все общество, куда страшнее, чем король, священник или военачальник; это палач. Ему посвящен знаменитейший пассаж «Санкт-петербургских вечеров».
«Так что же это за непостижимое существо, способное предпочесть стольким приятным, доходным, честным и даже почтенным занятиям, которые во множестве открыты ловкости и силе человека, ремесло мучителя, предающего смерти себе подобных? Его рассудок, его сердце — так ли они сотворены, как и наши с вами? Не заключено ли в них нечто особенное, чуждое нашему существу? Что до меня, то я не в силах в этом усомниться. Внешне он создан как мы, он появляется на свет подобно нам — и однако, это существо необыкновенное, и чтобы нашлось ему место в семье человеческой, потребовалось особое веление, некое FIAT Всетворящей силы. Он сотворен — как сотворены небо и земля. Взгляните только, чем он является во мнении людском, и попытайтесь, если сумеете, постичь, как он может не замечать этого мнения или действовать ему наперекор! Едва лишь власти назначат ему обиталище, едва лишь вступит он во владение им, как другие жилища начинают пятиться, пока дом его вовсе не исчезнет у них из виду. В подобном одиночестве и образовавшейся вокруг него пустоте и живет он с бедною своею женой и ребятишками. Он слышит их человеческие голоса — но не будь их на свете, ему бы остались ведомы лишь стоны… Раздается заунывный сигнал, и вот уже отвратительный судейский чиновник стучит в его дверь, извещая, что в нем есть нужда. Он выходит из дому, он прибывает на площадь, где уже теснится трепещущая толпа. К его ногам бросают отравителя, отцеубийцу или святотатца; он хватает осужденного, растягивает его члены, привязывает к горизонтальному кресту — тут наступает жуткая тишина, и не слышно уже ничего, кроме хруста переломанных брусьями костей и воя жертвы. Он отвязывает жертву, он влечет ее к колесу; раздробленные члены переплетаются между спицами, бессильно свисает голова, волосы встают дыбом, и открытый рот, словно печь, извергает временами немногие кровавые слова, призывающие смерть. Он кончил дело, громко стучит его сердце, но в нем — радость; он ликует и вопрошает себя в сердце своем: «Так кто же колесует лучше, чем я?» Он сходит с помоста, он протягивает испачканную кровью руку — и правосудие издали швыряет ему несколько золотых монет, которые проносит он сквозь двойной ряд пятящихся в ужасе людей. Вот он садится за стол и ест, потом ложится в постель и спит. И проснувшись на следующее утро, он вспоминает о чем угодно, только не о том, что делал накануне. Человек ли это? — Да: Бог принимает его в храмах своих и позволяет молиться. Он не преступник, и, однако, ни один язык не назовет его, например, человеком добродетельным, порядочным или почтенным. Ни одна моральная похвала к нему не подойдет, ибо все они предполагают отношения к людям, а их у него нет.
А между тем всякое величие, всякая власть, всякое повиновение покоятся на исполнителе правосудия: он есть ужас и связь человеческих сообществ. Уберите из мира эту непостижимую силу — и в то же мгновение хаос придет на смену порядку, троны низвергнутся в пропасть и общество исчезнет. Бог — творец верховной власти, а значит — и наказания; он поместил наш мир между этих двух полюсов, ибо Иегова господин над ними, и вокруг этих полюсов вращает он мир»[126].
Перед нами не просто садистические размышления о вине и каре, но выражение искренней веры де Местра (связанной со всей совокупностью его страстных, но отчетливых убеждений) в то, что человека можно спасти, лишь сковав его ужасом перед властью. В каждое мгновение жизни людям необходимо напоминать о пугающей тайне, лежащей в основе творения; их должно очищать непрерывным страданием и унижать, на каждом шагу заставляя их проникаться сознанием собственной глупости, преступности и беспомощности. Война, пытка, страдание — неизбежный человеческий удел, и люди обязаны переносить их достойно. Те, кому назначено ими повелевать, должны исполнять долг, возложенный на них Творцом (придавшим природе иерархический порядок), безжалостно предписывая законы, не щадя себя и столь же безжалостно уничтожая врагов.
Кого же считать врагами? Всех тех, кто пускает пыль в глаза людям или стремится ниспровергнуть установленный порядок. Де Местр называет их «сектой»[127]. Они будоражат и разрушают. К протестантам и янсенистам он прибавляет теперь деистов и атеистов, масонов и евреев, ученых и демократов, якобинцев, либералов, утилитаристов, сторонников антиклерикализма, эгалитаризма и секуляризации, защитников способности человека к совершенствованию, материалистов, идеалистов, законоведов, журналистов, интеллектуалов всех мастей; всех тех, кто взывает к абстрактным принципам, полагается на индивидуальный разум или личное сознание, верит в свободу личности или рациональное устройство общества, всех реформаторов и революционеров: они-то и есть враги порядка и должны быть вырваны с корнем во что бы то ни стало. Это секта; она никогда не дремлет, вечно снедаемая беспокойством.
Приведенный перечень с тех пор неоднократно повторяли. Де Местр впервые составил точный список врагов мощного антиреволюционного движения, кульминацией которого стал фашизм. Он пытался противостоять новому дьявольскому порядку, совершившему роковую революцию сначала в Америке, а затем — в Европе, выпустив в мир, по его мнению, всю ярость и весь фанатизм.
Все интеллектуалы дурны, но наиболее опасны среди них ученые-естествоиспытатели. В одном из трактатов де Местр рассказывает некоему русскому дворянину о том, что Фридрих Великий был прав, когда говорил, что ученые представляют большую опасность для государства: «Римляне отличались редким здравомыслием, покупая в Греции талантливых людей, которых им не хватало, и презирая тех, кто их продавал. Они с улыбкой говаривали: "Подыхающий с голоду грек сделает все, лишь бы тебе угодить"[128]. Решись они подражать таким существам, это могло бы выставить их в смешном виде. Но они смотрели на них свысока, отчего мы и можем назвать их великими»[129]. Так же среди древних народов подлинного величия достигли иудеи и спартанцы, не осквернившие себя духом науки. «Слишком многое, даже будучи изложено на словах, таит опасность, а для государственных мужей естественные науки и вовсе никчемны. Всем известно бессилие ученых в тех случаях, когда им приходится иметь дело с людьми, понимать их или вести за собой»[130]. Научный подход в любой власти отыщет изъяны; он влечет за собой «болезнь» атеизма.
«Одним из неизбежных пороков науки в любой стране и вообще везде является то, что она гасит любовь к деятельности — подлинное призвание человека, наполняет его высокомерием и гордыней, отвращает от самого себя и подобающих мыслей, делает его врагом всякого повиновения, восстающим на все законы и установления, и безоглядным поборником любого нововведения ‹…› Первейшая из наук есть наука управления государством. Ее не изучают в академиях. Ни один великий государственный муж, от Сугерия до Ришелье, никогда не занимался физикой или математикой. Дух естественных наук отнимает у человека эту разновидность гения, представляющую собой совершенно особенный талант»[131].
Поэтому вера в возможность счастливой, гармонической, творческой жизни под надежной опекой той силы, которую в XVIII в. часто называли «Природой-матерью» или «Госпожой Природой», порождена самообманом поверхностных умов, неспособных смотреть в лицо действительности.
Мир — это одно, а реальность — другое. «… По какому непостижимому волшебству, — вопрошает де Местр, — готов он (человек) при первом же ударе барабана ‹…› с какой-то радостью, также по-своему характерной, устремиться на поле битвы и растерзать своего брата, ничем его не оскорбившего, — брата, который, в свою очередь, приближается затем, чтобы, если повезет, заставить его самого претерпеть подобную судьбу?»[132] Мужчины, проливающие слезы, если им нужно зарезать курицу, на полях сражений убивают без малейших угрызений совести. Они поступают так исключительно ради общего блага и подавляют в себе человеческие чувства, исполняя тяжелый долг альтруизма. Палачи умерщвляют немногих преступников — отцеубийц, фальшивомонетчиков и им подобных. Солдаты же убивают тысячи неповинных людей — убивают не разбираясь, слепо, в диком воодушевлении. Если вообразить, что неискушенный пришелец с другой планеты спросил бы, какую из двух сражающихся сторон обитатели земли боятся и презирают, а какую — приветствуют, почитают и награждают, что бы мы ему отвечали? «Объясните, почему, по мнению всего рода человеческого, самым почетным на свете является право, не навлекая на себя вины, проливать невинную кровь?»[133] Кто показал это живее и ярче, чем зловещая, извращенная, порочная якобинская республика, это царство сатаны, этот изображенный Мильтоном пандемониум?
И все же человек рожден для любви. Он сострадателен, справедлив и добр. Он проливает слезы над участью других, и эти слезы ему приятны. Он сочиняет истории, над которыми можно поплакать. Откуда же в таком случае берется эта неистовая тяга к войнам и кровопролитию? Отчего человек погружается в бездну, страстно сжимая в объятиях то, что внушает ему такое отвращение? Почему люди, восстающие против таких незначительных событий, как попытка изменить систему летосчисления, подобно послушным животным позволяют, чтобы их посылали убивать и умирать? Петр Великий мог обречь тысячи солдат на смерть в проигранных им сражениях, но, заставляя бояр сбрить бороды, столкнулся едва ли не с мятежом. Если люди преследуют свои собственные интересы, почему же они не объединяются в лигу народов и не обретают тот всеобщий мир, который, по их словам, для них столь желанен? На эти вопросы может быть только один верный ответ: стремление истреблять друг друга заложено в людях так же глубоко, как жажда самосохранения и счастья. Война — ужасный и незыблемый закон мироздания. Ее необходимость нельзя обосновать рационально, но она влечет к себе, таинственно и властно. На уровне разумного утилитаризма война действительно предстает тем, чем ее считают, — безумием и разрушением. И если все же она определила весь ход истории человечества, это свидетельствует о неверности рационалистических объяснений, в особенности попыток исследовать войну как заранее запланированное, поддающееся постижению или оправданию явление. Хотя войны всем ненавистны, они не прекратятся, поскольку не являются человеческим изобретением: они установлены Богом.
Образование может изменить знания людей и выражаемые ими мнения, но на ином, более глубоком уровне оно бессильно. Де Местр называет этот уровень невидимым миром, где и в рамках одной личности, и в целых обществах все определяется ролью непостижимого сверхъестественного элемента. Разум, столь превозносимый в XVIII столетии, — на самом деле никчемнейшее орудие, «мерцающий огонек»[134], слабый и в теории, и на практике, не способный ни изменить человеческое поведение, ни выявить его причины. Все разумное, рукотворное по этой причине обречено; прочно одно иррациональное. Рациональная критика разъедает все, что к ней восприимчиво: уцелеть может только то, что ограждено внутренней тайной и необъяснимостью. Сотворенное одним человеком исказит другой; лишь сверхчеловеческое пребудет.
История изобилует примерами, подтверждающими эту истину. Что может быть абсурднее наследственной монархической власти[135]? Как можно ожидать, что на смену мудрому и добродетельному государю придут столь же достойные потомки? Возможность свободно избирать монарха (выборная монархия), несомненно, более целесообразна. Однако несчастное положение Польши — очевидный и прискорбный результат такого пути, а совершенно иррациональный институт наследственного монархического правления оказался одним из самых долговечных человеческих установлений. Демократические республики, конечно же, куда разумнее, чем монархия; но долго ли просуществовала даже великолепнейшая из них — Афинская республика при Перикле? И какой непомерной ценой! При этом шестьдесят шесть королей — иные лучше, иные хуже, но в среднем примерно одинаково — благополучно правили великим французским королевством полторы тысячи лет. Далее: что на первый взгляд может быть бессмысленнее брака и семьи? Почему два существа должны оставаться вместе даже в том случае, если их вкусы и взгляды на жизнь уже не совпадают? Почему длится такой упрямый обман? И все же связующие двоих таинственные семейные узы пребывают нерушимыми, хотя и бросают вызов чистому разуму.
Стремясь опровергнуть мнение, что история есть действующий разум (если под разумом понимать все, что напоминает обычную работу человеческой мысли, перескакивающей с одного на другое), де Местр умножает примеры того, сколь саморазрушительна природа рациональных установлений. Рационалист стремится получить максимум удовольствия и минимум страдания. Но общество никак не поможет этого достигнуть. Оно зиждется на чем-то значительно более сущностном — на непрестанном самопожертвовании, на человеческой склонности приносить себя в жертву семье, городу, церкви или государству, не задумываясь об удовольствии или выгоде, но единственно из жажды заклания на алтаре социальной сплоченности, из стремления пострадать и умереть ради того, чтобы сохранилась непрерывность освященных форм жизни. Лишь по прошествии значительной части XIX столетия нам снова встретится столь неистовое подчеркивание иррациональных целей, не связанного с личными интересами или удовольствием романтического поведения, действий, обусловленных страстью к отказу от себя или к самоуничтожению.
Действие в мире де Местра бесполезно ровно в той мере, в какой оно направлено на исполнение сиюминутных желаний и вытекает из расчетливых, практических тенденций, составляющих внешнюю поверхность человеческого характера; действие полезно, достойно запоминания и согласно с мирозданием настолько, насколько оно порождено необъяснимыми и непостижимыми глубинами, а не разумом, не индивидуальной волей. Героический индивидуализм, которому отдали должное Байрон и Карлейль, презирает опасность и бросает вызов бурям; с точки зрения де Местра, он так же слеп в своей самоуверенности, как глупец-ученый, социальный прожектер или крупный промышленник. Лучшее и сильнейшее бывает свирепым, безрассудным, беспричинным, а значит, непременно предстает в неверном свете и кажется нелепым лишь потому, что ему ошибочно приписали постижимые мотивы. Для де Местра поступки людей оправданы лишь тогда, когда возникают из тяги не к счастью или комфорту, не к отчетливому, логически выстроенному поведению, не к самоутверждению или самовозвеличиванию, но к исполнению непостижимой, установленной свыше цели, которую люди не могут (и не должны даже пытаться) постичь и которую они, на свою погибель, отрицают. Нередко это может привести к действиям, влекущим за собой боль и кровопролитие; в свете чувствительной и пошлой морали среднего класса их скорее всего сочтут самонадеянными и несправедливыми, хотя на самом деле они происходят из темной, непознаваемой сердцевины любой власти. Это поэзия мира, а не его проза, это источник всякой веры и энергии, где человек только и может быть свободен и способен к выбору, к творчеству и разрушению, превосходящим причинно обусловленное, научно объяснимое механическое движение вещей или субстанций, стоящих ниже, чем он сам, и не ведающих добра и зла.
Внутреннему взору де Местра, как и любого серьезного политического мыслителя, предстоит суждение о природе человека. Его взгляд глубоко, хотя и не всецело, совпадает с воззрениями Блаженного Августина. Человек слаб и чрезвычайно порочен, но не полностью определен совокупностью причин. Он свободен, и душа его бессмертна. Два начала борются в нем за власть: он — подобие Божие, сотворенное по образу Создателя, искорка божественного духа — и богоборец, грешник, восстающий на Бога. Его свобода весьма ограничена; он вовлечен в космический поток и не в состоянии вырваться из него. Он не способен по-настоящему творить, но может изменять. Ему дано выбирать между добром и злом, Богом и Дьяволом, и за свой выбор он несет ответственность. Один во всем мироздании он сражается — за знания, за самовыражение, за спасение.
Кондорсе сравнивал человеческое общество с сообществом пчел и бобров. Но ни пчела, ни бобр не желают знать больше, чем знали их предки; птицы, рыбы, млекопитающие застыли в однообразных, повторяющихся циклах. Лишь человеку известно, что он пал. «Подобное ощущение есть вместе доказательство его величия и нищеты, высоких прав и невероятного вырождения»[136]. Человек — это «уродливый кентавр»[137], живущий одновременно в мире милосердия и в мире природы, это и будущий ангел, и замаранная грехом тварь. «Он не знает, чего хочет; он не хочет того, чего хочет; он хочет того, чего не хочет, он хотел бы хотеть. Он обнаруживает в себе нечто чуждое и более сильное, чем он сам. Мудрец сопротивляется и восклицает: "Кто избавит меня?" Безумец покоряется, зовет свое малодушие счастьем»[138].
Люди, как существа нравственные, должны добровольно подчиняться власти, но это подчинение обязательно. Ведь они слишком испорчены, слишком слабы, чтобы управлять собой; в отсутствие же власти они впадают в анархию и гибнут. Ни один человек, ни одно общество неспособны к самоуправлению, и само слово это лишено смысла: любое правительство появляется из некоей неоспоримой, принудительно навязанной власти. Беззаконие может подавить только такая сила, действия коей нельзя оспорить. Это может быть обычай, или совесть, или папская тиара, или кинжал, но это всегда нечто. Аристотель совершенно прав: некоторые люди — рабы по натуре[139]; утверждение, что они могли бы быть иными, понять невозможно. Руссо говорит, что человек рождается свободным, но повсюду страждет в оковах. «Что он имеет в виду? ‹…› Сии безумные слова: "Человек рожден свободным» — противоречат истине"[140]. Люди слишком порочны, и потому с них нельзя снять оковы сразу после их появления на свет; рожденные во грехе, они могут стать приемлемыми только при помощи общества и государства, которые подавляют искажения личных суждений, не знающих границ. Подобно Берку, оказавшему на него известное влияние, и, вероятно, подобно Руссо (в некоторых толкованиях), де Местр убежден, что общества обладают универсальной душой, подлинным моральным единством, которое и придает им форму. Но он идет дальше.
«Правительство, — говорит он, — это настоящая религия. Оно имеет свои догматы, свои таинства, своих священнослужителей. Позволить каждому обсуждать правительство значит разрушить его. Оно дано нам по причине исключительно национальной — из соображений политической веры, символом коей и является. Первейшая потребность человека состоит в том, чтобы его растущий рассудок оказался под двойным ярмом (государства и церкви). Его следует уничтожить, он должен затеряться в разуме нации таким образом, чтобы из личного существования он преобразился в иное, общественное, создание, подобно тому как река, впадающая в океан, продолжает жить среди его вод, но уже не имеет ни названия, ни самостоятельности»[141].
Такое государство нельзя создать ни при помощи написанной людьми конституции, ни на ее основе: конституции можно повиноваться, но нельзя поклоняться. А без поклонения и даже без суеверий, этих «опережающих время мыслей»[142], аванпостов религии, ничто не прочно. Эта религия требует не подчинения на определенных условиях — коммерческого договора, о котором писали Локк и протестанты, — но растворения личности в государстве. Человек обязан отдавать, а не просто одалживать себя. Общество — это не банк, не компания с ограниченной ответственностью, созданная людьми, подозрительно посматривающими друг на друга и опасающимися, что их куда-нибудь втянут, обморочат, поживятся за их счет. Всякое личное сопротивление во имя воображаемых прав или потребностей будет разрывать общественную и метафизическую ткань, только и обладающую жизненной силой.
Перед нами не авторитаризм в том смысле, в каком его защищал Боссюэ или даже Бональд. Мы оставили далеко позади симметричные, выдержанные в духе Аристотеля построения Фомы Аквинского или Франсиско Суареса и быстро приближаемся к миру немецких ультранационалистов, врагов Просвещения, к миру Ницше, Жоржа Сореля и Вильфредо Парето, Д. Х. Лоуренса и Кнута Гамсуна, Морраса, д'Аннунцио, к миру «Blut und Boden»[143], находящемуся далеко за пределами традиционного авторитаризма. Фасад выстроенной де Местром системы, быть может, выдержан в классическом духе, но за ним скрывается нечто ужасающе современное, яростно сопротивляющееся «сладости и свету». Тон де Местра отличен не только от интонации XVIII в. и даже от звучания наиболее свирепых и истерических голосов, которыми отмечен в этом столетии апогей бунта, — голосов маркиза де Сада или Сен-Жюста, но и от тона ледяных реакционеров, скрывавшихся от поборников свободы или революции за толстыми стенами средневековых догм. Учение о насилии, лежащем в основе бытия, вера в могущество темных сил, прославление цепей, которые только и могут обуздать саморазрушительные инстинкты человека, и применение их для его же спасения, призыв к слепой вере против разума, убеждение в том, что одно таинственное долговечно, что объяснять значит всегда скользить по поверхности, учение о крови и жертве, о народной душе и потоках, впадающих в огромное море, о нелепости либерального индивидуализма и прежде всего о пагубном влиянии интеллектуалов — бесспорно, нам со времен де Местра приходилось все это слышать. Его глубоко пессимистический взгляд если не в теории (временами преподносимой в обманчиво ясном облачении), то на практике составляет основу и левой и правой разновидности тоталитаризма, возникших в наш страшный век.
VI
Основной мотив философии де Местра — массированная атака на разум, превозносившийся философами XVIII в.; этим он обязан как новому национальному чувству, появившемуся (по крайней мере, во Франции) в результате революционных войн, так и Берку и предпринятым им разоблачениям Французской революции и вечных, всеобщих прав и ценностей, его подчеркиванию конкретного, связующей силы обычаев и традиций. Де Местр становится на позиции английского эмпиризма, в особенности Бэкона[144] и Локка, чтобы затем высмеять их, но отдает, хотя и без охоты, должное английской общественной жизни; ему, как и очень многим западным теоретикам католицизма, она представляется провинциальной культурой, отрезанной от универсальных истин Рима, и все же при отсутствии истинной веры это — высшее достижение, максимально возможное в светских рамках приближение к полному духовному идеалу, на который у самих англичан, как это ни плачевно, воображения не хватило. Английское общество достойно восхищения, ибо оно зиждется на приятии определенного образа жизни и не стремится постоянно пересматривать собственные основания[145]. Любой вопрос, будь то вопрос институций или образа жизни, требует ответа. Ответ, обоснованный рационально, по своей природе вызывает дальнейшие вопросы такого же рода. И каждый ответ будет постоянно вызывать сомнение и недоверие.
Стоит единожды дозволить подобный скептицизм, и человеческий дух приходит в беспокойное движение, так что уже не видит конца своим вопросам. Как только основания оказываются под сомнением, ничего долговечного установить нельзя. Колебания и перемены, словно едкая ржавчина, проникающая изнутри и снаружи, делают жизнь слишком хрупкой. Объяснять подобно Гольбаху и Кондорсе — значит скользить по поверхности, не оставляя ничего надежного. Людей терзают сомнения, разрешить которые невозможно; все установления опрокинуты и заменены иными формами жизни, в свою очередь обреченными на уничтожение. Нигде не найти ни тихой гавани, ни порядка, ни возможности вести спокойную, гармоничную и приносящую удовлетворение жизнь.
Все целостное нужно защитить от подобных нападений. Гоббс, несомненно, понимал природу верховной власти, изображая могущество Левиафана свободным от каких бы то ни было обязательств, абсолютным и непререкаемым. Но государство у Гоббса (а также у Гроция и Лютера) — дело рук человеческих, уязвимое для вечных вопросов, с которыми атеисты и утилитаристы приступают к каждому следующему поколению: «Зачем жить так, а не иначе? Почему надо повиноваться именно этой власти, а не какой-либо другой или вовсе никакой?» Как только разуму разрешается поднимать эти беспокойные вопросы, удержать его невозможно; лишь только сделано первое движение, помощи ждать неоткуда, гниль напала на добро.
Остается легкое сомнение в том, оказали ли воззрения Берка какое-либо влияние на де Местра. Любой противник Французской революции брал оружие из этого обширного арсенала. Де Местр не был учеником великого ирландского мыслителя, даже если отзывался о нем хорошо. Он далек от осмотрительного консерватизма Берка или от его высокого мнения об Акте о престолонаследии, при помощи которого узурпатор Вильгельм Оранский лишил рьяного католика Якова II его законных прав; не близки ему ни предпринятая Берком защита компромиссов и полюбовных сделок, ни его рассуждение об общественном договоре, даже если это договор между живыми, мертвыми и еще не рожденными, соответствующий его вкусу. Берк — не теократ, не сторонник абсолютистской власти, он не предается крайностям, как ультрамонтан де Местр, хотя свойственное Берку неприятие абстрактных идей, непреходящих и универсальных политических истин, оторванных от исторического развития и от процесса органического роста, который формирует людей и общества, его последовательное сопротивление освобождению людей (которое проповедовал, к примеру, Руссо) от искусственной, легко сползающей корки обычаев, а также понятия социальной ткани, внутренней жизни сообществ и государств, неощутимых нитей, удерживающих общества в целости и придающих им их выражение и силу, — все это де Местр разделяет с Берком и, возможно, до некоторой степени у него заимствует. Он цитирует Берка с удовольствием, но идеи иезуитов по-прежнему влияют на него куда более ощутимо.
Де Местр пишет на языке, который временами достигает классического благородства и красоты (вспомним, что Сент-Бев говорил о его «несравненном красноречии»[146]), и полагает, что рационалистические или эмпирические объяснения — это на самом деле бездна греха и погибели; ведь истина, лежащая в сердце мироздания, непроницаемо темна. Власть всех великих животворящих сил общественного бытия, власть сильного, богатого и колоссального над слабым, бедным и ничтожным, право требовать неукоснительного повиновения, принадлежащее завоевателям и священнослужителям, а также главам семейств, церкви и государству, проистекает из потаенного источника, самая сила которого в том, что разум не может его исследовать. «… Можно было бы на первый случай дать такое объяснение: король приказал — значит, пора в поход»[147]. Подобная власть абсолютна, ибо ее нельзя ни о чем спросить, и всесильна, поскольку ей невозможно сопротивляться. Религия стоит выше разума не потому, что у нее имеются наготове более убедительные ответы, но потому, что она ответов не предлагает. Она не убеждает и не спорит, но повелевает. Вера истинна только в том случае, если она слепа; стоит ей оглядеться в поисках оправдания — и она погибла. Все сильное, прочное и успешное на свете находится вне разума и в каком-то смысле направлено против него. Наследственная монархическая власть, война, брак устойчивы именно потому, что их нельзя оправдать и нельзя исключить из мироздания. Иррациональное обладает собственной гарантией долговечности — такой, на которую разум никогда не мог бы даже уповать. Все чудовищные парадоксы де Местра развивают именно этот тезис, в его время блиставший поразительной новизной.
Его доктрина, имея ряд очевидных сходств с нападками прежних защитников религии (к примеру, иллюминатов и Сен-Мартена, любимого де Местром и современного ему мистика) на рационализм и скептицизм, при этом отличается от них не просто ожесточением, но и тем, что превращает в достоинство то, с чем ранее мирились как с уязвимыми местами или, по меньшей мере, издержками сложной теократической концепции. Перед нами возвращение к ясному и абсолютному иррационализму ранней церкви, шаг назад от ограниченного рационализма св. Фомы и великих богословов XVI в., в чьих трудах, по признанию самого де Местра, он черпал вдохновение. Он говорит о божественном разуме, говорит он и о Провидении, по воле которого все непостижимым образом обретает окончательный облик. Но для него божественный разум вовсе не похож на то, к чему апеллировали деисты XVIII столетия; то был разум, вложенный Господом в человека, источник эпохальных триумфов Галилея и Ньютона, инструмент создания разумного счастья по планам, придуманным добродетельными тиранами или мудрыми собраниями государей. Согласно определению божественного разума, данному де Местром, он запределен и потому скрыт от людских глаз. Он невыводим из знаний, приобретенных обычным человеческим способом; его отблески могут иногда нисходить на тех, кто с головой погрузился в мир Божественных откровений и таким образом сумел понять природу и историю в их предопределенности Провидением, даже не уразумев при этом их путей или целей. Такие люди чувствуют себя в безопасности, ибо имеют веру. Они не задают вопросов: они достаточно мудры, чтобы постичь все безумие попыток приложить человеческие понятия к божественной силе. И прежде всего, они не ищут общих теорий, которые объяснят им все. Ведь нет ничего более гибельного для истинной мудрости, чем научно обоснованные общие принципы.
Де Местр исповедует чрезвычайно глубокие и замечательно современные взгляды на опасность, которой чреваты универсальные принципы и их приложение (французские просветители ее по большей части не видели). И в теории, и на практике он исключительно чувствителен к разнице в контексте, в предмете рассуждения, в исторических условиях и обстоятельствах, в уровне мысли, к оттенкам, приобретаемым словами и выражениями в несхожих ситуациях, к разновидностям мысли и языка и их несовпадениям. Для него всякая отрасль науки обладает собственной логикой, и он снова и снова говорит о том, что приложение естественнонаучных критериев к богословию, а концептов формальной логики — к истории непременно приведет к бессмыслице. Каждой области — свой способ убеждения, свои методы доказательств. Универсальная логика, подобно всеобщему языку, выхолащивает символы, отнимая у них все запасы смысла, созданные в процессе непрерывного медленного ускорения, при помощи которого само течение времени обогащает старый язык, наделяя его всеми тонкими, таинственными чертами, свойственными древним и прочным установлениям. Выяснить точные ассоциации и коннотации используемых нами слов невозможно — мы в самоубийственном помешательстве отшвырнули бы их прочь. У каждого возраста свой взгляд на вещи; если мы станем объяснять, а еще более — судить прошлое, опираясь на современные ценности, это приведет (и неоднократно приводило) к обессмысливанию истории.
Язык, которым де Местр об этом пишет, во многом схож со стилем Берка, Гердера и Шатобриана. «Христианизация была действием божественным и по этой причине двигалась медленно, ибо любой законный процесс всегда происходит неощутимо. Если человек сталкивается с шумом, сумятицей, спешкой», с необходимостью преодолевать упрямое сопротивление, «он может быть уверен, что к этому причастны преступные или безумные силы. Non in commotione Dominus[148]»[149]. Все растет, и ничто доброе или постоянное не свершается вдруг. Любая импровизация несет в себе семена своего скорого разрушения, и главное злодеяние революций — попытка пересоздать все мановением волшебной палочки, внезапно и жестоко изменить ход вещей. У каждой страны, народа и сообщества есть традиции, которые нельзя вынести вовне. Испанцы, к примеру, совершают серьезную ошибку, пытаясь ввести у себя британскую конституцию, а греки — полагая, что им в одночасье удастся стать национальным государством. Некоторые пророчества де Местра оказались до смешного несправедливыми: ясно как день, говорил он, что никакого города Вашингтона никогда не будет; а если даже и возникнет город с таким названием, то он никогда не станет местопребыванием Конгресса[150].
В физическом мире абстракция не менее пагубна, чем в мире социальном. Де Местр издевается над бесконечно попечительным и способным все объяснить существом, которое философы-энциклопедисты называли Природой, и вопрошает: «Это еще что за дама?»[151] Природа для него — не милосердная подательница всех благ, не источник жизни, знания и счастья, но извечная тайна; ее обращение жестоко, сама же она являет сцены грубости, страдания и хаоса. Она служит неизъяснимым целям Провидения, но редко бывает источником удобства и знаний.
В XVIII столетий часто восхваляли простые добродетели благородных дикарей. Де Местр уведомляет нас, что дикари вовсе не благородны — они стоят ниже людей, они жестоки, развратны и грубы. Всякий, кто жил среди них, может засвидетельствовать, что это отбросы человечества. Это ни в коей мере не светлые, неиспорченные прообразы людей, не первичные образчики естественного вкуса и врожденной нравственности, которые цивилизация, извратив, преобразила в европейцев. Напротив, это отброшенные слепки, неудачи, ошибки Творца, создававшего мир. Христианские миссионеры, жившие среди этих существ, отзывались о них слишком мягко. Из того, что добрые пастыри не решились приписать каким бы то ни было божьим созданиям мерзость пороков, в которых те на самом деле погрязли, еще не следует, что эти прискорбные случаи пресеченного развития должны служить нам образцом для подражания. А не к тому ли призывает нас Руссо? Де Местр вторит знаменитым словам Монтескье: «Чтобы собрать плоды, дикарь рубит дерево; он выпрягает быка, которого ему только что привели миссионеры, и поджаривает его на огне, обратив в дрова плуг. Вот уже более трех столетий смотрит он на нас, но так и не пожелал за это время что-либо у нас позаимствовать, — кроме пороха, чтобы убивать себе подобных, и водки, чтобы убивать самого себя. ‹…› И мы склонны к воровству, и мы жестоки, и мы распутны — но по-иному. Чтобы совершить злодеяние, мы должны превозмочь свою природу, дикарь же следует ей, и никакие угрызения совести ему неизвестны»[152]. Вслед за этим де Местр, заставляя читателя содрогнуться, перечисляет типичные удовольствия дикарей: отцеубийство, потрошение собратьев, снятие скальпов, каннибализм, скотские страсти. Ради чего же созданы дикари? Чтобы служить предостережением для нас и показать нам, как низко может пасть человек. Языки диких племен лишены первобытной силы и красоты, в них заметен лишь беспорядок и уродство разложения. Это «обломки более древних языков»[153].
Что же касается описанного Руссо царства Природы, где обитают дикари, и так называемых прав человека, которые, как предполагается, у них признаны и во имя которых Францию и Европу ввергнули в жестокую резню, то что же это за права? Какому человеку они даны от рождения? Абстрактное явление, именуемое «правами», становится доступно метафизическому, магическому взгляду только в том случае, если обязано своим происхождением какой-либо человеческой или божественной власти. Как нет дамы по имени Природа, так нет и существа по имени Человек. И все же во имя этой химеры совершаются революции и не поддающиеся описанию зверства.
«Четыреста или пятьсот лет назад, — говорит де Местр в своей записке о России, — Папа, бывало, отлучал от церкви горстку наглых законников, и им приходилось идти в Рим, чтобы вымолить прощение. Со своей стороны, крупным землевладельцам случалось у себя в имениях сбить спесь с нескольких дерзких арендаторов, и все приходило в прежний порядок. Ныне разом оборвались две якорные цепи общества — религия и рабство, и корабль, унесенный бурей, разбился о скалы»[154].
Рабство могло быть — и было — отменено только тогда, когда упрочилась власть римской церкви.
Рационализм ведет к атеизму, индивидуализму, анархии. Общественное здание держится лишь на том, что люди признают правителями тех, кто выше по рождению, и повинуются им, ибо обладают неким чувством естественной власти, которое не удастся логически опровергнуть ни одному философу-рационалисту. Не бывает общества без государства, государства без верховной власти, последней и высшей апелляционной инстанции; нет верховной власти без непогрешимости, а непогрешимости — без Бога. Папа есть доверенное лицо Бога на земле, и всякая законная власть исходит от него.
Такова политическая теория де Местра, оказавшая решительное влияние на реакционные, обскурантистские и, в конце концов, фашистские идеи последующих лет и причинившая немало беспокойства традиционным консерваторам и духовенству. Ее непосредственное действие проявилось в том, что она стала источником вдохновения для резко ультрамонтанского, антигосударственнического авторитаризма во Франции и аполитических, теократических движений в Испании, России и Франции. Его концепция божественной власти не только глубоко антидемократична, но и полностью противопоставлена личной свободе, социальному и экономическому равенству и политическим проекциям принципа человеческого братства. Он скорее всего повторил бы знаменитый афоризм, приписываемый Меттерниху: «Если бы у меня был брат, я называл бы его кузеном». Либеральный католицизм показался бы де Местру нелепым и уж во всяком случае исполненным противоречий: в последние годы жизни его беспокоили предвестия такой тенденции в воззрениях Ламенне, старого союзника-паписта. Брандес справедливо замечает, что для либералов де Местр воплощал пышный расцвет всего того, с чем они изначально борются, и вовсе не потому, что жил одним минувшим или прозябал подобно древним останкам давно исчезнувшей цивилизации, но, напротив, потому, что слишком хорошо постиг свой век и деятельно противостоял его либеральным наклонностям, прибегая к современнейшему интеллектуальному вооружению.
Самые опасные враги рода человеческого, разрушители, чья цель и призвание — взорвать основы, на которых покоится общество, — это протестанты, люди, подымающие руку на всемирную церковь. Бейль, Вольтер, Кондорсе — всего лишь жалкие светские ученики великих ниспровергателей — Лютера, Кальвина и их последователей. Протестантизм — это мятеж индивидуального разума, веры или сознания против слепого повиновения, единственного основания всякой власти; значит, по сути это политический бунт. Долой епископов, долой королей. Католики, как утверждает де Местр в трактате «Размышления о протестантизме», никогда не поднимали восстаний против своих государей; так поступали только протестанты. Это удивительное утверждение обосновывается посредством чудовищного софизма: со времен императора Константина государство и Церковь едины; случаи неповиновения католиков (к примеру, умерщвление правителей-отступников религиозными фанатиками) были возмущением не против истинной власти, но против ее узурпаторов. Испанская инквизиция ограждала от посягательств не только чистоту веры, но и минимальный уровень безопасности и устойчивости, вне которого общество не может существовать. На его взгляд, образ инквизиции подвергся искажению[155]. Часто она бывала орудием мягкого, снисходительного перевоспитания, которое привело души многих грешников к покаянию и вернуло их в лоно истинной веры. Она помогла спасти Испанию от разрушительных религиозных распрей, сотрясавших Францию, Германию, Англию, и таким образом уберегла национальное единство этого благочестивого королевства. (Здесь де Местр зашел слишком далеко. Его апология, которая понравилась бы королю Филиппу П, вызвала мало откликов даже среди наиболее рьяных поборников церковной политики.) Успешное ниспровержение власти клириков — вот причина кровопролития и хаоса, обрушившихся на Германию в течение Тридцатилетней войны. Страна, восставшая против церкви, не может достигнуть величия. Значит, отмена Нантского эдикта оправдана уже одними патриотическими соображениями. «В замечательные эпохи всему без исключения сообщается величественность. Министры и судьи Людовика XIV — люди столь же выдающиеся в своей сфере, сколь его военачальники, художники, садовники — на своих поприщах. ‹…› то, что наш жалкий век зовет суеверием, фанатизмом, нетерпимостью и так далее, было неотъемлемой составляющей величия Франции»[156]. Кальвинизм был опаснейшим врагом этого величия; во Франции он долго разрушался, когда же он рухнул, никто этого и не заметил. Что же до тех, кто говорит, что по этой причине Франция утратила одаренных художников, покинувших отчизну и обогативших своими творениями чужие страны, до тех, кем движут столь торгашеские соображения, — пусть «ищут ответа где угодно, но только не в моих книгах»[157].
Янсенисты немногим лучше кальвинистов: Людовик XIV сровнял Пор-Рояль с землей, распахал ее и «произрастил добрую пшеницу там, где раньше росли только дурные книги»[158]. Что же касается Паскаля, то де Местр убежден, что тот ничем Пор-Роялю не обязан. Ересь надо вырывать с корнем; полумеры всегда приносят беду тем, кто недостаточно последователен. «Людовик XIV, растоптавший протестантизм, умер в своей постели, в сиянии славы, дожив до преклонных лет. Людовик XVI, обходившийся с ним мягко, умер на эшафоте»[159]. «Ни одно установление, опирающееся только на человеческие силы, не может быть прочным или долговечным. Объединившись, история и разум убеждают нас, что корни всех великих установлений следует искать не в этом мире. ‹…› В особенности верховная власть сильна, целостна и устойчива лишь в той мере, в какой она освящена (divinise) религией»[160].
Де Местр сводил вместе все неугодные ему ценности. Он отмечал, что наибольшее число погрешностей дает атеистический подход. Людям должно стать ясно: именно то, что безбожники ненавидят, то, что приводит их в исступление, то, на что они всегда и везде яростно нападают, — и есть истина. Анатоль Франс применил к де Местру его же слова, назвав его «протиником целого века»[161]. Такая деятельность не реакционна, но контрреволюционна, не пассивна, но активна; это не тщетная попытка воспроизвести прошлое, но колоссальное и успешное усилие поработить будущее образу минувшего, который отнюдь не создан воображением, но основывается на зловеще реалистическом истолковании современных событий.
Де Местр не был романтическим пессимистом в духе Шатобриана, Байрона, Бюхнера или Леопарди. Миропорядок не казался ему хаотическим или несправедливым, но представал в свете веры таким, каким ему следовало быть. Тем, кто в любом возрасте спрашивает, почему праведник скитается без куска хлеба, а грешник живет в довольстве, он отвечал, что в основе подобных вопросов лежит ребяческое непонимание божественных законов. «Ничто не происходит случайно ‹…› на все есть свои правила»[162]. Если закон существует, он не терпит исключений; если добродетельный человек испытывает невзгоды, мы не можем ожидать, чтобы Бог в пользу отдельной личности изменил законы, без коих повсюду наступит хаос. Больной подагрой несчастен, что, однако, не позволяет ему усомниться в законах природы; напротив, сама медицина, к которой он взывает, предполагает их наличие. Если праведник страждет в беде, это тоже не дает нам повода для скептического отношения к благим законам миропорядка. Существование законов не в силах предотвратить личные невзгоды; ни один закон не может обнять все частные случаи, ибо тогда он перестанет быть законом. В мире присутствует определенная совокупная масса греха, который искупается пропорциональным общим возрастанием страдания; таково божественное установление. Но нигде не сказано, что человеческая праведность или рациональная справедливость должны управлять действиями Провидения, что каждый отдельный грешник непременно должен быть наказан, во всяком случае, здесь, в этом мире. С тех пор как зло вошло в мир, где-то будет литься кровь; кровь безвинных, подобно крови грешных, — это способ, которым Провидение искупает грехи падшего рода человеческого. Если это потребуется для искупления других, невинный погибнет, и будет восстановлено равновесие. Такова теодицея де Местра, объяснение якобинского террора, оправдание всей суммы неизбежного мирового зла.
На этой теореме (любая ответственность — не личная, а коллективная) зиждется и его прославленная теория таинств. Все мы составляем части друг друга во грехе и страдании; значит, грехи отцов непременно ложатся на детей, пусть даже лично те ни в чем не провинились, ибо на кого же еще их можно возложить? Злые деяния нельзя оставить без возмездия даже в этом мире, тем более что неравновесие в физическом мире может существовать сколь угодно долго. Де Местр, как с грустью замечал Ламенне в более поздние годы, «видел в истории лишь две составляющие: с одной стороны, преступление, с другой — наказание. Он был одарен щедрой и благородной душой, а все его книги словно бы написаны на эшафоте»[163].
VII
Протестантизм расколол единство человечества, породив хаос, нищету и социальную разобщенность. Мыслители XVIII столетия в качестве лекарства от этого недомогания предлагали упорядочить жизнь людей согласно некоему рациональному плану. Но планы есть планы, и именно поэтому, а также из-за своей рациональности они терпят крах. Война — одно из наиболее явно планируемых человеческих занятий. Но ни один человек, видевший сражение собственными глазами, не станет утверждать, что ход событий определяется приказами военачальников. Ни командующий, ни его подчиненные не в силах сказать, что происходит; пальба, сумятица, вопли раненых и умирающих, изувеченные тела («пять или шесть противоположных чувств и упоений»[164]), ярость и беспорядок слишком велики. Лишь тот приписывает победы мудрым распоряжениям генералов, кто не понимает сил, из которых складывается жизнь. Кто одерживает победу? Те, кто исполнен неизъяснимого чувства собственного превосходства; ни войско, ни военачальники не могут точно объяснить, какой должна быть пропорция между их потерями и потерями противника. «Именно воображение и проигрывает битвы»[165]. Победа — явление скорее нравственное и психологическое, нежели физическое; она возникает из таинственного акта веры, а не из успешного исполнения тщательно разработанных планов или слабых людских желаний.
Суждения де Местра о том, как ведутся и выигрываются сражения (фрагмент знаменитой Седьмой беседы «Санкт-петербургских вечеров»), — вероятно, лучшее и самое яркое изложение вновь и вновь затрагиваемой им темы неизбежного хаоса, царящего на поле битвы, и несущественности мнимых распоряжений командования. Впоследствии они сыграли немаловажную роль в «Пармской обители» Стендаля (Фабрицио в битве при Ватерлоо) и, несомненно, оказали решающее влияние на философию человеческих действий, развиваемую в «Войне и мире» Львом Толстым (известно, что он читал де Местра). Кроме того, это и философия жизни вообще — и у де Местра, и у Толстого. Жизнь — это не зороастрийский поединок света и тьмы, как полагают демократы и рационалисты, для которых церковь и есть тьма (или, напротив, благочестивые сторонники авторитаризма, считающие, что тьма воплощена в злых силах атеизма), но слепая сумятица непрерывной битвы, где люди, влекомые таинственным законом, который предписан Господом мирозданию, сражаются потому, что не могут поступить иначе. Итог зависит не от рассудка, не от силы и даже не от добродетели, но от роли, предписанной отдельному человеку или народу в непостижимой драме исторического бытия; из своей роли в ней мы можем постичь в лучшем случае лишь крошечную часть. Желание уразуметь целое — напрасное безумие. Еще глупее воображать, что мы можем что-то изменить, добившись высшей мудрости — веровать и исполнять то, что Господь повелевает устами своих земных наместников.
«Да не заблудимся в системах!»[166] Де Местр с особенной враждебностью относится к тем системам, которые хотя бы внешне кажутся основанными на любом методе, обнаруживающем связь с естественными науками. По мнению де Местра, сам язык науки деградировал; он с немалой проницательностью замечает, что упадок языка — вернейший признак вырождения нации[167]. Интерес де Местра к языку и его мысли на этот счет замечательно ясны и глубоки; даже там, где он преувеличивает, они предвосхищают идеи следующего столетия. Он исходит из положения о том, что язык, подобно всем древним и прочным установлениям (королевской власти, браку, священству), — тайна, чье происхождение божественно. Некоторые люди считают язык специальным изобретением человека, неким техническим усовершенствованием, созданным для того, чтобы облегчить общение. По мнению сторонников этой теории, мысли могут быть мыслями и без символов: сначала мы мыслим, а затем подбираем для выражения мыслей подходящие символы, как подбирают перчатки по размеру руки. И де Местр, и в особенности Бональд резко отрицают эту точку зрения, разделяемую обывателями и некритически поддерживаемую многими философами, в том числе и нашими современниками. Мыслить — значит использовать символы, прибегать к помощи разработанного словаря. Мысли — это слова, пусть и непроизнесенные; «мысль и язык, — пишет де Местр, — великолепные синонимы»[168]. Истоки происхождения слов (и наиболее употребительных символов) суть истоки происхождения мысли. Человек не мог вдруг изобрести первоязык, ибо, для того чтобы изобретать, он должен мыслить, а мышление предполагает пользование символами, то есть языком. Применение слов вообще невозможно изобрести искусственно, как и «применение» мыслей, эквивалентных словам. А все неизобретенное де Местр полагает таинственным, божественным.
Можно вполне обоснованно отрицать идею о безусловно божественном происхождении всего, кроме эмпирически доказанных фактов, и в то же время соглашаться с глубоко оригинальным отождествлением мысли и языка как явлений природы и предмета естественных наук — биологии и социальной психологии. Зародыши этой основополагающей идеи содержатся, скорее всего, уже в знаменитом сравнении из диалога Платона «Теэтет», которое приводит де Местр (здесь язык назван «рассуждением, которое душа ведет сама с собой»[169]). Но если и так, то семена эти падают на каменистую почву. Гоббс, кажется, переоткрыл для себя эту истину; она же практически стоит в центре системы Джамбаттисты Вико, с которой, как принято считать, де Местр был знаком[170].
Де Местр немало забавляется по поводу выдвинутых XVIII столетием теорий происхождения языка. Он рассказывает, что Руссо ломал голову над тем, как люди впервые стали пользоваться словами, но всезнающему Кондильяку известен ответ и на этот вопрос, и на множество других: ясно, что язык породило разделение труда. Итак, одно поколение говорит БА, другое прибавляет: БЭ; ассирийцы придумали именительный падеж, а мидийцы — родительный[171]. Такая ирония вполне понятна, если де Местр имеет дело с воинствующей нехваткой исторического чувства у самых фанатичных просветителей; прочая часть его теории не столь оправданна. С тех пор, как слова стали хранилищами мыслей, чувств, представлений наших предков о себе и о внешнем мире, в них воплотилась также сознательная и бессознательная мудрость, некогда полученная от Бога и отлившаяся в опыт. Следовательно, древние традиционные тексты (в особенности те, которые содержатся в священных книгах, выражающих исконную мудрость народа, изменившуюся и обогатившуюся под влиянием разных событий) суть ценнейшие источники, откуда с помощью специальных познаний, рвения и терпения можно извлечь немало сокровищ. Средневековая философия была осмеяна за то, что она выискивала скрытые смыслы и прибегала к запутанным приемам толкования сакральных текстов; но, с точки зрения де Местра, вместе с Вико и немецкими романтиками считавшего, что язык не изобретен человеком, она предстает как месторождение сокровенного знания, как своего рода психоаналитическое исследование коллективного бессознательного всех людей или хотя бы христиан. Лишь во тьме следует искать несметные скрытые богатства. Уточнение и прояснение смысла, взыскуемое философами-энциклопедистами, для де Местра равносильно тому, что вся глубина и плодоносность слов улетучивается, их достоинства уничтожаются и значение исчезает. Разумеется, можно таким же образом взглянуть на астрологию и алхимию, но это не тревожит де Местра; его не занимают методы естественных наук, он поглощен визионерскими, мистическими, в духе Сведенборга, объяснениями явлений природы. Не менее охотно, чем его современник Уильям Блейк, он согласился бы с тем, что драгоценнейшие сведения должно отыскивать скорее в оккультных науках, нежели в современных учебниках химии или физики. Более того, политическое значение священных книг трудно переоценить[172]. Поскольку мысль и есть язык, хранящий древнейшие пласты исторической памяти народа или церкви, реформа языкового употребления равна попытке подорвать мощь и влияние всего наиболее священного, мудрого и исполненного власти. Разумеется, Кондорсе хотел бы иметь некий всеобщий язык, который помог бы общаться просвещенным людям всех национальностей: такой язык можно было бы «очистить» от накопившихся за многие века суеверий и предрассудков, после чего исчез бы источник иллюзий, ныне, по мнению Кондорсе, выдающих себя за богословие и метафизику. Однако, вопрошает де Местр, каковы же эти предрассудки и суеверия? Его ответ нетрудно угадать: это и есть убеждения, исток которых овеян тайной, а могущество нельзя объяснить рационально. Это те древние верования и взгляды, которые, выдержав испытание временем и опытом, хранят полновесные истины прошедших веков; отбросив их в сторону, мы бы остались без руля в бурной стихии, где каждый неверный шаг означает смерть. Прекраснейшим (то есть наименее современным и наиболее богатым) из всех языков остается язык церкви и великого Римского государства — лучшей разновидности правления из всех, известных человеку. Язык римлян и Средневековья должен получить широкое распространение именно по тем причинам, которые заставили Бентама отвергать и обличать его; именно потому, что он неясен, едва ли пригоден для использования в науке, потому, что сами слова несут в себе неосязаемую власть незапамятных времен, мрак и боль человеческой истории, которыми только и можно купить спасение. Латынь сама по себе способна обеспечить благонадежность. Особенно важна латинская лексика с ее специфическими ограничениями и сопротивлением современности: в своей антиутопии «1984» Оруэлл просто повторил ключевое положение о том, что контроль над языком важен для управления жизнью, хотя правители в романе (их цели все же отличаются от задач де Местра) опираются не на традиционный, а на искусственный, специально сконструированный язык, на который де Местр и нападал.
В полном согласии с вышесказанным де Местр считает, что иезуиты — единственные воспитатели, которым можно довериться, ибо они пользуются латынью как средством распространения правды, воплощенной в средневековой нравственности, и обрушивается на Сперанского и тех советников, в кругу которых император Александр I размышлял о некоем Новом Пути для Российской империи. Де Местр последовательно развивает свою мысль; для него иррациональность ценна едва ли не сама по себе, коль скоро он становится на сторону всего, что остается непроницаемым для разрушительного воздействия разума. Рациональная вера гораздо более уязвима. Хорошо подкованный диалектик без труда обнаружит пустоты в любой постройке, возведенной на столь шатких основаниях. Созданное разумом можно разумом и разрушить. Поэтому апелляция де Местра к Фоме Аквинскому весьма неубедительна. Оставаясь учеником иезуитов, он с трудом мог поступить иначе, но видел, что истина лежит за пределами томистского кругозора, а именно — в том, что ни при каких условиях нельзя опровергнуть, там, где доводы разума в принципе неприложимы и бездейственны. Здесь вновь обнаруживается параллель с Толстым, чье ироническое отношение к вере в ученых, к либеральной убежденности в силе прогресса и особенно к уповающим (подобно Сперанскому, Наполеону и немецким военным теоретикам, а позже — русской интеллигенции в целом) на силу человеческой воли и человеческого разума, во многом близко воззрениям сардинского посла в Петербурге.
Чтобы сокрушить теорию общественного договора как основы общества, столь же, с его точки зрения, нелепую, де Местр прибегает к очень похожим аргументам. Он справедливо настаивает на том, что договоры предполагают обещания и средства их исполнения; однако обещание — это действие, которое можно понять и осознать лишь как звено в цепи уже существующих сознательных общественных условий. Механика исполнения подразумевает наличие развитой социальной структуры; заключение договора означало бы не только то, что общество, живущее по законам и условиям, уже существует, но и то, что оно добилось весьма высокого уровня порядка и сложности. Для оторванных от человечества и находящихся в «естественном состоянии» дикарей общественные конвенции, в том числе обещания, договоры, нерушимые законы, не значат ровно ничего. Следовательно, гипотеза о том, что общества созданы при помощи договоров, а не иным, менее прямым путем, — не только историческая, но и логическая нелепость. Впрочем, одним протестантам и могло прийти в голову, будто общество — это искусственное установление, вроде банка или коммерческого предприятия[173].
Де Местр не однажды со страстью утверждал (и в этих декларациях отчетливо прослеживается влияние Берка), что общество — не намеренно сконструированное, искусственное образование, основанное на высчитывании личных выгод или счастья. Оно — по крайней мере, в той же степени — вырастает из естественного, всемогущего, исконно присущего человеку стремления к жертве, из мгновенного порыва взойти на священный алтарь без всякой надежды на возвращение. Повинуясь приказам, войска идут на смерть; дико было бы думать, что ими движет мысль о личной выгоде. Для армии дисциплина имеет то же (только возведенное в более высокую степень) значение, что и всякое повиновение — для организованной власти: это традиционная, таинственная сила; противиться ей невозможно, жаловаться на нее некуда.
Де Местр уведомляет читателей о том, что эту истину стали затемнять и отрицать лишь начиная с эпохи Возрождения. Лютер и Кальвин, Бэкон и Гоббс, Локк и Гроций, на которых, в свою очередь, оказали влияние ереси Уиклифа и Гуса, распространили величайшее заблуждение, согласно которому сила и власть зависят от чего-то столь жалкого и произвольного, как искусственный договор. Великая французская революция обнажила ложность их близорукого оптимизма; так наказал Господь тех, кто забавлялся подобными теориями и идеями. Общество создается не ради взаимных выгод; это исправительный дом, едва ли не каторжное поселение. Если обществом на самом деле правит не разум, то, значит, демократия (несомненно, более разумная, чем деспотизм) сеет нищету повсюду, кроме тех мест, где, как у дивных англичан, ее не записывают, а чувствуют, и она действительно становится источником власти, то есть может исполнить те самые соглашения, которые не под силу мыслителям, пренебрегающим фактами и логическими доводами.
Сила, а не разум — вот что имеет значение. Где бы ни возникло пустое пространство, сила рано или поздно проникнет туда и претворит революционный хаос в новый порядок. Якобинцы и Наполеон, вероятно, преступники и тираны, но они умеют обращаться с силой, они представляют власть, требуют повиновения и, самое главное, карают, ограничивая стремление слабых и грешных людей прочь от центра. Следовательно, они в тысячу крат предпочтительнее скептиков-интеллектуалов, ниспровергателей, переносчиков идей, которые обращают в пыль структуру общества и расстраивают все жизненные процессы, пока в ответ на стенания истории не возникнет некая сила, пусть даже стоящая вне закона, и не сметет их со своего пути.
Всякая власть от Бога. Де Местр дает вполне буквальное толкование знаменитому тексту апостола Павла. Всякая сила требует уважения. Непозволительно считаться с какими бы то ни было проявлениями слабости, даже если они обнаруживаются в действиях помазанника Божия, государя, управляющего «прекраснейшей страной после Царства Небесного», — Людовика XVI. Якобинцы были негодяями и убийцами, но революционный террор восстановил власть, защитил и распространил границы Франции и уже поэтому занимает на лестнице вечных ценностей гораздо более высокую ступень, нежели либералы и идеалисты Жиронды, позволившие власти выскользнуть из их слабых рук. Конечно, легитимная власть сама по себе способна противостоять случаю и превратностям. Простое завоевание, не опирающееся на авторитет вечных законов истинной церкви, равносильно разбою: «… так же непозволительно присваивать себе города или провинции, как чужие часы или табакерки»[174]. Это не менее справедливо по отношению к тем, кто устанавливал границы Европы в 1815 г., чем к Фридриху Великому или Наполеону[175]. Де Местр вновь и вновь обрушивается с проклятиями на голый милитаризм: «Каждый раз, когда в военном искусстве что-либо усовершенствуется, это настоящая беда»[176]. Военное правительство (даже в родной Савойе) он называет «палкократией»[177] и считает его «проклятием нашего века»[178]. «Я всегда питал, питаю ныне и буду питать впредь отвращение к военному правлению»[179]. Де Местру претит его произвольность, а также то, что оно, ослабляя власть королей и древних установлений, ведет к революциям и к ниспровержению традиционных ценностей христианства[180]. Однако иногда хаос ужасает: любое, пусть наихудшее, правительство все же предпочтительнее анархии; и впрямь, распаду общества может препятствовать только жесточайший деспотизм. Здесь де Местр оказывается заодно с Макиавелли, Гоббсом и всеми защитниками власти как таковой.
Революция, худшее из зол, сама по себе — деяние Божие, ниспосылаемое для того, чтобы покарать порок и через страдание возродить падшую человеческую природу (здесь трудно не вспомнить, как истолковали поражение Франции маршал Петен и его сторонники в 1940 г.); она столь же таинственна, сколь и другие великие исторические силы, и потому «не люди управляют революцией, но революция пользуется ими»[181]. И в самом деле, она может прибегать к помощи гнуснейших орудий: «лишь адский гений Робеспьера мог сотворить это чудо (имеется в виду победа, которую французы одержали над силами коалиции) ‹…› Сие чудовище силы, упившееся кровью и успехом, сие ужасающее явление ‹…› было одновременно и страшным наказанием, ниспосланным французам, и единственным средством спасения Франции»[182]. Он воодушевил соотечественников на отчаянный порыв, он закалил их сердца, он привел их в исступление видом проливаемой на эшафотах крови, и они стали драться подобно сумасшедшим и уничтожали всех подряд. Однако, не будь революции (а люди вроде Робеспьера обманываются настолько, что полагают, будто они могут ее совершить, хотя совершенно ясно, что не они сделали революцию, но она породила их), он так и остался бы посредственностью, которой и был до того.