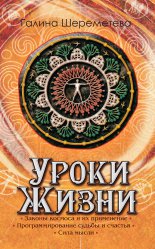Философия свободы. Европа Берлин Исайя

Люди, захватившие власть, не ведают, как им это удалось; их влияние — еще большая тайна для них самих, нежели для окружающих: обстоятельства, которые даже великий человек не может ни предвидеть, ни направлять, уже сделали все за него, без его помощи; это и есть «таинственная сила, играющая человеческими намерениями»[183], Провидение, гегелевская уловка разума. Но человек тщеславен; он воображает, будто его личная воля может опрокинуть нерушимые законы, согласно которым Бог правит миром. Де Местр твердит, что у истоков веры в демократию стоит заблуждение жалких, обмороченных, исполненных самомнения существ. Обманчивое чувство собственной мудрости и силы, слепое нежелание признать превосходство других людей или установлений ведет к смехотворным декларациям о правах человека и трескучей болтовне о свободе. «Всякий, кто заявляет, что человек рожден свободным, изрекает слова, лишенные смысла»[184]. Человек таков, каков он есть и каким был; он представляет собой то, что делает и сделал; говоря, что человек — не то, чем он мог бы стать, мы бросаем вызов здравому смыслу. Лучше прислушаться к истории («экспериментальной политике»), к единственному заслуживающему доверия наставнику в этом предмете: «Она никогда не скажет нам ничего, противоречащего истине»[185]. Один удачный эксперимент перечеркивает тысячи томов, наполненных умозрительными спекуляциями[186].
Однако определения народной свободы и демократии исходят как раз из беспочвенных абстракций, не подтверждаемых ни эмпирическим опытом, ни откровением свыше. Если люди откажутся признавать власть там, где она существует законным образом (в церкви и сакрализованной (divinise) монархии), на них ляжет ярмо народной тирании, худшей из всех возможных. Те, кто разжигает мятежи во имя свободы, со временем обязательно становятся тиранами, отмечал Бональд, цитируя Боссюэ (на эту мысль полвека спустя откликнулся Достоевский); де Местр просто прибавляет, что неизбежным следствием веры в принципы, провозглашенные Руссо, становится такое положение, когда правители говорят народу: «"Ты думаешь, что не хочешь этого закона, но мы уверяем тебя, что ты этого хочешь. Если ты осмелишься отрицать это, м расстреляем тебя, и это будет наказанием за то, что ты не хотел того, чего на самом деле хотел", после чего они так и поступают»[187]. Несомненно, то, что справедливо называется «тоталитарной демократией», еще не облекалось в более точную формулу. Де Местр с сардонической усмешкой замечает: если многие ученые погибли на гильотине, то винить им следует самих себя[188]. Идеи, во имя которых их предали смерти, были их собственными идеями и, как всякий бунт против власти, обернулись против своих создателей.
Ожесточенная ненависть де Местра к свободному образу мыслей и его презрение к интеллектуалам — это не просто консерватизм, ортодоксальность и лояльность к церкви и государству, в лоне которых он вырос, но нечто более старое и более новое; нечто, вторящее фанатическим воплям инквизиции и звучащее как первая нота воинственного, антирационального фашизма наших времен.
VIII
Сильнейшие страницы сочинений де Местра посвящены России, где он провел пятнадцать плодотворнейших лет жизни[189]. Александр I иногда в конфиденциальном порядке обращался к его советам, и де Местр снабжал его наблюдениями и рекомендациями, применимыми явно не к одной лишь России, но ко всей Европе того времени. Он прославился своими политическими эпиграммами — лишнее доказательство того, что у Александра и его советников был прекрасный вкус, который они сохранили и после того, как либеральный период этого царствования закончился. Такие максимы, как «Человек вообще, будучи предоставлен самому себе, слишком порочен, чтобы быть свободным»[190] или «Повсюду меньшинство ведет за собой большинство, поскольку без более или менее сильной аристократии общественная власть для этой цели не годится»[191], должны были чрезвычайно нравиться в аристократических салонах Петербурга, и о де Местре одобрительно упоминают мемуаристы[192].
Высказывания де Местра о России чрезвычайно остры. Самую значительную угрозу таит политика поощрения либеральных настроений и наук, которую столь роковым образом проводят просвещенные советники Александра. В письме к князю А. Н. Голицыну, осуществлявшему светское руководство православной церковью, де Местр называет три основных источника опасности для стабильности Российского государства: дух скептического вопрошания, подпитываемый изучением естественных наук; протестантизм, полагающий, что все люди рождаются свободными и равными, а власть опирается на народ, и называющий сопротивление власти естественным правом; и, наконец, требование немедленного освобождения крепостных крестьян. Он утверждает, что ни один монарх не в состоянии управлять несколькими миллионами людей без помощи религии или рабства[193]. В дохристианскую эпоху общество покоилось на рабстве, затем — на духовной власти (клерикальное правление), и потому рабство могли упразднить. Но в России с ее византийскими истоками, татарским игом и отпадением от Ватикана церковь недостаточно сильна; рабство в России существует, ибо оно необходимо, без него император не смог бы управлять страной[194] Кальвинизм разрушил бы основания государства; естественные науки пока не успели раздуть в России (впрочем, довольно горючей) пламя испепеляющей гордыни, которое уже уничтожило часть мира и пожрет его целиком, если ничто ему не воспрепятствует[195]. Педагогу должно приобщать воспитуемых к мысли о том, что Бог создал человека для общества, которое не может существовать без правительства, в свою очередь требующего от подданных послушания, верности, исполнения своего долга. Де Местр облек свои советы в ряд специальных рекомендаций: исправлять недостатки, при этом как можно дольше откладывая освобождение крестьян; быть осторожнее при пожаловании дворянства выходцам из низших сословий (мысль в духе известной карамзинской «Записки о древней и новой России», исполненной ненависти к Сперанскому и его реформаторскому пылу); поощрять богатых дворян-землевладельцев и личные заслуги, но не торговлю; ограничивать науку; распространять идеи римского и греческого происхождения; защищать католическую церковь и там, где это возможно, пользоваться услугами педагогов-иезуитов; избегать назначения иностранцев, которые весьма ненадежны, к ответственным должностям; если и набирать учителей за границей, то, по крайней мере, следить за тем, чтобы они были католиками. Все это с успехом осуществляли консерваторы-антизападники. Граф С. С. Уваров, попечитель Петербургского учебного округа, показал себя способным учеником и в 1811 г. запретил преподавание философии, политической экономии, эстетики и основ коммерции в подведомственных ему школах, а позднее, на посту министра просвещения, провозгласил знаменитую триаду «Православие, самодержавие, народность», в которой отразились те же самые принципы, приложенные к университетам и системе образования в целом. Программе де Местра в России строго следовали в течение полувека: от середины царствования Александра I до реформ Александра П, проводившихся в 60-х гг. Знаменитый обер-прокурор Святейшего синода с глубокой ностальгией оглядывался на нее в 1880-е и 1890-е гг.
Если Россия дарует свободу всем живущим в ней, она погибла. Вот что пишет де Местр: «Ежели бы желание русских можно было запереть в крепость, оно разрушило бы ее до основания. Нет никого, кто умел бы желать так страстно, как русские ‹…› Приглядитесь к русскому купцу, даже из низшего сословия, и вы увидите, как он умен и сметлив, как печется он о своей выгоде; посмотрите, как он осуществляет рискованнейшие предприятия, в особенности на поле битвы, и вы поймете, сколь он может быть отважен. Если нам придет в голову пожаловать свободу тридцати шести миллионам таких людей и мы сделаем это — никому не дано настоять на этом в достаточной мере, — в мгновение ока вспыхнет огромный пожар, который обратит в пепел всю Россию»[196]. И вновь о том же:
«Стоит этим рабам получить свободу, как они очутятся в окружении наставников, более чем подозрительных, и священников, не имеющих ни силы, ни влияния. Не будучи готовыми к сему, они несомненно и внезапно перейдут от суеверий к атеизму, от пассивного повиновения к неудержимой деятельности. Свобода окажет на их страсти такое же воздействие, какое крепкое вино оказывает на человека, совершенно к нему не привыкшего. Само зрелище этой вольности развратит даже тех, кто не принимает в нем участия ‹…› К тому прибавьте безразличие, неспособность или чванство отдельных дворян, преступные действия заграницы, хитрые происки ненавистной, никогда не дремлющей секты и так далее, и тому подобное, а также нескольких Пугачевых с университетским образованием, и государство, по всей вероятности, буквальным образом расколется надвое, подобно деревянной перекладине, которая чересчур длинна и прогибается посередине»[197].
Снова:
«… посредством какого необъяснимого заблуждения великая нация достигает точки, где ей начинает казаться, что она может действовать вопреки законам мироздания. Русские всего хотят добиться в один день. Среднего пути нет. Человеку следует медленно ползти к установленным целям, никому не дано туда долететь! Русские усвоили две в равной степени несчастные идеи. Первая — ставить литературу и науку во главу угла, и вторая — сплавлять в единое целое преподавание всех наук»[198].
И опять в том же духе:
«Что произойдет с Россией, если современные учения проникнут в народ и временной власти будет не на кого опереться, кроме себя самой? На заре великой катастрофы Вольтер изрек: «Все это сделали книги». Повторим же, пока мы находимся на лоне счастливой России, еще стоящей на ногах: «Все это сделали книги»; будем же опасаться книг! Величайшим политическим шагом в этой стране стало бы замедление торжества науки и использование власти церкви как сильного союзника государя — до тех пор, пока наука не сможет быть без всякой опасности допущена в общество»[199].
И вновь:
«Ежели русские, несомненно склонные делать все для забавы (не говорю — делать забаву из всего), станут играть и с этою змеей, они могут быть укушены больнее, чем кто бы то ни было»[200].
Уповать можно только на сохранение привилегий церкви и дворянства и на удерживание купцов и представителей низших сословий на их местах. Прежде всего нельзя потворствовать «распространению наук среди низших классов; должно препятствовать, не показывая, впрочем, этого, любому предприятию такого рода, к которому могут примкнуть невежественные или извращенные фанатики»[201]. Кроме того, следует «установить строжайшее наблюдение за эмигрантами-европейцами, и в особенности за немцами и протестантами, прибывающими в сию страну для наставления юношества во всех видах наук. Можно быть совершенно уверенным в том, что из каждой сотни иностранцев подобного сорта, оказывающихся в России, по меньшей мере девяносто девять представляют собой чрезвычайно нежелательное приобретение для государства и для тех, кто обладает прочной собственностью, семьей, нравственностью и репутацией».
Де Местр, судя по всему, был едва ли не первым западным писателем, открыто защищавшим обдуманное сопротивление распространению свободных искусств и наук, реальное подавление основополагающих культурных ценностей, которые влияли на западную философию и образ жизни от Возрождения до наших дней. Но именно ХХ столетию было суждено увидеть пышный расцвет и самое жестокое приложение этой кошмарной доктрины. Вероятно, она — самый характерный и мрачный духовный феномен нашего времени, и история ее еще далека от завершения.
IX
По своему отчетливо реалистическому взгляду на современную действительность де Местр сравним лишь с Токвилем. Мы уже видели, сколь пророческим оказался проделанный им анализ русской жизни. Сходным образом в то время, когда его приятели-легитимисты воспринимали Французскую революцию как проходной этап, итоги которого нетрудно отменить, как временное помрачение человеческого духа, после которого вещи можно вновь заставить идти своим чередом, де Местр провозглашал, что восстановить дореволюционный порядок так же легко, как разлить по бутылкам всю воду Женевского озера. Более всего Францию ослабила роялистская контрреволюция при содействии иностранных держав, что едва не привело к распаду этого прекрасного королевства. Спасла Францию доблестная революционная армия.
Вслед за одним из своих духовных наставников, савойским епископом Тиоллазом, де Местр предсказывал реставрацию Бурбонов, но прибавлял, что эта династия не сможет существовать долго, ибо всякая власть держится верой, а они очевиднейшим образом растеряли изначальное доверие к себе и своему предназначению. Как бы то ни было, необходимо провести ряд реформ. Английский король Карл II, к счастью для своей страны, не был Карлом I. Императоры Александр и Наполеон, столь непохожие друг на друга, буквально завораживали де Местра; едва ли от него можно было ожидать преклонения перед савойским домом, которому он служил верой и правдой, и он ясно — порой даже слишком ясно — давал понять, что предан не конкретным лицам, но королевской власти как таковой. Он испытывал немало мрачного удовольствия, сообщая провинциальному и пугливому сардинскому двору страшные истины о развитии событий в Европе. Его депеши писаны изящным дипломатическим слогом, но даже этот условный язык не полностью скрывает то смешанное чувство лояльности и презрения, которое де Местр испытывал к своим адресатам.
Политическая трезвость и обдуманная резкость выражений на протяжении всей жизни делали его опасным экстремистом, подозрительным для Кальяри и Турина своего рода роялистом-якобинцем. Он, несомненно, был самой крупной рыбой, которая когда-либо ловилась в сети этого игрушечного, нервного, напыщенного, бесконечно трусливого маленького двора. Человек с общепризнанным талантом, он имел широкий круг почитателей и был, по всей вероятности, знаменитейшим савойцем своего времени. Приходилось пользоваться его услугами, но лучше было держать его на расстоянии, в Петербурге, где его вызывающие тревогу наблюдения явно пленяли загадочного Александра I.
В Петербурге прошли лучшие годы жизни де Местра, и портреты, оставленные нам его биографами, во многом основаны на тогдашних впечатлениях его друзей и знакомых. Из них складывается образ самоотверженного, нежно привязанного к своим детям отца, преданного, обаятельного, чувствительного друга; и переписка его в самом деле высвечивает эти черты. Он сочинял полные заботливости, иронии и сплетен письма к русским дворянкам, которых обращал в свою веру — и, на взгляд императора, это получалось у него даже слишком удачно[202].
Все свидетельства, оставленные известными русскими друзьями де Местра о мягкости его характера, о его убийственной иронии и высоком мужестве, не оставлявшем его ни в изгнании, ни в сравнительной бедности, лишь подтверждают эту истину. Его нравственный и политический мир являет полностью противоположную картину: он полон греха, жестокости и страдания; а устойчивостью своей обязан только свирепому принуждению, осуществляемому избранными орудиями силы, которая сосредотачивает в своих руках абсолютную, сокрушительную власть и ведет непрерывную войну с любыми проявлениями свободомыслия, стремления жить собственной жизнью и обрести свободу или счастье на любом из мирских путей. Мир этот куда более реалистичен и жесток, чем мир романтиков. Должно было пройти еще полстолетия, прежде чем эта безошибочно узнаваемая нота зазвучала в голосах Ницше, Дрюмона, Беллока, французских интегралистов из «Аксьон франсез» или, в еще более омерзительной форме, в речах тех, кто ораторствовал от имени тоталитарных режимов нашего времени; и все же сам де Местр ощущал себя последним оставшимся в живых защитником погибшей цивилизации. Он был со всех сторон окружен врагами и принужден был обороняться со всем возможным ожесточением. Даже его отношение к таким, на первый взгляд, умозрительным, предметам, как происхождение языка или развитие химии, окрашено сильнейшим полемическим жаром[203]. Когда человек решается отчаянно отстаивать свой мир и его ценности, ничего нельзя отбросить, оставить без внимания; любая брешь в стенах крепости может оказаться роковой, и каждую позицию необходимо отстаивать до последней капли крови.
X
Через пять лет после смерти де Местра лидеры сенсимонизма объявили, что задача будущего состоит в том, чтобы соединить его идеи с идеями Вольтера. На первый взгляд, это выглядит дико. Вольтер отстаивал личную свободу, де Местр — принуждение; Вольтер взывал к свету, де Местр — к тьме. Вольтер ненавидел Католическую церковь столь неистово, что не хотел признавать никаких ее достоинств. Де Местр любил даже ее пороки и считал Вольтера бесовским отродьем. Знаменитые страницы, посвященные Вольтеру в «Санкт-петербургских вечерах»[204], где ненависть де Местра достигает апогея; он описывает гримасы своего врага, его постоянную, отвратительную, злобную ухмылку как своего рода чудовищный оскал, отражающий состояние души, написаны с большой искренностью. И все же в замечании сенсимонистов есть любопытная и, как показало время, путающая правда — ее вообще немало в этом расплывчатом, но поразительно пророческом движении. Современные тоталитарные системы соединили — если не в риторической манере, то практическим способом — воззрения Вольтера и де Местра; по наследству к ним перешли прежде всего общие качества двух философов. Сколь бы полярными ни были Вольтер и де Местр, оба они принадлежали к непоколебимой традиции классической французской философии. Их идеи могли резко противоречить друг другу, но стиль мышления часто оказывался поразительно схожим (что и отметили впоследствии критики — как правило, впрочем, не определявшие, что это был за стиль и каково его влияние). Ни Вольтера, ни его недруга нельзя упрекнуть ни в малейшей мягкости, расплывчатости или снисходительности к себе как в области ума, так и в сфере чувств; не терпели они этого и в других. Они предпочитали резкий свет мерцающим огням и непримиримо противостояли всему туманному, смутному, излишне сентиментальному, отражающему сиюминутные впечатления — красноречию Руссо, Шатобриана, Гюго, Мишле, Бергсона, Пеги. Это писатели, безжалостно сокрушающие иллюзии, презрительные, сардонические, изначально бессердечные, а иногда — изначально циничные. По сравнению с их ледяной, идеально гладкой, ясной поверхностью проза Стендаля кажется романтической, а сочинения Флобера напоминают плохо осушенное болото. По складу ума (не в области идей) Маркс, Толстой, Сорель, Ленин — их истинные наследники. Склонность взирать на общественную арену настолько холодным взором, чтобы это вызвало внезапный шок, стремление срывать маски, выжимать воду, пользоваться беспощадным политическим и историческим анализом как обдуманной техникой нанесения болезненных ударов занимает существенное место в современных политических технологиях.
Если способность к бескомпромиссному развенчанию сентиментального и нечеткого мышления, которой был так щедро одарен Вольтер, соединить с присущим де Местру историзмом, с его политическим прагматизмом, с его столь же низкой, сколь и у Вольтера, оценкой человеческого ума и добродетели и с его верой в то, что существо жизни составляет неудержимая тяга к страданию, жертве и самоограничению; если к этому прибавить его твердую убежденность в том, что всякая власть держится на постоянном подавлении слабого, мятущегося большинства меньшинством посвященных властителей, противостоящих соблазну поэкспериментировать с человечеством, то мы постепенно приблизимся к мощной нигилистической грани всех тоталитарных режимов нашего времени. Вольтер помогает отбросить все либеральные заблуждения, а де Местр снабжает универсальным орудием, с помощью которого можно управлять холодным и пустым миром. Вольтер, правда, не ратовал ни за деспотизм, ни за ложь, а де Местр проповедовал необходимость и того и другого. «Принцип народовластия, — пишет он, вторя Платону и Макиавелли, Гоббсу и Монтескье, — столь опасен, что, даже будь он справедлив, его непременно следовало бы хранить в тайне»[205]. Отголосок этих слов — знаменитое, приписываемое Риваролю замечание о том, что равенство вещь превосходная, но зачем говорить об этом народу? В конце концов, сенсимонисты, возможно, были не столь уж парадоксальны, и в основе их глубокого почтения к де Местру, которое казалось несуразным либералам и социалистам, вдохновленным Сен-Симоном, лежало изначальное сродство. Знаменитый оруэлловский кошмар (как, впрочем, и современные политические системы, его навеявшие) напрямую связан со взглядами и де Местра, и Сен-Симона. В чем-то он восходит и к свойственному Вольтеру глубокому политическому цинизму, который приобрел столь значительное влияние именно благодаря этому несравненному писателю, и уже потом — благодаря трудам подлинно великих и оригинальных мыслителей, подобных Макиавелли и Гоббсу.
XI
Один выдающийся философ как-то заметил: чтобы верно понять основы учения того или иного самобытного мыслителя, необходимо в первую очередь уразуметь лежащее в сердцевине его философии особенное видение мира и уже затем следовать за логикой его доводов. Аргументы, при всей их убедительности и интеллектуальной весомости, все же, как правило, остаются лишь внешними оборонительными укреплениями, оружием, защищающим от реальных и возможных возражений уже появившихся и потенциальных противников и критиков. Они не проливают свет ни на психологический процесс, при помощи которого мыслитель пришел к своим выводам, ни даже на важные (не говоря уже о ключевых) средства построения и обоснования центральной концепции, которую должны усвоить те, кого стремится убедить философ, если они намерены понять и разделить выдвинутые им идеи.
Для обобщения это чересчур сильно; какими бы путями такие мыслители, как, например, Кант, Милль или Рассел, ни пришли к своим взглядам, они стараются убедить нас при помощи рациональных доводов, а Кант уж точно действует только этим способом. Они открыто дают понять, что если ошибочность их аргументации будет доказана, если их умозаключения будут опровергнуты резонами здравого смысла, то они готовы признать себя побежденными. Но это обобщение применимо ко многим мыслителям более метафизического склада — к Платону, Беркли, Гегелю, Марксу, не говоря уже о последовательных романтиках, поэтах, религиозных писателях, влияние которых простирается (трудно сказать — к сожалению или к счастью) далеко за пределы академических кругов. Они могут прибегать к помощи аргументов, и нередко так и поступают, но не аргументами — весомыми или поверхностными — определяется прочность их систем и отношение к ним. Их главная задача — выработать всеобъемлющую концепцию мира и места человека в нем; они стараются не столько убедить, сколько обратить в свою веру, изменить взгляды тех, кому адресованы их слова, — так, чтобы те увидели факты «в новом свете», «с новой точки зрения», осмыслили их в понятиях новой системы, где то, что раньше казалось случайным набором разрозненных элементов, предстало бы как стройное, пронизанное внутренними связями единство. Логические размышления могут отчасти расшатать существующие учения или опровергнуть конкретные теории, но они остаются лишь вспомогательным оружием, а не основным средством убеждения: сама новая система обволакивает уверовавших в нее эмоциональным, умственным или духовным обаянием.
О де Местре обычно говорили (в основном — его почитатели в прошлом веке), что он вооружался разумом, чтобы ниспровергнуть разум, и логикой — чтобы доказать несовершенство логики. Но это не так. Де Местр — мыслитель догматического склада, чьи предпосылки и основные принципы ничто не в силах поколебать; его несомненный талант и интеллектуальная мощь посвящены подгонке фактов под заранее сформулированные определения, а не развитию концепций, которые соответствовали бы новонайденным или по-новому рассмотренным фактам. Он действует подобно юристу, выступающему в суде: решение известно заранее, и он знает, что должен так или иначе к нему подойти, ибо уверен в его справедливости, что бы он еще ни узнал и с чем бы ни столкнулся. Задача состоит только в том, как убедить сомневающегося читателя отстраниться от неудобной или откровенно противоречащей действительности. Джеймс Стивен совершенно прав, говоря, что основной способ доказательства у де Местра — считать спорный вопрос решенным[206]. Он отправляется от неоспоримых положений и затем решительно проводит свои теории, не взирая на действительность. В самом деле, любую теорию можно блистательно доказать, если имеется достаточное количество гипотез ad hoc (вроде эпициклов Птолемеевой астрономии), объясняющих явные исключения; любое учение можно таким образом «спасти», хотя оно, разумеется, будет становиться все более бесполезным по мере того, как с каждой дополнительно вводимой гипотезой будет уменьшаться число объясняемых им случаев и расти число логических препятствий.
Свои опорные убеждения: человек рождается с некоторыми идеями, вложенными в него Богом; рациональные или эмпирические формулировки лишь прикрывают духовные истины, подчас искажая их; люди до всемирного потопа обладали некоей древней мудростью, от которой до нас дошли только несвязные обрывки; существует интуитивная способность к различению добра и зла, правды и лжи — убеждения эти и веру во все сокровенные и недоказуемые догматы католической религии де Местр никак серьезно не обосновывает. Ясно, что он не стал бы считаться ни с каким эмпирическим опытом, ни с чем, что здравый смысл или наука сочли бы очевидным и в принципе способным опровергнуть эти истины. Он уверен в том, что если два убеждения, утвержденные верой и властью, противоречат друг другу или каждое из них можно оспорить при помощи явно неопровержимых возражений, то и в одно, и в другое надо верить и в принципе они согласуются друг с другом, даже если нам по слабости ума и не дано этого понять: такая гипотеза не обсуждается, но попросту утверждается. Сходным образом и представление (ни в коей мере не совместимое с уважением к рациональному мышлению) о том, что разум, вступающий в конфликт с обычным здравым смыслом, нужно заклеймить, проклясть и изгнать прочь, поскольку апеллировать следует не к опыту, а к власти, — это абсолютная догма, используемая в качестве тарана.
Так, де Местр полагает, что всякое страдание — независимо от того, обрушивается ли оно на головы грешников или на ни в чем не повинных людей, — есть искупление греха, некогда кем-то совершенного. Почему же это так? Потому, что страдание должно иметь цель, и если его единственная цель — наказать, то, значит, где-то во вселенной существует сумма греха, достаточная для того, чтобы повлечь за собой соответствующую сумму страданий; иначе нельзя объяснить и оправдать существование зла, и мироздание лишится нравственного смысла. Но это невозможно; очевидно, что мир управляется нравственной целесообразностью[207].
Он смело отстаивает мысль о том, что ни одна конституция не возникла в результате зрелого размышления, что права человека или нации лучше не выражать в письменном виде, но если уж закреплять их на бумаге, то они должны быть транскрипцией неписаных, извечно существовавших прав, нащупываемых метафизически, ибо все, становящееся текстом, теряет силу. Какой же тогда смысл писать конституции? В последние годы жизни де Местра (и даже в то время, когда он работал над соответствующим сочинением) американская конституция функционировала энергично и успешно — впрочем, лишь потому, что была основана на неписаной английской конституции[208]. Но это неприложимо ни к Франции, ни к кодексу Наполеона, ни к новой испанской конституции: что ж, де Местр знает, что они рано или поздно обрушатся. Для этого ему не нужны никакие доводы. Он знает, как знал и Берк, что прочно, а что преходяще, чему суждено длиться во веки веков, а что окажется хрупким творением человеческих рук. «Установления ‹…› прочны и долговечны в той мере, в какой они почитаются божественными»[209]. Человек ничего не создает. Он может посадить дерево, но не в силах сделать его. Он может изменять, но не творить. Французская конституция 1795 г. — всего лишь «академическое упражнение»[210]; «конституция, предназначенная для всех народов сразу, не годится ни для одного»[211]. Она должна произрасти из частных обстоятельств и народного характера, в свое время и на своем месте. Люди, сражающиеся за абстрактные принципы, подобны «детям, убивающим друг друга ради того, чтобы выстроить огромный карточный дом»[212]. Республиканские установления, плод шатких человеческих договоренностей, «не имеют корней; они просто поставлены на землю, тогда как пришедшее раньше (монархическая власть и церковь) было в нее посажено»[213].
«… Нужно совершенно утратить рассудок, чтобы вообразить, будто академиям и университетам поручил Господь преподать нам, что Он есть и чем мы Ему обязаны. Прелатам, дворянам, высшим государственным чинам, — вот кому надлежит ‹…› учить народы тому, что такое добро и зло, что истинно и что ложно в мире ‹…› другие же рассуждать о подобных предметах не вправе. ‹…› А что касается того, кто говорит или пишет, имея в виду отнять у народа национальный догмат, то его следует повесить как домашнего вора»[214].
Откуда же взялись полномочия прелатов, дворян, крупных государственных чиновников? Они получают их от государя: в светском государстве — от короля, а в конечном счете — из источника всякой духовной власти, то есть от Папы. Свободу жалуют короли, народ не может сам наделить себя свободой; все права и свободы должен уступить народу государь. Основные права не могут быть дарованы: они существуют сами по себе, возникнув в непроглядной темноте минувшего по непостижимому произволению Бога[215]. Права самих государей бессрочны, ибо вечны. Высшая власть должна быть единой; будучи разделенной, она не имеет центра, и все вокруг утрачивает цельность. На земле государи и законодатели могут действовать только именем Господним, и они способны лишь собрать заново или сложить в ином порядке старые права, обязанности, свободы, привилегии, существовавшие от сотворения мира.
Все это кажется старой средневековой догмой, потому де Местр и был в этом убежден. Если ему встречаются очевидные исключения, он недолго раздумывает над ними и замечает: кто-то скажет, что британская конституция, по всей видимости, надежно покоится на принципе разделения властей (эмпирическое изучение современных систем правления не входит в круг его интересов, и на сей счет он просто повторяет знаменитое заблуждение Монтескье). Чем это объяснить? Тем, что конституция эта — чудо; она божественна. Никакому человеческому уму не под силу создать порядок из частиц хаоса. Если бы буквы, выпавшие из окна, могли сложиться в стихотворение, разве не убедило бы это нас, что здесь действует сверхчеловеческая сила? Самые нелепости и противоречия британских законов и обычаев очевидным образом свидетельствуют о том, что божественная сила направляет дрожащую человеческую руку. Нет никакого сомнения в том, что английская конституция давным-давно бы рухнула, будь ее происхождение всецело человеческим. Этот аргумент столь весом, что иных не требуется.
На это утверждение, как и на соображения о том, что все написанное слабо и незначительно по сравнению с бытующим в устной форме, можно возразить, напомнив, что еврейский народ, в конце концов, не исчез благодаря вере в книги Ветхого Завета. Тут у де Местра тоже имеется ответ: Библия спасла евреев как раз потому, что это Божественная книга; иначе они, разумеется, давно бы погибли. При этом он все же забывает об уникальности Ветхого Завета и говорит о том, что общественное спокойствие в Азии или Африке обеспечивает не одна голая сила, но и колоссальный политический авторитет Корана, сочинений Конфуция или других сакральных текстов, хотя происхождение их не сакрально, а сами они содержат утверждения, совершенно явно несовместимые с богодухновенными истинами и Ветхого и Нового Завета. Таким образом он, не считая вопрос заранее решенным, отчасти его доказывает, но не заботится об убедительности. Так даже лучше, если разум — смутьян, от которого во что бы то ни стало следует держаться подальше.
Сильная сторона де Местра — не в рациональных доводах и даже не в изобретательнейшей казуистике. Его стиль иногда притворяется разумным, но он насквозь внеразумен и догматичен. Неверно и предположение, что некоторые его мысли убеждают только потому, что слог его энергичен, блистателен, занимателен и неповторим. «Оба они (де Местр и Ньюмен) пишут так, как говорят воспитанные люди», — замечает Джеймс Стивен[216]. Излишний пафос зачастую слепит и утомляет. Де Местр читается легче, чем кто-либо иной из публицистов прошлого столетия, но не этим обусловлена его сила. Подлинная его гениальность состоит в глубине и точности проникновения в самые темные, наименее явные, но решающие факторы социальных и политических действий.
Де Местр — мыслитель оригинальный, плывущий против течения, решительно ниспровергающий священнейшие общие места и формулы своих либеральных современников.
Они подчеркивали силу разума, он (быть может, с излишним восторгом) указывал, сколь долговечны и обширны иррациональные тяготения, сколь сильна вера и слепая традиция, сколь упрямо невежество прогрессистов (идеалистически настроенных ученых-социологов, сторонников четкого политического и экономического планирования, страстных поклонников технического прогресса), ничего не знающих о людях. Когда все вокруг него говорили о погоне человека за счастьем, он подчеркивал, с немалой долей преувеличения и злобного удовольствия, хотя и вполне справедливо, что желание принести себя в жертву, пострадать, преклониться перед властью и, разумеется, перед высшей силой и желание быть сильнее, повелевать, стремиться к власти ради собственной безопасности — исторически так же могущественны, как и жажда покоя, процветания, свободы, справедливости, счастья, равенства.
Его реализм приобретает яростные, неистовые, безумные, свирепо ограниченные формы, все же оставаясь реализмом. Он всегда умел распознавать, какие события осуществимы: еще в 1796 г. чутье подсказало ему, что после того как революционное движение выполнило свою работу, Францию как монархическую державу могут спасти только якобинцы; что попытки восстановить старый порядок безумны и слепы; что, даже если власть Бурбонов реставрируют, долго она не продержится. Слепой догматик в богословских (и вообще теоретических) вопросах, на практике он был трезвым прагматиком и знал об этом. Именно в таком духе он и защищал идею о том, что религия не обязана быть истинной или, скорее, что ее истинность — в том, чем она наполняет наши помыслы. «Если наши допущения правдоподобны ‹…› если они к тому же успокаивают нас и могут сделать нас лучше, то чего же еще требовать? Если они не истинны, то хороши; коль скоро они хороши, разве они не становятся истинными?»[217]
Ни один человек, живший в первой половине ХХ столетия, да и после того, не усомнится, что политическая психология де Местра (со всеми ее парадоксами и отдельными срывами в полнейший контрреволюционный абсурд) доказала, пусть только посредством догадок и тягостных, разрушительных идей: то, что немецкие романтики называли мрачной, ночной стороной бытия и чего не хотели видеть гуманные, оптимистические люди, подчас лучше объясняет человеческое поведение, нежели вера в разум. Во всяком случае, это может стать резким, но никак не бесполезным противоядием от их примитивных, поверхностных, а то и ужасных лекарств.
XII
Не следует, вероятно, удивляться тому, что столь яркая и отчетливо очерченная фигура в течение всего XIX столетия вызывала такую же резкую реакцию критиков, как и при жизни. В разные периоды де Местр возбуждал любопытство, отвращение, хвалу и слепую ненависть. Бесспорно, мало о ком истолкователи говорили такую чушь. Исходя из того, что де Местр был попечительным мужем и супругом и надежным другом, Ф. — А. де Лескюр пишет: «сей орел проницательности был незлобив, как ягненок, чист, как голубь»[218]. Даже прелаты церкви, воздававшие де Местру должное, до такого не дошли. Поскольку он говорил о божественности войны, он казался Ж. Дессену дарвинистом задолго до Дарвина[219]. Он опрокидывал общепринятые мнения — и потому его сравнивали со скандально известным протестантским богословом Давидом Фридрихом Штраусом; он признавал значительность национализма — и оказался предтечей итальянского Рисорджименто, президента Уилсона и учения о праве народов на самоопределение[220]. Он одним из первых говорил о «сообществе наций» («socit des nations»[221]), и это сочли предсказанием Лиги Наций, хотя он хотел только высмеять типичную рационалистическую нелепицу[222].
Из воспоминаний тех, кому доводилось его встречать, складывается облик обаятельного человека, переходящего от вспышек блистательного остроумия к колким филиппикам, всегда обожаемого слушателями (особенно в Петербурге, где в аристократических кругах им очень увлекались), умеющего задавать парадоксальные вопросы и не слишком склонного выслушивать ответы, превосходного стилиста (Ламартин называл его наследником Дидро[223]), которого глубоко почитал и Сент-Бев, великий и единственный в своем роде критик. Лучший его портрет и в самом деле принадлежит перу Сент-Бева, который пишет о нем как о суровом, заносчивом, страстно одиноком мыслителе, рьяно отстаивающем истину, до краев наполненном идеями (обсуждать которые ему было практически не с кем ни в Петербурге, ни где бы то ни было) и, следовательно, способном писать исключительно для себя и уже хотя бы по этой причине заходить весьма далеко со своими «крайними истинами» («ultra-vrits»)[224], всегда нападающем на своих противников, яростно преследующем их, готовом разжечь пламя, стремящемся уничтожить. Из этого вытекает, что он нередко обижал знакомых; один из выразительнейших примеров приводит тот же Сент-Бев: де Местр ответил г-же де Сталь, убеждавшей его в достоинствах англиканской церкви: «Да, она похожа на орангутана в окружении других обезьян»[225]; типичное для де Местра описание одной из разновидностей протестантизма. Сент-Бев говорит, что под обаянием его «возвышенного и мощного ума» он находился всю свою жизнь. Внешность его отличалась благородством и приятностью; один сицилийский путешественник писал, что «голова его в снегу, а на устах — огонь»[226].
Подобно Гегелю, де Местр сознавал, что живет в то время, когда завершается и уходит прочь огромная эпоха человеческой цивилизации. «Я умираю вместе с Европой. Приятная компания», — писал он в 1819 г.[227] Леон Блуа рассматривал его сочинения как речь над свежей могилой современной ему — да и нам — Европы[228]. И все же сейчас он интересен нам не как последний глас умирающей культуры, не как последний римлянин, коим он сам себя считал. Его труды и личность важны не как завершение, но как начало. Они важны для нас потому, что их автор оказался первым теоретиком выдающейся и сильной традиции, достигшей апогея в воззрениях предтечи фашистов Шарля Морраса, а также тех католиков, антидрейфусаров и сторонников Виши, о которых часто пишут, что они были прежде всего католиками, а уже потом христианами. Моррас, вероятно, был готов сотрудничать с гитлеровским режимом отчасти по тем же причинам, которые влекли де Местра к Наполеону и внушали ему уважение к Робеспьеру; куда менее теплое чувство он питал к сторонникам умеренных взглядов, поверженным Робеспьером, а также к толпе благонамеренных посредственностей, составлявших окружение сардинского монарха.
В иерархии ценностей де Местра власть всегда располагается выше всего, ибо власть — это божественный закон, правящий миром, источник всякой жизни и действия, фактор первостепенной важности в развитии человечества. Тот, кто умеет держать власть в руках (и прежде всего — принимать решения), приобретает право требовать повиновения и к тому же становится орудием, избранным ныне Богом или историей для того, чтобы осуществлять свой таинственный замысел. Сосредоточение власти в одних руках — сущность деспотического правления Робеспьера и его приверженцев (против чего так страстно восставали Констан и Гизо с их умеренными взглядами) — для де Местра бесконечно предпочтительнее рассредоточенности, следующей из созданных человеком законов. Воистину мудро и проницательно поместить власть там, где ей подобало бы пребывать по праву и в безопасности — в древние, устоявшиеся, созданные не человеком, а обществом институции, но никак не вруки отдельных людей, демократически избранных или самовольно занявших главенствующее положение. Всякая власть, приобретенная путем узурпации в конце концов рухнет, ибо она попирает божественные законы мироздания; власть живет лишь в том, кто становится орудием таких законов. Сопротивляясь им, мы преграждаем космическое течение плотиной слабого и склонного заблуждаться разума, а это всегда ребячливость и глупость, более того — глупость преступная, угрожающая будущему рода людского. Каким окажется это будущее, могут знать только те, кто реалистически подходит к истории и природе человека во всем ее разнообразии. При всей склонности к теоретическому априоризму де Местр учил, что если мы хотим понять, как действует божественная воля, мы должны изучать события опытным путем, с подобающей оглядкой на изменчивые исторические условия, и рассматривать каждую ситуацию в ее конкретном контексте.
И этот историзм и неподдельный интерес к разновидностям власти над людьми, к процессам формирования обществ и их духовных и культурных составляющих, который Гердер, Гегель и немецкие романтики проповедовали на куда более непонятном языке, а Сен-Симон — куда более абстрактным образом, ныне составляют такую значительную часть наших представлений об истории, что мы уже позабыли о том, как мало времени прошло с тех пор, когда эти определения были не общеприняты, а парадоксальны. Де Местр — наш современник и потому, что он развенчивает бессилие абстрактных идей и дедуктивных методов, под чьим влиянием (хотя этого ему, быть может, говорить не следовало) находились благочестивые защитники католицизма, а не только их оппоненты. Едва ли кто-то приложил больше сил, чтобы подорвать доверие к попыткам объяснять ход вещей и распределять обязанности, исходя из таких общих понятий, как природа человека, права, добродетель, физический мир и так далее; это — дедукция, с помощью которой мы можем прийти только к тому, что заложили в посылки, не замечая или не желая считаться с тем, что наши действия этим и ограничиваются.
Де Местра справедливо называют реакционером, однако он нападал на некритически усваиваемые принципы более горячо и с большим успехом, чем многие прогрессисты-самоучки. Его методы куда ближе к современному эмпиризму, чем, скажем, методы научно мыслящих Конта, Спенсера или, если уж на то пошло, либеральных историков прошлого столетия. Де Местр снова оказался одним из первых мыслителей, постигших, сколь значительную общественную и философскую роль играют в формировании характера и убеждений каждого человека такие «естественные» явления, как языковые обычаи, типы речи, предрассудки и национальные идиосинкразии. Вико говорил о том, что именно язык, образы, мифология лучше чего-либо иного позволяют заглянуть в тайны роста людей и обществ. Гердер и немецкие филологи изучали эти феномены как итог глубочайших убеждений и типичнейших черт своего народа; отцы политического романтизма, в особенности Гаман, Гердер, Фихте, представляли их свободными и спонтанными формами самовыражения, отвечающими истинным потребностям человеческой природы и разительно непохожими на жесткий деспотизм централизованного Французского государства, которое подавляет естественные склонности своих подданных. Де Местр выделяет не эти привлекательные и во многом придуманные черты «мирового духа» (Volkseele), провозглашенные вдохновенными поборниками жизни и роста обществ, но как раз противоположные — устойчивость, долговечность, неуязвимость, мощь темной массы полуосознанных воспоминаний, обычаев и склонностей вкупе с еще более мрачными подсознательными силами. Превыше всего он ставил власть институций божественного происхождения, требующую коллективного повиновения. Он особенно подчеркивает, что абсолютная власть действует с наибольшим успехом даже в том случае, если ее происхождение внушает ужас. Он боялся науки и ненавидел ее потому, что она слишком многое освещала, рассеивая тайну, которая только и способна устоять перед вопросами скептиков. Даже де Местру с его острым зрением не удалось предвидеть, что наступит день, когда технические возможности науки воссоединятся с потенциалом уже не рационализма, а иррационализма. Тогда либерализм столкнется с двумя врагами: с деспотической властью рациональной научной организации, с одной стороны, и силами иррационального, мистического фанатизма — с другой, и обе эти силы, превозносимые последователями Вольтера или де Местра, пожмут друг другу руки в том самом союзе, о котором с таким бурным и ошибочным оптимизмом пророчествовал Сен-Симон.
Подобно Парето, де Местр верил в элитарные слои общества, но ему не было свойственно циничное безразличие к той или иной шкале моральных ценностей, к тому, что элита придерживается об уме одних понятий, а массам проповедует совершенно иные, хотя он и считал, что большинству человечества излишек света приносит только вред. Он, как и Жорж Сорель, был убежден в необходимости социальной мифологии и неизбежности войн между народами и внутри общества, но в отличие от него не допускал и мысли о том, что вожди главенствующего сословия сумеют сами увидеть в мифе идею приверженности — единственное средство, которым массы можно и следует вести к победе. Подобно Ницше, он терпеть не мог равенства и считал понятие всеобщей свободы нелепым и опасным призраком; при этом он не восставал против исторического процесса и не стремился разрушить границы, внутри которых человечество прошло свой полный страданий путь. Он не увлекался безоглядно общественной и политической модой эпохи, а природу политической власти видел так же ясно и определял в таких же точных терминах, как Макиавелли и Гоббс, Бисмарк и Ленин. По этой причине лидеры католицизма XIX в. (и духовные лица, и миряне), формально весьма почитавшие де Местра как энергичного и благочестивого защитника религиозной доктрины, при упоминании его имени все же испытывали беспокойство, как будто выкованное им по доброй вере оружие оказалось слишком грозным для защиты и, подобно бомбе, могло неожиданно взорваться у них в руках.
Общество представлялось де Местру в виде сложнейшей паутины связей между слабыми, грешными, беспомощными людьми, которых раздирают противоречивые желания, влекут в разные стороны свирепые, неодолимые силы, — никакая удобная формула не может эти силы оправдать, ибо они слишком разрушительны. Любое достижение причиняет боль и терпит неудачу; его можно довести до конца лишь под водительством мудрых и властных людей, как бы вмещающих силы истории (что для де Местра почти равняется Божественному слову, «ставшему плотию»), которые положили жизнь на выполнение вверенного им дела — сохранения предписанного свыше порядка. Этим актом самопожертвования достигается союз с Божьим замыслом, согласно которому устроен мир; а закон этого замысла — добровольное заклание себя, отрицающее всякие объяснения и в этой юдоли не приносящее награды. Социальная структура, за которую он ратовал, восходит к сословию стражей из «Государства» Платона и к Ночному Совету из его же «Законов» как минимум в той же мере, что и к христианской традиции; обнаруживает она и близость к проповеди Великого Инквизитора из знаменитой притчи Достоевского. Взгляды де Местра могут показаться отвратительными тем, кто действительно дорожит человеческой свободой, ибо они основываются на упрямом отрицании света, которым пока еще живет или хочет жить большинство людей; и все же, возводя огромное здание своего учения, де Местр смело, неоднократно и часто для первооткрывателя обнаруживал (и яростно преувеличивал) основные истины, которые его современникам были неприятны, наследниками с презрением отрицались и получили признание только в наши дни — не потому, конечно, что мы проницательнее, честнее или лучше разбираемся в себе, но потому, что порядок, который де Местр считал единственным средством борьбы с разложением ткани общества, в наши дни воплотился в своей самой чудовищной форме. Оказалось реальностью тоталитарное общество, подробно описанное де Местром в форме исторического анализа, и невероятной ценой человеческих страданий были доказаны глубина и великолепие замечательного и ужасного пророка нашего времени.
ПРОТИВНИКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
«The Counter Enlightenment» © Isaiah Berlin 1973
пер. Т. Бенедиктовой
I
Оппозиция основным идеям французского Просвещения, его союзникам и последователям в других европейских странах родилась одновременно с самим этим движением. Прокламация автономии разума и методов естественных наук, основанных на наблюдении как единственно надежном методе познания, обусловленное этим отрицание авторитетности откровения, священных текстов и их признанных толкователей, традиций, готовых формул и любых вообще нерациональных трансцендентных источников знания вызывали естественное противодействие Церкви и религиозных мыслителей самых разных убеждений. Но оппозиция эта, главным образом — потому, что у нее не было общей почвы с философами Просвещения, проявила себя относительно слабо, если не считать вдохновленных ею репрессий, направленных против распространения идей, опасных, как считалось, для авторитета Церкви и Государства. Зато куда более весомо заявила о себе релятивистская и скептическая традиция, восходящая еще к античному миру.
Учения прогрессивных французских мыслителей, при всех их различиях, опирались на мысль, в свою очередь укорененную в древнейшем представлении о природном законе: естесгво человека в существе своем неизменно везде и всегда; местные и исторические отклонения не важны сравнительно с устойчивым сердцевинным ядром, позволяющим определить людей как род, сходно с животными, или растениями, или минералами; существуют общечеловеческие цели; возможно выстроить логически связную, доступную демонстрации и проверке систему законов и обобщений, которая заменит собой хаотическую амальгаму из невежества, умственной лени, догадок, суеверий, догм, фантазий, а пуще всего «корыстных заблуждений», которым потворствуют правители и в которых — главная причина роковых ошибок, пороков и несчастий человека. Верили все и в то, что методы, сходные с методами Ньютоновой физики, победно покорившей область неодушевленной природы, можно с равным успехом применить в менее освоенной сфере этики, политики и вообще человеческих отношений. Предполагалось, что тогда неразумные, подавляющие человека законы и экономические установления будут сметены, на смену им придет правление разума, которое избавит людей от политической и нравственной несправедливости и унижений, направив их на стезю мудрости, счастья и добродетели.
Наряду с этой логикой и в противоречии с ней продолжало жить направление мысли, восходящее к греческим софистам, Протагору, Антифонту и Критию, полагавшим, что убеждения вообще, ценностные суждения — в частности, а также возводимые на их фундаменте институты имеют в основе не объективные и неизменные природные факты, а человеческие мнения, подверженные перемене, разнящиеся в разных обществах в разные времена; а моральные и политические ценности, именно — справедливость и в целом социальные установления, имеют опорой лишь непостоянство условностей, принятых между людьми. Этот способ мысли воплощен в высказывании софиста, цитируемом у Аристотеля: хотя огонь горит и здесь, и в Персии, человеческие установления меняются на глазах. Из этого как будто бы должно следовать, что в делах человеческих всеобщие истины, то есть истины, которые доказуемы научными методами и могут быть везде и всегда проверены любым человеком, установить в принципе невозможно.
Эта традиция мощно напомнила о себе в трудах таких скептиков XVI в., как Корнелий Агриппа, Монтень и Шарон, чье влияние прослеживается в настроениях мыслителей и поэтов при Елизавете и Якове I. Скептицизм служил опорой тем, кто отрицал авторитетность естественных наук и любых всеобщих рациональных схем и уповал на спасение через веру, как великие реформаторы-протестанты и их последователи, а также янсенистское крыло Католической церкви. Рационалистическое убеждение в том, что существует целостная совокупность логически выводимых истин, которой можно достичь, исходя из универсально верных принципов и тщательно просеянных данных наблюдения и опыта, еще больше расшатали усилия социологически ориентированных мыслителей от Бодена до Монтескье. Опираясь на свидетельства истории, а также новейшей литературы о путешествиях и исследованиях во вновь открытых землях Азии и обеих Америк, они подчеркивали разнообразие людских обычаев и особенно влияние неповторимых естественных факторов, в частности — географических, на развитие человеческих обществ, на формирование разных институтов и мировоззрений, порождающих, в свою очередь, значительные различия в убеждениях и поведении. Этот строй мысли подкрепил Давид Юм с его революционным учением, отрицавшим, в частности, наличие логической связи между истинами фактическими и истинами априорными, например, логическими или математическими, что подрывало или рушило надежды тех, кто, воодушевленный Декартом и его последователями, уповал на возможность создать единую систему знания, объемлющую все сферы и отвечающую на все вопросы, выстраивая непрерывные цепочки логических аргументов на основе значимых для всех аксиом, которые не опровергнет и не изменит эмпирический опыт.
Но как бы глубоко идея относительности человеческих ценностей или толкования общественных, в частности — исторических, фактов ни проникала в сознание социальных мыслителей этого типа, они оставались верны общему убеждению в том, что конечные цели всех людей во все времена едины: все люди стремятся удовлетворить свои физические и биологические потребности в пище, пристанище, безопасности, а также потребности в мире, счастье, справедливости, гармоничном развитии естественных способностей, истине, несколько менее определенно — в добродетели, нравственном совершенстве и в том, что римляне называли humanitas. Средства, конечно, разнятся в холодном и жарком климате, среди гор и среди равнин, — применяя ко всем случаям универсальную формулу, мы разве что усечем их на манер прокрустова ложа — однако конечные цели в своей основе сходны. Такие влиятельные писатели, как Вольтер, Д'Аламбер и Кондорсе, считали искусство и науку наиболее эффективными средствами достижения этих целей, наиболее мощным оружием в борьбе против невежества, суеверия, фанатизма, угнетения и варварства, которые от века калечили и извращали человеческие усилия, направленные к истине и разумному самоуправлению. Руссо и Мабли, с другой стороны, верили, что институты цивилизации способствуют развращению людей, их отчуждению от природы, сердечной чистоты, естественной справедливости, социального равенства и раскованности чувства; искусственный человек взял в плен, поработил и разрушил естественного человека. Однако, несмотря на глубокие различия в мировоззрении, имелась и широкая зона согласия по важнейшим пунктам: реальность естественного закона (суть которого уже не формулировалась на языке католической или протестантской ортодоксии), реальность непреходящих принципов, следуя которым, и не иначе, люди могли стать мудрыми, счастливыми, добродетельными и свободными. Единая совокупность принципов, всеобщих и неизменных, управляла миром — в глазах теистов, деистов и атеистов, оптимистов и пессимистов, пуритан, примитивистов, убежденных апологетов прогресса и лучших сынов науки и культуры. Эти принципы управляли живой и неживой природой, фактами и событиями, средствами и целями, частной и публичной жизнью, всеми обществами, эпохами и цивилизациями; и только отступая от них, человек погрязал в преступлении, пороке, несчастье. Каждый мыслитель мог иметь свое представление об этих законах, о том, как их познать, или о том, кто достоин толковать их; но сама реальность этих законов, их познаваемость, во всей ли полноте, или с долей приблизительности, оставалась центральной догмой всего Просвещения. Именно на этом направлении и была предпринята атака против господствовавшего строя мысли.
II
Мыслителем, который мог бы сыграть ключевую роль в этой атаке, найди он читателей за пределами своей родины, был неаполитанский философ Джамбаттиста Вико. В своих трудах, особенно — в последнем, «Scientia nova», он развил весьма оригинальную мысль: картезианцы глубоко заблуждались, считая математику наукой наук, поскольку математика надежна ровно в той степени, в какой вообще надежны человеческие изобретения. Она не отвечает объективной структуре реальности; она — метод, а не совокупность истин; с ее помощью мы можем описывать регулярные явления, происходящие во внешнем мире, но сказать, почему, как и зачем они произошли, не можем. Это знает только Бог, ибо лишь тот, кто творит, знает сотворенное, а равно и цель, и смысл творения. Мы вправе сказать, что не знаем окружающего нас мира — природы, поскольку не мы его сотворили; знает его только Бог, Творец. А вот дела человеческие можно знать так, как никогда не узнаешь природу, ибо с человеческими, то есть собственными, задачами, мотивами, надеждами, страхами мы знакомы непосредственно.
По Вико, в нашей жизни и деятельности, коллективных и индивидуальных, отражаются наши усилия выжить, удовлетворить свои желания, понять друг друга и собственное прошлое, из которого мы произошли. Утилитарное толкование сущностной человеческой деятельности обманчиво. В ней мы прежде всего выражаем себя: пение, танец, вера, речь, вражда и институты, в которых эти действия воплощаются, представляют в совокупности некое видение мира. Язык, религиозные обряды, мифы, законы, социальные, религиозные, юридические институты суть формы самовыражения — выражения того, что такое человек и к чему он стремится. Будучи внутренне упорядоченны, эти формы доступны пониманию, поэтому через них возможно реконструировать жизнь других народов, далеких во времени и пространстве, даже совершенно первобытных, каждый раз вопрошая себя о том, какой порядок человеческих идей, чувств и жизнедеятельности мог выразить себя именно в такой поэзии, памятниках, мифологии. Развитие человека индивидуально и социально; очевидно, что человеческий мир, породивший Гомеровы поэмы, существенно отличен от мира древних иудеев, с которыми Бог разговаривал посредством священных книг, или Римской республики, или средневекового христианского мира, или Неаполя при Бурбонах. Каждый из этих миров опирается на особую модель развития.
Мифы, в противоположность тому, что думают просветители, — не ложные утверждения о реальности, позднее исправленные разумной критикой; поэзия — не просто украшенная версия того, что с равным успехом выразит обычная проза. Мифы и поэзия античности воплощали видение мира, по-своему столь же полноценное, что и греческая философия, или римское законодательство, или поэзия и культура нашего собственного века, — они древнее, дальше от нас и наивнее, однако у них есть свой голос, который различим в «Илиаде» или Двенадцати Таблицах; голос, уникальный для данной культуры, чье благородство невоспроизводимо в культурах более поздних, при всей их сравнительной изощренности. Каждая культура выражает присущий ей коллективный опыт, с каждой ступенькой на лестнице человеческого развития связана особая, по-своему самобытная манера выражения.
Теория циклов культурного развития, созданная Вико, получила широкую известность, но не в ней воплотился самый его оригинальный вклад в понимание общества или истории. Новым, революционным было то, что он отрицал учение о вневременном естественном законе, истины которого в принципе может всегда и везде постичь любой человек. Вико отважно отрицал это учение, сердцевину западной традиции от Аристотеля до наших дней. Он проповедовал идею уникальности культур, при всей их схожести с предшественницами и наследницами, а также идею единого стиля, который окрашивает собою все виды деятельности и все социальные проявления человека на конкретной стадии развития. Тем самым он заложил основу и сравнительной культурной антропологии, и сравнительной исторической лингвистики, эстетики, юриспруденции; язык, ритуалы, памятники и в особенности мифологию он понимал как единственно надежные ключи к тому, что позднейшие исследователи и критики назовут изменчивыми формами коллективного сознания. Подобный историзм никак не совместим с представлением о единообразной норме истины, красоты или добра, к которой иные культуры или индивиды приближены больше, чем другие, и которую мыслители должны прояснять, а практики — претворять в жизнь. Поэмы Гомера — неподражаемый шедевр, но породить их могло только грубое, жестокое, олигархическое, «героическое» общество, и более поздние цивилизации, сколь бы ни были они превосходны в иных отношениях, не могли уже создать и не создали искусства, превосходящего Гомера. Это учение нанесло мощный удар по представлению о вневременных истинах и неуклонности прогресса, прерываемого лишь отдельными периодами варварства, оно наметило четкую границу между естественными науками, занятыми сравнительно неизменной природой физического мира, наблюдаемого «снаружи», и науками гуманитарными, которые изучают социальную эволюцию «изнутри», посредством своего рода эмпатического проникновения, и для которых научно-критическое уточнение текстов и дат — необходимое, но недостаточное условие познания.
Несистематические труды Вико охватывали множество иных материй, но значение их в истории Просвещения связано именно с тем, что он утверждает множественность культур и, соответственно, отрицает представление о единой структуре реальности, которую просвещенный философ способен (теоретически) увидеть как она есть и описать логически безупречным языком, хотя представление это объединяло мыслителей от Платона до Лейбница, Кондильяка, Русселя и особо верных его учеников. По Вико, люди задают миру различные вопросы, под стать им формулируя и ответы. Эти вопросы, а также символы или действия, в которых они выражены, меняются и устаревают в ходе культурного развития; чтобы понять ответы, необходимо понять вопросы, занимавшие данный век или культуру, те непостоянны, и степень их глубины отнюдь не определяется степенью созвучия тому, о чем мы вопрошаем сейчас. Принцип относительности у Вико развит гораздо глубже, чем у Монтескье. Его взгляд, если он верен, ставит под сомнение принципиальную возможность абсолютных истин и совершенного общества, на них основанного. Однако в свое время его мало кто прочел. Трудно сказать, как далеко простиралось влияние его «Новой науки», пока ее не возродил спустя столетие Мишле.
Если Вико хотел лишь расшатать столпы современного ему Просвещения, то кенигсбергский теолог и философ Г. Г. Гаман хотел вообще сломать их. Гаман был воспитан в пиетистской традиции, он принадлежал к самой интроспективной и самопоглощенной из всех лютеранских сект, уповавшей на прямое общение души с Господом, исповедовавшей ярый антирационализм, склонной к эмоциональным излишествам, озабоченной суровыми требованиями морального долженствования и жесткой самодисциплины. Попытка Фридриха Великого в середине XVIII столетия внедрить в быт Восточной Пруссии, самой отсталой из подвластных ему провинций, элементы французской культуры, рационализировать хотя бы отчасти экономическую, социальную и военную сферы вызвала со стороны этого набожного, полуфеодального, преданного традиции протестантского сообщества (которое породило, кстати, также и Гердера и Канта) исключительно острую реакцию. Гаман начинал как ученик просветителей, но, пережив глубокий духовный кризис, переменил мнение и обрушился на них с серией полемических статей, стиль которых, остро самобытный, перенасыщенный намеками, запутанный, нарочито темный, был подчеркнуто противоположен ненавистной ему элегантности, ясности и гладкой поверхностности самодовольных и горделивых французов, диктаторов в области вкуса и мысли. Гаманн исходил из убеждения, что истина может носить исключительно частный характер и никогда — общий; что разум бессилен доказать существование чего бы то ни было и может служить лишь орудием удобной классификации и упорядочения данных помимо какой-либо связи с реальностью; что понять человека или Бога значит стать для него субъектом общения. Вселенная, в духе старой немецкой мистической традиции, мыслится как своего рода язык. Вещи, растения и животные суть символы, посредством которых Бог общается со своими тварями. Вера лежит в основе всего; в качестве органа, обеспечивающего контакт с реальностью, вера не менее важна, чем чувство. Читать Библию значит слышать голос Бога, говорящий на языке, который Он, по милости своей, сделал понятным человеку. Некоторые из людей наделены даром понимать божественный промысел, созерцать вселенную, как бы читая Его книгу, наравне с откровениями Библии, Отцов и святых Церкви. Только через любовь — к человеку или к предмету — можно открыть его истинную природу. Невозможно любить формулы, отвлеченные положения, научные абстракции, громоздкую систему концептов и категорий — символы, в силу обобщенности далекие от конкретной реальности бытия, которыми французские светочи ослепили свой взор, перестав в результате воспринимать действительный опыт, открывающийся не иначе как прямому, прежде всего чувственному, восприятию.
Гамана приводит в восторг то, как расправился Юм с рационалистическими претензиями на априорное познание реальности. Сам он настаивает на том, что всякое знание или вера опираются в последнем счете на непосредственное восприятие. Юм верно полагает, что не мог бы съесть яйцо или выпить воды, если бы не верил в их существование; данные веры — того, что Гаман предпочитает называть верой, — так же мало опираются на логическое основание или требуют доказательств, как вкус или иные физические чувства. Истинное знание — прямое восприятие уникально целостных явлений, и как бы ни был специфичен концепт, он не может совпадать с полнотой конкретного опыта. «Individuum est ineffabile»[229], писал Гете Лафатеру, совершенно в духе Гамана, которым искренне восхищался. Науки могут быть полезны в практических делах, но никакое взаимосцепление концептов не поможет нам понять человека, произведение искусства, то в них, что передается через жесты, символы, словесные или бессловесные; понять стиль, духовную сущность человека, движения или культуры; не поймем мы и Бога, который говорит с тем, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. Реально только индивидуальное, проявляющее себя в своей единственности, неподражаемости другим вещам, событиям, мыслям, а не в своей похожести на них, что именно и стремятся зафиксировать обобщающие науки. «Только страсть, — говорил Гаман, — дает абстракциям и гипотезам руки, ноги, крылья»[230]; Бог говорит с нами посредством поэзии, адресованной чувству, а не абстракций, предназначенных для ученых людей, и так же должно изъясняться всякому, имеющему сказать нечто существенное и обращающемуся с этим к другому человеку.
Гамана мало интересовали теории или общие домыслы об окружающем мире; его занимала только внутренняя жизнь личности и соответственно только искусство, религиозный опыт, чувственные ощущения, личные взаимоотношения, которые, как ему казалось, аналитические истины научного разума обращают в бессмысленную цифирь. Бог — поэт, а не математик; это люди, подобно Канту страдающие от «гностической ненависти к материи»[231], навязывают нам бесконечные языковые конструкции — слова, выдающие себя за концепты, или, того хуже, концепты, выдающие себя за подлинные явления. Ученые изобретают системы, философы искусственно переупорядочивают реальность, закрывая на нее глаза, возводя свои замки в пустоте. «Коль скоро у вас есть data, к чему вам ficta?»[232] Системы — тюрьмы духа, они не только искажают знание, но и производят чудовищную бюрократическую машинерии) — по правилам, бесчувственным к изобилию и многообразию живого мира, к неупорядоченности и асимметрии внутренней жизни людей, попирающим их ради идеологических химер, ничего общего не имеющих с тем единством духа и плоти, которым созидается реальный мир. «Что есть хваленый разум с его универсальностью, непогрешимостью, высокомерными претензиями, самоуверенностью и самоочевидностью, как не ens rationis, мертвое чучело, которому вопиющее неразумие предрассудка приписало божественные свойства?»[233] Только история служит источником конкретных истин; именно поэты описывают мир на языке страсти и вдохновенного воображения. «Сокровищница человеческого знания и счастья заключена в образах»[234]; вот почему язык первобытного человека, исполненный чувственности и воображения, поэтичен и иррационален. «Поэзия — изначальный язык человечества, садоводство древнее земледелия, живопись — письма, пение — декламации, пословица — рационального вывода, обмен — торговли»[235]. Оригинальность, гений, непосредственность выражения, Библия или Шекспир улавливают и передают цвет, форму, живую плоть мира, к чему аналитическая наука, всего лишь обнажающая его скелет, не в силах даже подступить.
Гаманн — первый в ряду мыслителей, обвинивших рационализм и сциентизм в том, что он искажает реальность посредством анализа. За ним следуют Гердер, Якоби, Мезер, испытавшие на себе влияние Шефтсбери, Юнга, а также антиинтектуалистских диатриб Берка, а им, в свою очередь, вторят, как эхо, романтики разных стран. Красноречивее всех защищал эту позицию Шеллинг, чью мысль в начале нашего века живо воспроизвел Бергсон. Он — отец тем мыслителям-антирационалистам, в чьих глазах цельная ткань реальности, ее недоступный анализу поток только искажаются статическими пространственными метафорами, которыми оперируют математика и естественные науки. Разъять значит убить — этот романтический тезис в XIX в. стал девизом целого движения, страстным и неумолимым предтечей которого был Гаманн. Следствие научного разъятия — холод дегуманизации в политике, смирительная рубашка безжизненных французских правил, которою Фридрих Великий, этот Прусский Соломон, так много знающий и так мало понимающий, хотел бы скрутить живое тело страстных и поэтических немцев. Враг рода человеческого — Вольтер, которого Гердер назвал по-старчески слабоумным ребенком, в ком человеческое чувство замещено разъедающим остроумием[236].
На движение в Германии, получившее в итоге название «Sturm und Drang», глубоко повлиял Руссо, особенно своими ранними сочинениями. Гаманну и его последователям был близок тот пыл, с каким Руссо защищал непосредственность видения и естественность чувства, обличал искусственность социальных ролей, исполняемых людьми по понуждению цивилизации, вопреки подлинным целям и потребностям натуры, идеализировал более примитивные, вольные человеческие сообщества, противопоставлял естественное самовыражение и калечащую искусственность социальных подразделений и условностей, которые лишают людей достоинства и свободы, искажают всю систему человеческих отношений, закрепляя привилегии, власть и бесконтрольный произвол на одном ее полюсе и унизительное раболепие — на другом. Но даже Руссо, кажется, не был вполне последователен, ведь он по-прежнему верил в вечные истины, открытые всем людям, поскольку они запечатлены в их сердцах буквами, что прочнее бронзы — тем самым признавал авторитет такой громадной, холодной, пустой абстракции, как естественный закон. Для Гаманна и его последователей любые правила и предписания смертоносны; они могут быть полезны в повседневной жизни, но ни к чему великому не приведут. Английские критики были правы, когда полагали, что оригинальность подразумевает нарушение правил, что всякий творческий акт, всякое яркое прозрение предполагает равнодушие к предписаниям деспотических законодателей. Правило, говорил он, как девственность весталки, может принести плод, только будучи нарушено. Природа способна на самые дикие выдумки, и было бы детской наивностью пытаться втиснуть ее в тесноту рационалистических категорий, утеху сухих и тщедушных философов. Природа — чудный танец, а так называемые «практические люди» подобны лунатикам, которым слепота служит залогом безопасности и удачи; если бы они увидели реальность как она есть, они сошли бы с ума.
Язык — прямое выражение исторической жизни обществ и народов: «… двор любого монарха, любая школа, любая профессия, любая корпорация, любая секта имеют свой язык»[237]. В значение этого языка я проникаю посредством страсти, на правах «друга, наперсника, любовника»[238], а не посредством правил, этих универсальных ключей, которые на самом деле ничего не открывают. Французские «филозофы» и их английские последователи уверяют нас, что люди стремятся лишь получить удовольствие и избежать боли, — это ли не нелепость? Люди стремятся жить, творить, ненавидеть, есть, пить, поклоняться, жертвовать, понимать, они стремятся ко всему этому и не могут иначе. Жизнь есть деяние. Она постижима только для тех и теми, кто вглядывается в себя и «нисходит в ад самопознания»[239], как учили нас великие основатели пиетизма — Шпенер, Франке, Бенгель. Не высвободившись из смертельных объятий безличной научной мысли, лишающей все, чего она касается, жизни и неповторимости, человек не сможет понять себя и других, понять, как и почему мы становимся тем, что мы есть.
Если речь Гамана питалась внезапными, иррегулярными озарениями его духа, то его ученик Гердер попытался сконструировать стройную систему, объясняющую природу человека и его опыт в истории. Испытывая глубокий интерес к естественным наукам и многое из них, в особенности — из биологии и физиологии, для себя почерпнувший, куда более, чем фанатический Гаман, склонный прислушиваться к французам, Гердер в той части своего учения, что была усвоена вдохновленными им направлениями мысли, осознанно выступал против социологических посылок французских просветителей. Он верил, что понять любое явление можно только в его индивидуальности и развитии, для чего необходима способность к Einfhlung («вчувствованию») в мировоззрение и неповторимый характер художественной традиции, или литературы, или социальной организации, или народа, или культуры, или периода истории. Чтобы понять поступки людей, мы должны проникнуть в «органическую структуру» общества, в свете которой единственно и могут быть поняты умственный склад, действия и привычки его членов. Как и Вико, он верил, что религию, или произведение искусства, или национальный характер можно понять, лишь «погрузившись» в соответствующий, уникальный пласт жизни. Те, кого швыряло бурей по волнам Северного моря (как его самого во время путешествия на Запад), полнее поймут песни древних скальдов, а те, кому не приходилось наблюдать угрюмых матросов-северян в схватке со стихиями, не поймут этих песен никогда; Библию поймут только те, кто захочет вникнуть в первобытный опыт пастухов, пасших свои стада на холмах Иудеи. Пытаться соизмерять достоинства культурных целостностей, самобытных традиций, применяя набор догматических, псевдоуниверсальных правил, сформулированных парижскими арбитрами вкуса, — суетность и слепота. Каждая культура имеет свой, исключительно ей присущий Schwerpunkt («центр притяжения»); не нащупав его, мы не поймем ее характера и специфической ценности. Отсюда происходит страстная озабоченность Гердера сохранением первобытных культур, уникального характера каждой, его любовь почти к любому проявлению человеческого духа, к любому творению воображения просто за то, что они именно такие. Искусство, мораль, обычай, религия, национальная жизнь произрастают из глубокого корня традиции, созидаются всем обществом в его целостном совместном существовании. Границы и водоразделы, проводимые между подобными целостно-коллективными творческими реакциями на общий опыт или даже внутри них, — не более чем искусственные, ложные категоризации, осуществляемые постфактум скучными педантами-догматиками.
Кто авторы песен, эпических сказаний, мифов, храмов, mores (нравов) народа, нарядов, которые он носит, языка, на котором он говорит? Сам народ, чья душа изливается в его бытии и способе жизни. Не признавать культурного наследия или топтать его — верх варварства, поэтому Гердер осуждает римлян, подавлявших цивилизации в завоеванных землях, осуждает и церковь, хотя сам был лютеранским священником, за насильственное крещение балтов, навязывание им христианства, чуждого их исконной традиции.
Подозрительны ему и британские миссионеры, обращавшие индийцев и других обитателей Азии, чьи изысканные культуры безжалостно остановлены в естественном развитии экспансией чужих социальных систем, религий и образовательных форм. Гердер не был националистом, он полагал, что различные культуры могут и должны расцветать друг подле друга, подобно множеству цветов в великом саду человечества; тем не менее семена национализма несомненно присутствуют в его яростных нападках на пустоту космополитизма и универсализма (в них он обвиняет французское Просвещение). Семена эти дадут пышные всходы в среде его агрессивных последователей XIX в.
Гердер стал главным вдохновителем культурного национализма среди угнетенных народностей Австро-Венгерской, Турецкой и Русской империй, а в конце концов вопреки собственным установкам и симпатиям — и грубого политического национализма в Австрии, Германии и других странах, подхвативших его как заразу. Он отвергал модные в ту пору в Париже абсолютные критерии прогресса: ни одна культура не может служить для другой только средством, любое человеческое сообщество нужно судить по его внутреннему закону. Хотя позднее он попытался создать историческую теорию, где человечество в целом представлено несколько туманно, как движущееся к общей цели — Humanitt, объемлющей всех людей, все искусства и все науки, наиболее глубокое воздействие на европейское воображение оказала именно его ранняя релятивистская одержимость неповторимой сущностью и вкусом каждой культуры. Для Вольтера, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Кондорсе есть только всеобщая цивилизация, высшее цветение которой представляет то одна нация, то другая. Для Гердера — есть только множественность несоизмеримых культур. Принадлежать конкретному сообществу, быть связанным с его членами неразрывными и неосязаемыми узами общего языка, исторической памяти, привычки, традиции и чувства — основополагающая человеческая потребность, не менее естественная, чем потребность в пище, питье, безопасности и продолжении рода. Одна нация может понять институты другой и симпатизировать им только потому, что осознает все значение собственных институтов. Космополитизм предполагает отказ от всего того, что составляет основу нашей человечности, полноценной индивидуальности. Вот почему он не приемлет ложную механическую модель человечества, используемую французскими учеными «филозофами» (Гердер делает исключение только для Дидро, чьи сочинения, исполненные капризного, живого вымысла и внезапных озарений, он ощущал как особенно близкие себе), — те признают только машинерию причинности или произвол отдельных королей, законодателей и полководцев, иные из которых мудры, добры и озабочены общим благом, иные же — корыстолюбивы, продажны, глупы или порочны. Однако силы, формирующие людей, куда более сложны, изменчивы век от века, от культуры к культуре, их нельзя заключить в простые, однозначные формулы: «Меня всегда пугает, когда я слышу, как целую нацию или период характеризуют в немногих кратких словах. Разве не безбрежное разнообразие объемлется словом "нация" или "средние века" или "древние и новые времена"?»[240]. Немцы могут вполне проявить свою творческую одаренность только среди немцев; евреи — только вернувшись на древнюю землю Палестины. Лишенные корней, в чуждом окружении, народы хиреют, если выживают вообще: европейцы утрачивают добродетель в Америке, исландцы переживают упадок в Дании. Следование чужим образцам (это не относится к неосознаваемым и незаметным воздействиям, спонтанно оказываемым одним обществом на другое) ведет к искусственности, бледной подражательности, унижению и искусства, и жизни. Немцы должны быть немцами, а не третьеразрядными французами; жизнь есть переживание глубочайшей причастности к собственному языку, традиции, патриотическому чувству; единообразие есть смерть. Древо (научного) знания убивает древо жизни.
Сходным образом и современник Гердера Юстус Мозер, отец исторической социологии, живописатель старины своей родной местности Оснабрюк на западе Германии, утверждал, что всякому веку присущ собый стиль, всякой войне — особый тон, а политике специфическая окраска, что мода в одежде и нравы внутренне связаны с религией и науками; что Zeitstil и Volksstil бесконечно важны; что любой институт не универсален и не может быть универсален, ибо произрастает из местных корней[241]. Мезер полагал, что общество и людей можно понять только в их целостном выражении, а не изолируя один элемент от другого, как при химическом анализе. Этого, говорит он, не понимал Вольтер, когда насмехался над тем, что закон, принятый в одной немецкой деревне, противоречит тому, что принят в соседней, — именно благодаря богатому разнообразию, обеспеченному древностью и преемственностью традиций, и возможно избежать тирании однообразных систем, подобных тем, что утверждали Людовик XIV или Фридрих Великий, именно благодаря ему и сохраняются свободы.
Хотя прямого влияния и нет, те же самые интонации различимы в трудах Берка и многих позднейших публицистов романтической, виталистской, интуитивистской и иррационалистической ориентации — и консерваторов, и социалистов, отстаивавших ценность органических форм общественной жизни. В своей знаменитой атаке на принципы французских революционеров Берк тоже апеллировал к мириадам нитей, соединяющих людей в освященное историей целое, противопоставляя такое единение утилитаристской модели общества как торговой компании, опирающейся исключительно на контрактные обязательства, миру «софистов, экономистов и калькуляторов»[242], которые слепы и глухи к не поддающимся анализу взаимоотношениям, образующим семью, племя, нацию, движение, ассоциацию человеческих существ, спаянных не просто стремлением к общей выгоде или грубой силой, но тем, что запредельно тому и другому, — взаимной любовью, верностью, общностью истории, чувства и мировоззрения. Это характерное для второй половины XVIII в. подчеркивание нерациональных факторов, независимо от того, обусловлено оно религиозными убеждениями или нет, подчеркивание ценности индивидуального, неповторимо единственного (das Eigentmliche), неосязаемого, эта апелляция к древним историческим корням и незапамятным обычаям, к мудрости простых грубых крестьян, не развращенных софистикой «умников», было и проявлением выраженно консервативной и даже реакционной тенденции. В устах восторженного популиста Гердера, с его резким неприятием любого политического давления, имперских замашек, политической власти и всех вообще форм насильственного упорядочивания, или Мезера, умеренного ганноверского консерватора, или Лафатера, совершенно равнодушного к политике, или Берка, воспитанного в совсем иной традиции, исполненного почтения к Церкви и Государству, к освященной самой историей власти аристократии и элиты, эти идеи в любом случае предполагали оппозицию попыткам реорганизовать общество на рациональной основе, во имя универсальных нравственных и интеллектуальных идеалов.
Неприятие научного типа знания питало настроения радикального протеста, которыми проникнуты сочинения Уильяма Блейка, молодого Шиллера и писателей-популистов Восточной Европы. Оно способствовало бурной литературной активности в Германии во второй трети XVIII в.; пьесы корифеев Sturm und Drang Ленца, Клингера, Герстенберга и Лайзевица яростно отрицали любые формы организованной социальной и политической жизни. Негативизм, направленный против удушающего филистерства немецкого среднего класса или против жестокой несправедливости, царившей при игрушечных дворах немецких князьков-самодуров, был направлен заодно и против ясного упорядочения жизни в соответствии с принципами разума и научного знания, которое проповедовали прогрессивные мыслители Франции, Англии и Италии. Ленц видит в природе дикий водоворот, в который человек, исполненный чувства и жизни, жаждет броситься, чтобы испытать их во всей полноте; для него, как и для Шубарта и Лайзевица, искусство и в особенности литература суть формы страстного самоутверждения, в то время как всякое принятие условных форм есть «отложенная смерть»[243]. Нет ничего более характерного для всего движения Sturm und Drang, чем восклицание Гердера: «Я здесь не для того, чтобы думать, а чтобы быть, чувствовать, жить!»[244] Или: «Сердце! Жар! Кровь! Человечность! Жизнь!»[245]. Французское резонерство бледно и призрачно. Этим же убеждением проникнута реакция Гете в 1770-х годах на «Систему природы» Гольбаха, в ней он видит отталкивающий «киммерийский, мертвенный»[246] трактат, ничего общего не имеющий с чудной, неистощимо богатой жизненностью готического собора в Страсбурге, в котором, вослед Гердеру, он видит благороднейшее выражение средневекового немецкого духа, заведомо непостижимое для критика XVII века. Гейнзе в своей фантазии «Ардингелло и блаженные острова» приводит центральных персонажей после серии кровавых, более чем «готических» приключений, на остров, где в личных отношениях царит полная свобода, где правила и условности отброшены бесповоротно, где человек как член анархо-коммунистической общины может наконец возвыситься в полный рост, предстать артистом-творцом. В яростном, радикальном индивидуализме, которым проникнуто это сочинение, как и в современных ему эротических фантазиях маркиза де Сада, искала выражения ненасытная жажда свободы от любых заданных извне законов и правил, навязаны ли они научным разумом или властью любого рода, политической или церковной, роялистской или республиканской, деспотической или демократической.
Парадоксальным образом именно Кант, насквозь рациональный, точный, неромантический, с его пожизненной ненавистью к любым формам Schwrmerei, стал, благодаря преувеличению и искажению отдельных его положений, одним из отцов этого безудержного индивидуализма. Морально-нравственное учение Канта указывало на несовместимость детерминизма с моралью: подлинными авторами своих деяний могут считаться лишь те, кто свободен их предпринимать или не предпринимать, и только они могут быть предметом положительной или отрицательной нравственной оценки. Поскольку ответственность предполагает возможность выбора, те, кто не может выбирать свободно, столь же неподотчетны нравственному суду, как бревна или камни. Таким образом Кант стал родоначальником культа нравственной автономии, в рамках которого подлинно свободным и нравственно ответственным признается лишь тот, кто действует, чьи поступки диктует нравственная воля, руководимая свободно избранными принципами, подчас даже вопреки естественному влечению, отнюдь не силою обстоятельств, неподконтрольных воле — физических, физиологических, психологических (как чувство, желание, привычка). Кант признавал свой огромный долг перед Руссо, который, в частности — в четвертой книге своего «Эмиля», в «Исповедании веры савойского викария», говорил о человеке как об активном существе, противостоящем пассивности материальной природы, как о носителе воли, способном свободно противостоять соблазнам чувств. «Я раб в силу своих пороков и свободен в силу угрызений совести»; активная воля, непосредственно внятная нам как «совесть», в глазах Руссо «сильнее доводов разума» (то есть рассудочной аргументации), ее опровергающих. Именно она побуждает человека выбирать добро; в случае необходимости он действует «против законов тела» и таким образом подтверждает свое право стать достойным счастья[247]. Это учение о воле как о способности, не детерминированной цепочкой причин и следствий, полемично по отношению к сенсуалистскому позитивизму Гельвеция и Кондильяка и родственно кантовским представлениям о свободной нравственной воле, и все же оно остается в рамках концепции естественного закона, который управляет как миром вещей, так и человеческим миром, предписывая всем людям неизменные универсальные цели.
Акцент на воле в ущерб созерцательной мысли и восприятию, попавшим в предопределенную колею мыслительных категорий, из которой нам трудно выбрться, очень типичен для немецкого представления о нравственной свободе, понимаемой как сопротивление природе, а не гармонический союз с ней; как победа над естественным влечением и прометеев бунт против всякого понуждения, исходит ли оно от вещей или от людей. Это, в свою очередь, вело к отрицанию теории, проповедовавшей, что знание открывает нам разумную необходимость и учит ценить то, в чем неразумный человек видит только препятствие. Такое видение не позволяло примириться с действительностью и в своей позднейшей, романтической форме предполагало вечный бой, нередко — обреченный, против слепой, равнодушной к человеческой мысли природы и против совокупного веса авторитета и традиции, гигантского инкуба некритично принимаемого прошлого, воплотившегося в угнетающих человека институтах. Объявляя врагами Ньютона и Локка, Блейк обвиняет их в том, что они подчиняют свободный человеческий дух власти интеллектуальной машинерии; когда он говорит: «Малиновка в клетке/ приводит в ярость небеса»[248], под клеткой он имеет в виду именно Ньютонову физику, лишающую жизни свободный, спонтанный, крылатый человеческий дух. «Искусство — древо жизни… Наука — древо смерти»[249]; Локк, Ньютон, французские raisonneurs, царство осторожной прагматической респектабельности и полиция Питта в его глазах — части одной кошмарной картины. Нечто подобное прочитывается и в ранней пьесе Шиллера «Разбойники» (написана в 1781 г.), где яростный бунт трагического героя Карла Моора, заканчивающийся поражением, преступлением и смертью, не может быть предотвращен одним только знанием, лучшим пониманием человеческой природы, общественных условий или чего бы то ни было — одного знания недостаточно. Просветительское убеждение в том, что стоит лишь понять, чего люди по-настоящему хотят, снабдить их техническими средствами и удовлетворительными правилами поведения, и это само собой приведет их к мудрости, добродетели и счастью, несовместимо с гордым и бурным духом Карла Моора — он отрицает идеи, принятые в его окружении, его не удовлетворяет реформистская постепенность и вера в рациональную организацию в духе Aufklrung предыдущего поколения. «Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом»[250]. Человеческая природа уже не представляется в принципе гармонизируемой с миром природы; Шиллер, подобно Руссо, усматривает фатальный разрыв между духом и природой — рану, нанесенную человечеству, за которую искусство стремится мстить, зная заранее, что залечить ее невозможно.
Якоби, мистический метафизик, испытавший глубокое влияние Гаманна, не может примирить потребности души и интеллекта: «Свет исходит из моего сердца, но гаснет, лишь только я пытаюсь распространить его на свой разум»[251]. Спиноза для него — величайший философ со времен Платона, разумно видевший мир; но для Якоби это смерть в жизни, а не ответ на жгучий вопрос души. Бездомно блуждает она в холодном, рассудочном мире и покой может обрести только через полнейшее самоотречение, веру в трансцендентного бога.
Шеллинг был, наверное, самым красноречивым среди тех философов, которые представляли вселенную как саморазвитие изначальной иррациональной силы, которую схватывает только интуиция художественного гения, а ею могут обладать поэты, философы, теологи или государственные деятели. Природа как живой организм отвечает на вопросы, которые задает ей гений, а гений отвечает на вопросы, которые задает ему природа. Они, таким образом, в сговоре; только прозрение художника, пророка или мыслителя способно обнаружить контуры будущего, — для расчетливого интеллекта и аналитической способности естествоиспытателя, политика или иного привязанного к земле эмпирика они невидимы. Это убеждение в превосходстве особой духовной способности, известной под разными именами — разум, понимание, чутье, первичное воображение, но так или иначе всегда отличаемой от критического аналитического интеллекта, который чтило Просвещение, этот контраст между нею и аналитической способностью или методом, который коллекционирует, классифицирует, экспериментирует, разнимает на части и собирает снова, предлагает дефиниции, осуществляет дедукцию и определяет степень вероятности, станут отныне общим местом, характерным для Фихте, Гегеля, Вордсворта, Кольриджа, Гете, Карлейля, Шопенгауэра и других мыслителей-антирационалистов XIX в., вплоть до Бергсона и позднейших противников позитивизма.
Здесь исток того течения полноводной реки романтизма, которое видит в любой человеческой деятельности форму личного самопроявления, а в искусстве — отпечаток неповторимого лица, индивидуального или коллективного, сознающего себя или бессознательного, отпечаток его в природе или иной среде, в которой и на которую оно действует, стремясь реализовать ценности, не данные изначально, но порождаемые в самом процессе творчества. Отсюда отрицание, и в теории, и на практике, центральной идеи Просвещения — того, что правила, в соответствии с которыми люди должны жить, действовать и творить, заданы, продиктованы самой природой. Для Джошуа Рейнольдса, например, «большой стиль» есть воплощение в художническом видении извечных форм, прототипов, потусторонних суете обыденного опыта; гений угадывает их и тщится, как умеет, воспроизвести на живописном полотне, в мраморе или в бронзе. В рамках немецкой традиции противостояния французскому классицизму такое подражание или копирование идеальных форм — не истинное творчество, которое предполагает сотворение не только средств, но и целей, создание самих ценностей, не только их образов. Видение, которое я пытаюсь передать красками или звуками, производится мною, присуще только мне, не схоже ни с каким другим, бывшим или будущим, а главное, ни в коем случае не объединяет меня с другими людьми, стремящимися осуществить общий для всех, универсальный, ибо разумный, идеал. Мысль о том, что произведение искусства (или любое произведение человека) создается в соответствии с правилами, диктуемыми объективной природой и потому обязательными для всех, как учили Буало и аббат Баттё, отвергается in toto. Правила могут служить временным, частным вспоможением, но малейшая искра гения их разрушает, учреждая собственную практику, которой нетворческие ремесленники, бессильные сказать свое, вольны подражать в дальнейшем. В качестве художника, философа, государственного деятеля я творю не потому, что стремлюсь воплотить нечто объективно прекрасное, или истинное, или нравственное, или одобряемое общественным мнением, или освященное авторитетом большинства или традиции, но потому, что творю свое из себя.
Понимать творческое «я» в рамках этого направления мысли можно по-разному. В глазах одних это трансцендентное начало сродни космическому духу, божественному принципу, к которому конечный человек устремлен, как искра к сердцевине пламени; для других — для Байрона, Гюго или иных романтических бунтарей, писателей и художников — это их собственное, неповторимое, смертное «я». Третьи отождествляют творческое «я» со сверхличным «организмом», ощущая себя его частицами или членами, — с нацией, Церковью, культурой, классом или самой историей, но непременно с могучей силой, которую они воплощают в своем земном бытии. Агрессивный национализм, самоотождествление с интересами класса, культуры, расы или сил прогресса — с волной исторической энергии, направленной в будущее, с чем-то и объясняющим, и оправдывающим поступки, которые вызывали бы ужас и презрение, если бы совершались в силу эгоистического расчета или иных светских мотиваций, — вся эта совокупность политических и нравственных представлений объемлется идеей самореализации. Сложилась эта идея, отрицая центральные посылки Просвещения, прежде всего ту, что истину, право, добро, красоту можно раскрыть в их всеобщей значимости, правильно применяя объективные методы познания и интерпретации, которые каждый свободен использовать и поверять. В полном романтическом облачении эта поза предполагает, что мы открыто и принципиально объявляем войну тоу рациональному и экспериментальному методу, начало которому положили Декарт и Галилей и который вполне и твердо разделяли, при всех сомнениях и оговорках, даже такие последовательные уклонисты, как Монтескье, Юм, Руссо и Кант. Для самых ярых оппонентов классицизма ценности не находят, а созидают, не открывают, а творят; они должны быть реализованы, поскольку они мои или наши, каково бы ни было «первое лицо», на которое делает ставку та или иная метафизическая доктрина.
Самые экстравагантные из немецких романтиков, Новалис или Тик, видели в мире не структуру, которую можно изучить или описать подходящими для этого методами, но непрестанную деятельность духа и природы, которая есть тот же дух, но спящий. Это непрестанное восходящее движение сознательно воплощает в себе гений, именно в нем явлен наиболее полно тот прогрессивный творческий порыв, которым проникнута жизнь духа. Для иных, как для Шеллинга и Кольриджа, этот порыв предполагает постепенный рост самосознания мирового духа, стремящегося к совершенству; в глазах других этот космический процесс никуда не устремлен, движение не имеет цели и смысла, и потому люди, не в силах созерцать эту холодную, вызывающую отчаяние истину, пытаются спрятаться, создают утешительные иллюзии в форме религий, обещающих награды в загробной жизни, или метафизических систем, предлагающих рациональные обоснования мира как он есть и человеческой деятельности в нем; или научных систем, которые делают вид, что осмысливают бессмысленный по сути процесс, бесформенный поток, который есть то, что он есть, голый факт, ничего не обозначающий. На этом учении, которое развил Шопенгауэр, основаны разновидности экзистенциализма и культа абсурда в искусстве и в мысли, а также крайности эгоистического анархизма, в которых особенно упорствовали Штирнер, Ницше (в иных своих настроениях), Кьеркегор (самый блестящий и глубокий из учеников Гаманна) и современные иррационалисты.
Центральные принципы Просвещения — универсальность, объективность, рациональность, возможность найти постоянное решение для всех истинных проблем жизни и мысли, а также (что не менее важно) доступность рациональных методов всякому мыслителю, располагающему достаточной способностью к наблюдению и логическому мышлению, — отрицали в разных формах: консервативной и либеральной, реакционной и революционной, в зависимости от конкретного адреса полемики. Например, Адам Мюллер или Фридрих Шлегель, а порой и Кольридж или Коббетт, которым принципы Французской революции и наполеоновской организации представлялись неодолимыми препятствиями на пути свободного самовыражения, тяготели к консервативным или реакционным формам иррационализма, иногда ностальгически устремляя взоры к некоему золотому веку в прошлом, ассоциируемому с донаучной чистотой веры, и поддерживая (не всегда последовательно) клерикальную и аристократическую оппозицию модернизации и механизации жизни, осуществляемых под эгидой индустриализма и новых иерархий власти. Те, кто видел в традиционной власти воплощение социального гнета, например Байрон или Жорж Санд, а в той мере, в какой их можно назвать романтиками, — Шелли или Бюхнер, формировали «левое крыло» романтического бунта. Были и такие, кто презирал общественную жизнь в принципе, сосредоточившись на внутренней жизни духа. Во всех случаях попытку организовать жизнь, применяя к ней рациональные или научные методы, любые формы регламентации или подчинения людей утилитарным задачам и организованному счастью, они считали проявлением ненавистного филистерства.
Все Просвещение отрицает центральную для христианства доктрину первородного греха, полагая, что человек при рождении невинен и добр или же нравственно нейтрален, но в дальнейшей жизни подвержен воздействию образования и среды, или, на худой конец, он несовершенен, но его можно радикально менять и бесконечно совершенствовать разумным воспитательным воздействием в благоприятных обстоятельствах или революционной реорганизацией общества, как требовал, к примеру, Руссо. Именно из-за этого Церковь сурово осудила «Эмиля», несмотря на общую враждебность книги материализму, утилитаризму и атеизму. Возрожденный пафос апостола Павла и Блаженного Августина приняли на вооружение де Местр, Бональд и Шатобриан в решительном походе, предпринятом ими против Просвещения на рубеже веков.
В доктринах Жозефа де Местра, его последователей и союзников, явившихся знаменем контрреволюции в Европе начала XIX в., воплотились едва ли не самые мрачные из реакционных форм противоборства с Просвещением, и в то же время едва ли не самые интересные и значительные. Де Местр полагал, что просветительство — одна из самых нелепых и разрушительных форм социальной идеологии. Мысль о том, что человек естественно расположен к добру, сотрудничеству и миру или, по крайней мере, способен эволюционировать в этом направлении под воздействием соответствующего воспитания или законодательства, для него поверхностна и ложна. Благожелательная госпожа Природа, как ее трактуют Юм, Гольбах и Гельвеций, — абсурдный плод воображения. Природу можно лучше всего понять через историю и зоологию, которые представляют ее как поле бесконечной грызни. Люди по природе агрессивны и разрушительны, склонны бунтовать по пустякам: изменения календаря в XVI в. или решение Петра I обрить бороды боярам вызывают яростное сопротивление, а то и опасный бунт; но когда людей посылают на войну, чтобы лишать жизни существа столь же невинные, без всякой цели, внятной солдатам обеих армий, они послушно отправляются на смерть и даже не пытаются протестовать. Когда в человеке пробуждается разрушительный инстинкт, он испытывает восторг и ощущение полноты жизни. В противоположность тому, чему учили просветители, люди собираются вместе не для того, чтобы трудиться и жить в мире и счастье; история свидетельствует, что они никогда не бывают более едины, чем тогда, когда приносят себя в жертву на общем алтаре. Это объясняется тем, что желание жертвовать собой и другими в них, по крайней мере, так же сильно, как стремление к миру и созиданию. Де Местр полагал, что люди от природы — злые, склонные к саморазрушению животные, движимые противоречивыми импульсами. Они не знают, чего хотят, хотят того, чего не желают, и не желают того, чего хотят, а потому могут выжить и спастись лишь тогда, когда их постоянно контролируют, в условиях жесткой дисциплины, поддерживаемой тем или иным видом авторитарной элиты — Церкви, Государства или иного органа, суд которого безоговорочен. Рассуждение, анализ, критика потрясают основы и разрушают ткань общества. Если опора власти рациональна, она открыта вопрошанию и сомнению; к ней можно обратиться с вопросом, ее можно и опровергнуть; авторитет ее могут подорвать умелые софисты, что открывает дорогу силам хаоса, как и случилось во Франции при слабом и либеральном Людовике XVI. Если государство хочет выжить и не допустить, чтобы его разрушили глупцы и корыстолюбцы, которые вечно к тому стремятся, источник власти должен быть абсолютным и настолько устрашающим, что малейшая попытка подвергнуть его сомнению влечет за собой немедленную и ужасную кару. Только тогда люди научатся этой власти подчиняться. Без ясной иерархии власти, внушающей священный ужас, неисправимо разрушительные страсти людей неизбежно породят хаос и взаимное истребление. Высшая власть — особенно власть Церкви — ни в коем случае не должна рационально объяснять себя или оправдывать; ведь то, что один может доказать, другой — опровергнуть. Разум — слишком непрочная стена, неспособная защитить от бушующих волн чувства; на столь ненадежной основе не построишь ничего постоянного. Иррациональность — не препятствие, а необходимость для общества, именно она вела к миру, безопасности и силе; напротив, самыми непрочными оказывались рациональные институты — республики, выборные монархии, демократии, ассоциации, основанные на просвещенных принципах свободной любви. Прочнее всего авторитарные церкви, наследственные монархии и аристократии, традиционные формы жизни — к примеру, такой иррациональный институт, как семья, основанный на пожизненно нерасторгаемом браке.
«Филозофы» предполагали рационализировать общение, изобретя всеобщий язык, свободный от пережитков иррационального, необъяснимых завихрений и поворотов, капризных особенностей, присущих существующим языкам. Их успех был бы губителен, ибо неповторимое историческое развитие народного языка вбирает в себя, освящает и сохраняет огромное богатство коллективного опыта, лишь наполовину осознаваемого, наполовину внятного. То, что люди называют суеверием и предрассудком, — не что иное, как поверхностный слой обычая, чье долгожительство само по себе доказывает его право на жизнь; расставшись с ним, мы утратили бы щит, прикрывающий национальное бытие людей, их дух, привычки, воспоминания, веру, которые сделали их именно такими. Представление о человеческой природе, исповедуемое радикальными критиками, фундамент, на котором они возводят свой карточный дом, — детски наивная фантазия. Руссо спрашивает, почему человек, рожденный свободным, тем не менее, всегда в цепях. Де Местр отвечает: «Эти безумные слова (…) прямо противоположны истине»[252]. «Столь же правомерно сказать, — добавляет знаменитый критик Эмиль Фаге в эссе, посвященном де Местру, — что овцы рождены плотоядными, однако всегда щиплют траву»[253]. Люди не созданы ни для свободы, ни для мира. Свобода и мир были им доступны только благодаря мудрым авторитарным правительствам, умевшим подавлять разрушительный критический интеллект и опасные для общества эффекты, им производимые. Ученые, интеллектуалы, юристы, журналисты, демократы, янсенисты, протестанты, евреи, атеисты — вот они, недремлющие враги, неустанно уедающие общественную плоть. Лучшим правительством в мире было правительство римлян: они были слишком мудры, чтобы стать учеными и нанимали для этой цели умных, поверхностных, политически бездарных греков. Человеком и обществами движет не светлый разум, а темные инстинкты; только сознающая это элита, предохраняя народ от избыточного светского образования, которое располагает к повышенной критичности и недовольству, может дать людям ту меру счастья, справедливости и свободы, на которую в этой юдоли слез они могут надеяться. Но в основе своей всякая власть должна опираться на возможность применения силы, на принудительное насилие.
Де Местр использует очень сильный образ, заявляя, что всякий социальный порядок в конечном счете опирается на единственного человека, палача. С этой отталкивающей фигурой никто не хочет иметь ничего общего, однако именно на нем, в силу человеческой слабости, порочности, неспособности управлять страстями, вечной уступчивости по отношению к гибельным соблазнам и нелепым мечтаниям, держатся и порядок, и мир, и общество. Воображать, что рассудок способен воспитывать и контролировать страсти, смехотворно. Всякий вакуум тут же заполняется властной силой; даже кровавое чудовище Робеспьер, эта чума, посланная Господом в наказание стране, отступившей от истинной веры, даже он более достоин восхищения, ибо он удержал целостность Франции, отразил ее врагов и создал армии, которые, опьяненные кровью и страстью, сумели ее сохранить. Да, он достойней восхищения, чем либералы с их болтовней и мягкотелостью. Людовик XIV презирал умников-резонеров, подавлял ересь и умер в своей постели на вершине славы, Людовик XVI заигрывал с опасными идеологами, испившими из Вольтерова отравленного колодца, и умер на гильотине. Репрессии, цензура, абсолютная власть, приговоры, не подлежащие обжалованию, — только так можно управлять существами, которых де Местр описывает как полулюдей-полуживотных, чудовищных кентавров, стремящихся к Богу и противящихся Ему, жаждущих любви и творчества, но вечно рискующих пасть жертвами слепых разрушительных инстинктов. Их удержит в узде только сочетание силы и авторитета, и прежде всего — вера, воплощенная в освященных историей институтах, которых не смеет коснуться критика разума.
Нация и раса безусловно реальны; искусственные создания сторонников конституции заведомо обречены. «Нации, — говорит де Местр, — рождаются и умирают подобно людям»; у нации «есть душа», особенно явная в ее языке[254]. Как и человек, нация должна стремиться к сохранению расовой чистоты. Бональд, его ближайший интеллектуальный сподвижник, сожалеет о том, что французы отказались от идеала расовой чистоты и таким образом себя ослабили. Вопрос о том, произошли ли они от франков или от галлов, были ли их институты по происхождению римскими или греческими, трактуется в мистическом и органическом духе, который превосходит и даже заведомо отторгает любое рациональное суждение. Хотя восходит он к политическим спорам XVI, XVII и раннего XVIII столетий, предполагается, что его решение существенно определит формы современной жизни. Де Местр признает реальным лишь естественное развитие. Только время, только история способны создать власть, которую люди почитают и которой подчиняются; военная диктатура, создание отдельного человека есть голая сила, не располагающая духовным авторитетом; он называет ее btonocrati[255] и предрекает скорый конец Наполеона.
Бональд тоже осуждает индивидуализм и как социальную доктрину, и как метод анализа исторических явлений. Изобретения человека, говорит он, ненадежны и опасны сравнительно с тем, что человеку дано от Бога и что проникает все его существо, — язык, семья, вера. Разве их кто-то изобрел? Рождаясь на свет, ребенок уже имеет отца, мать, семью, язык, Бога; вот основа всего истинного и вечного, а не человеческие измышления, происходящие из мира лавочников с их контрактами, обещаниями, полезностью или товаром. Либеральный индивидуализм, воодушевленный бесстыдной самоуверенностью неспособных к почитанию интеллектуалов, породил бесчеловечную состязательность буржуазного общества, где побеждают сильнейшие и быстрейшие, а слабые обречены. Только Церковь способна организовать общество таким образом, что сильнейших будут держать в узде, и прогресс станет доступен всем, ибо и самые слабые, и самые жадные смогут осуществить свои цели.
Эти мрачные учения одушевляли монархическую политику во Франции и, совокупно с представлениями о романтическом героизме и резком противостоянии творческих и нетворческих, исторических и неисторических индивидов и наций, послужили в дальнейшем вдохновением для национализма, империализма и самой жесткой и патологической их формы — фашизма и тоталитарных доктрин ХХ в.
Очевидная неспособность Французской революции осуществить большую часть декларированных ею задач обозначила конец французского Просвещения как движения и как системы. Его наследники и оппоненты, то есть учения и движения, которые в какой-то степени провоцированы им и испытали на себе его воздействие, романтические и иррационалистические, политические и эстетические, бурные и мирные, индивидуалистические и коллективные, анархические и тоталитарные, — все они, а также их следствия принадлежат другой странице истории.
НАЦИОНАЛИЗМ. Вчерашнее упущение и сегодняшняя сила
«Nationalism: Past Neglect and Present Power» ©Isaiah Berlin 1978
пер. Б. Дубина
I
История идей — неисчерпаемая, но по самой природе зыбкая область знаний, подпадающая под естественное подозрение специалистов в более точных науках, однако дарящая при этом свои находки и награды. Среди них — открытие того факта, что многие из распространенных ценностей нашей культуры куда моложе, чем можно было ожидать. Цельность и искренность не относились к качествам, которыми восхищались древность и Средневековье: их тогда едва упоминали, на первое место в теории ставили объективную истину, а превыше всего как в теории, так и на практике ценили правильное понимание вещей. Сознание того, что разноликость притягательна, а однообразие монотонно, уныло, скучно, что оно для вольнолюбивого человеческого духа тяжелее вериг и в нем есть что-то «киммерийское, покойницкое»[256], как описывал Гете «Systme de la nature» Гольбаха, явно противоречило традиционному згляду на мир, согласно которому истина одна, а заблуждений много и который поставили под вопрос лишь к концу XVII столетия, но никак не раньше. Понятие терпимости, и не просто в качестве полезного способа избегать непримиримых разногласий, а на правах особой ценности; понятие свободы и прав человека в их сегодняшнем смысле; понятие гения как вызова любым законам со стороны неукротимой воли, презирающей всяческие препоны, где бы их ни возводил разум, — все это составные части грандиозных сдвигов в образе мыслей и чувств западного человека, произошедших в XVIII столетии. Их последствия в виде самых разных движений, направленных против революционных перемен, очевидны в любой из сфер современной жизни. Это слишком широкая тема, которую я сейчас напрямую обсуждать не стану: я бы хотел сосредоточиться только на одной ее стороне.
II
Как известно, XIX столетие стало свидетелем небывалого расцвета исторических исследований. Причин тому много: революционные сдвиги в жизни и мышлении, вызванные стремительным и победоносным развитием естественных наук, а особенно техническими новшествами и сопутствующим им подъемом тяжелой промышленности; выход на арену новых государств, классов и правящих групп, ищущих свою родословную; разложение вековых религиозных и общественных институтов, причина и вместе с тем следствие Ренессанса, секуляризации и Реформации, — все это приковало внимание к феноменам исторической изменчивости и обновления. Данный этим толчок к занятиям историей и вообще процессами становления был необычайно силен. Нарождалось новое чувство — чувство непрестанного развития или, по крайней мере, постоянного движения, изменения в жизни человеческих обществ. Понятно, что крупнейшие мыслители данного периода устремились к открытию законов, управляющих социальными сдвигами. Казалось, новые методы естественных наук, уже доказавшие способность объяснять природу и законы мира физического, сумеют сделать то же самое для человеческого мира. И если подобные законы вообще можно открыть, то они, конечно же, должны объяснять будущее не хуже, чем прошлое. Надо вырвать будущее из рук мистических провидцев и толкователей апокалиптических пророчеств Библии, из рук астрологов и любителей оккультизма, превратив его в упорядоченную область научного знания.
Эта надежда подстегнула новые разработки по философии истории и повлекла за собой возникновение совершенно новой на тот момент области социальных исследований. Новоявленные пророки стремились обеспечить своим суждениям как о прошлом, так и о будущем точность подлинной науки. И хотя немалая часть выходившего из-под их пера была плодом буйных, необузданных, а то и просто эгоманиакальных фантазий» или уж, по крайней мере, оставалась в высшей степени спекулятивной), общая нарисованная ими картина выглядит куда пристойней, чем обычно считали. Кондорсе мог быть чрезмерным оптимистом, обещая возникновение всеобъемлющей и систематической естественной науки о человеке, а также предвидя конец преступности, глупости и нищеты, этих порождений человеческой праздности, невежества и безрассудства. Во мраке застенка он рисовал в 1794 г. радужный образ нового, безгрешного и безмятежного мира, выстроенного по методу науки, который свободные в духовном и нравственном отношении люди применили к организации общества, тем самым открыв человечеству путь к гармоническому содружеству наций, непрерывному прогрессу искусств и наук и вечному миру. Все это выглядело слишком безоблачно; тем не менее возможность применить математическую — в частности, статистическую — технику к проблемам общества была предвидением оригинальным и вместе с тем крайне важным.
Сен-Симон, человек блестящих дарований, как известно, провозгласил неотвратимую победу технократического миропорядка. Он говорил о грядущем союзе науки, финансов и промышленности и о замене в этом новом мире производителей, дружных с учеными, прежних клерикальных форм воспитания деятельностью новой разновидности пропаганди-стов — художников, поэтов, священнослужителей нового светского культа, способного мобилизовать чувства людей, без чего новый индустриальный мир не сможет существовать. Его последователь Огюст Конт считал необходимым и предвидел в будущем создание особой властвующей элиты, задача которой — обучать и контролировать построенное на рациональных основах, но далекое от демократии и либерализма общество и его членов, воспитанных по законам науки. Точность этого пророчества я обсуждать не стану: соединение технической сноровки с непререкаемой властью светского клира слишком успешно реализовалось в наши дни. И если те, кто свято верил в новое просвещение, которое очистит общественную жизнь от предрассудков, невежества и суеверий, нашедших воплощение в бессмысленных, насильственных законах экономики, политики, расовых и сексуальных отношений, так и не увидели свои мечты осуществленными, то этот факт не уменьшает зоркости, позволившей им разглядеть новые пути, открытые развитием Западной Европы. Я имею в виду тот самый образ разумного, чистого, запасливо устроенного нового миропорядка, который возвещали Бентам и Маколей, который волновал умы Милля и Токвиля и вызывал глубочайшее отвращение Карлейля и Дизраэли, Рёскина и Topo, a до них — кое-кого из ранних немецких романтиков на рубеже XVIII–XIX вв. В свою очередь, Фурье, нередко впадая в бессмыслицу, ополчался против всех зол торговли и промышленности, втянутых в необузданное экономическое соревнование, когда ради собственных выгод стремятся всеми силами уничтожить плоды человеческого труда или заменить их подделками. Он объявлял, что рост централизованного контроля над сообществами людей — прямая дорога к рабству и отчуждению, провозглашал конец эры насилия над людьми и необходимость ввести человеческие страсти в разумные рамки с помощью особого руководства профессионалов, которые могли бы направлять все человеческие желания, способности и склонности в сторону свободного и творческого развития. Фурье, случалось, предавался весьма причудливым фантазиям, но эти его мысли были вполне здравыми, больше того — многие из его пророчеств стали сегодня расхожей мудростью.
Все мы признаем убийственную точность неудобных мыслей Токвиля, предвидевшего конформизм и одноцветность, к которым рано или поздно ведет демократическая уравниловка, что бы мы при этом ни думали о снадобьях, рекомендованных Токвилем для смягчения подобных последствий. Точно так же вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что Карл Маркс, при всех его ошибках, обладал редкой силой предвидения, выявив целый ряд ключевых факторов эпохи, которые не были видны его современникам, — таких, как взаимосвязь между технологическими сдвигами и культурой, концентрация и централизация средств производства в руках частных собственников, неотвратимый ход индустриализации, подъем и широчайшее распространение крупного бизнеса, тогда находившегося еще в зачатке, но ведущего к неизбежному обострению социальных и политических конфликтов. Срывание политических и моральных, философских и религиозных, либеральных и научных масок, под которыми скрывались самые чудовищные проявления этих конфликтов, а также их социальные и интеллектуальные последствия, тоже не назовешь безуспешным.
Таковы были главные пророки, но можно назвать и других. Блестящий и своенравный Бакунин куда точней своего великого соперника Маркса представлял ситуации, чреватые серьезными волнениями неимущих слоев, и предвидел, что они, скорее всего, разразятся не в самых развитых обществах и не на восходящей кривой экономического прогресса, а в странах, где большинство людей привыкли существовать на уровне прожиточного минимума и меньше других потеряют при социальном перевороте, — каковы крестьяне, которые живут в совершенно примитивных условиях, не вылезая из отчаянной нужды, при крайне отсталом сельском хозяйстве и слабом развитии капитализма в таких, например, странах, как Испания и Россия. Вряд ли для него остались бы загадкой причины грандиозных социальных переворотов в Азии и Африке наших дней. Могу привести и другой пример. Обращаясь к французам в первые годы царствования Луи-Филиппа, поэт Генрих Гейне предупреждал, что в один прекрасный день их немецкие соседи, подхлестнутые историческими воспоминаниями и ресантиментом вкупе с метафизическим и моральным фанатизмом, могут обрушиться на них и уничтожить великие памятники западной культуры: «недоступные ни страху, ни алчности… словно первые христиане, сломить которых не могли ни пытки, ни утехи»[257], эти отравленные идеологией варвары обратят Европу в пустыню. Лассаль проповедовал и, может быть, предвидел государственный социализм — так называемые народные демократии наших дней, именуйся этот гибрид, полностью разоблаченный Марксом в его заметках о Готской программе, государственным коммунизмом либо государственным капитализмом.
Примерно десятилетие спустя Якоб Буркхардт предсказал появление военно-промышленных комплексов, которые рано или поздно возьмут под контроль клонящиеся к упадку страны Запада; Макс Вебер ясно видел растущую мощь бюрократии; Дюркгейм предупреждал о возможностях аномии; дальше следовали кошмары Замятина, Олдоса Хаксли и Оруэлла, наполовину сатириков, наполовину пророков уже наших дней. Кое-что из их слов так и осталось в области чистых предсказаний, что-то — прежде всего предвидения марксистов и мысль Гейне о новых философствующих варварах, обожествленных воображением позднейших расистов и иррационалистов-неоязычников, — кажется, частично осуществилось. XIX век породил множество других утопий и прогнозов — либеральные, социалистические, технократические, проникнутые ностальгией по новому средневековью и отыскивающие в прошлом чаще всего придуманную Gemeinschaft, эти системы сегодня чаще всего по справедливости забыты.
Но при всем изобилии этих скрупулезно разработанных, статистически обоснованных прогнозов и фантазий среди них тем не менее есть пробел. Существовало одно движение, которое в XIX столетии господствовало над Европой и было настолько всеохватывающим, настолько общераспространенным, что лишь особым усилием мысли можно представить себе мирок, им совершенно незатронутый. У него были приверженцы и противники, было свое демократическое, аристократическое и монархическое крыло, оно вдохновляло людей действия и художников, интеллектуальные элиты и массу, но, как ни странно, ни один из сколько-нибудь известных мне мыслителей не предвидел его будущего расцвета, когда отведенная ему роль окажется еще значительнее. Тем не менее я, вероятно, не преувеличу, сказав, что это одно из наиболее мощных, а в некоторых регионах и самое мощное движение среди существующих сегодня в мире и что многие из тех, кто не сумел предвидеть его взлет, заплатили за свою близорукость свободой, более того — жизнью. Я имею в виду национальное движение. Никто из крупных мыслителей — по крайней мере, тех, которых я знаю, — не предвидел подобного будущего или, говоря точней, не высказался на этот счет с полной ясностью. Единственное известное мне исключение — Мозес Гесс, который в своей книге 1862 г. «Рим и Иерусалим» утверждал, что историческая миссия евреев состоит в том, чтобы соединить коммунизм с национализмом. Но это было не столько пророчеством, сколько проповедью, и оставшуюся непрочитанной книгу открыли для себя только позднейшие деятели сионизма.
Нет нужды специально подчеркивать тот очевидный факт, что абсолютное большинство суверенных государств, представленных сегодня в Организации Объединенных Наций, руководствуются в своих шагах сильнейшими национальными чувствами даже чаще, чем их предшественники в Лиге Наций. Подозреваю однако, что этот факт весьма удивил бы многих из пророков XIX в., независимо от их блестящего ума и политической прозорливости. И удивил именно потому, что большинство писавших тогда на социальные и политические темы предрекали этим чувствам близкий закат. Национализм в Европе, по общему в ту пору признанию, относился к пережиткам прошлого. При этом стремление многих из тех же самых людей быть гражданами государства, чьи границы совпадают с границами национального сообщества, к которому они себя причисляют, почиталось естественным. Либо же, по мнению других, вызывалось ходом всего историко-политического развития, причиной и одновременно следствием которого стал рост национального сознания, по крайней мере — на Западе. Ни национальные чувства, ни идеология национализма с сознанием национальной принадлежности не связывались (и, как мне кажется, справедливо).
Потребность принадлежать к определенной группе общества рассматривалась как естественное стремление человека со времен, по меньшей мере, Аристотеля: семья, клан, племя, сословие, социальный слой, класс, религиозная организация, политическая партия и, наконец, нация и государство были историческими формами, в которых эта основополагающая потребность воплощалась. Ни одна из этих форм, вероятно, не была столь же необходима для самого нашего существования, как, допустим, потребность в еде и крове, самосохранении и размножении, но некоторые из них все-таки оказывались весьма настоятельными, и различные теории от Платона и Полибия до Макиавелли, Боссюэ, Вико, Тюрго, Гердера, Сен-Симона, Гегеля, Конта, Маркса и их позднейших последователей брались описывать историческое развитие подобных форм. Общество складывалось под воздействием общего происхождения, общего языка, обычаев, традиций, памяти, длительного проживания на одной территории. Подобная однородность подчеркивала несходство группы с ее соседями, наличие племенной, культурной или национальной солидарности, а вместе с ней — чувство отличия от групп с другими обычаями, другими реальными или мифологическими истоками, которое нередко сопровождалось активной неприязнью и завистью к ним; всем этим и объяснялось, а вместе тем — обосновывалось, национальное государство. Народы Великобритании, Франции, Испании, Португалии и Скандинавии достигли этого задолго до XIX столетия, у народов Германии, Италии, Польши, Балкан и Балтики подобного не получилось. Швейцария решила проблему по-своему. Общность границ нации и государства рассматривалась как желательная практически всеми, за исключением приверженцев династических многонациональных империй наподобие Российской, Австро-венгерской или Турецкой, а также сторонников империализма, социалистического интернационализма, анархистов и, вероятно, некоторых католиков ультрамонтанского толка. Большинство политических мыслителей открыто или молча принимали подобное состояние за неизбежную фазу в организации общества. Одни надеялись или опасались, что ее сменят иные политические структуры, другие как будто бы считали ее «естественной» и неизменной. Национализм, то есть, возведение интересов единства и самоопределения нации в ранг высшей ценности, заставляющей какие бы то ни было иные соображения раз и навсегда умолкнуть, — идеология, к которой по преимуществу питали склонность мыслители Германии и Италии, — более либерально настроенные наблюдатели считали кратковременной фазой и связывали с обострением национального самосознания, угнетенного и насильственно подавленного деспотическими правителями при поддержке раболепно преданной им церкви.
В середине XIX столетия казалось, что стремление немецкого и итальянского народов к политическому единству и независимости в самом скором времени увенчается успехом. Затем это победное движение принесет свободу и остальным угнетенным народам многонациональных империй. После этого, верилось всем, национализм, болезненное разжигание уязвленного национального самолюбия, должен будет сойти на нет: вызванный притеснениями, он отомрет вместе с ними.
Времени потребовалось больше, чем думали оптимисты, но к 1919 г. основополагающий принцип права любой нации на самоопределение был, казалось, общепринят. Признав право наций на независимость, что бы ни мешало его осуществлению, Версальский договор должен был в любом случае положить конец так называемому национальному вопросу. Оставался, конечно, вопрос о правах национальных меньшинств в новых национальных государствах, но их предстояло гарантировать новой Лиге Наций. Предполагалось, что эти государства, хотя бы по собственному историческому опыту, в состоянии осознать одно: стремление к самостоятельности со стороны этнических и культурных групп, которые проживают в их границах, должно быть удовлетворено любыми средствами. Человечество в будущем могли по-прежнему терзать такие проблемы, как колониальная эксплуатация, социальное и политическое неравенство, невежество, нищета, несправедливость, голод, болезни, коррупция, привилегии, но наиболее просвещенные либералы и, конечно же, социалисты твердо отстаивали мысль, что национализм движется к закату, поскольку самые глубокие раны, нанесенные народам мира, не сегодня так завтра будут залечены.
Марксисты и другие радикально настроенные социалисты шли дальше. Сами национальные чувства оказывались у них формой ложного сознания, идеологией, которую вольно или невольно породило экономическое господство особого класса, буржуазии, правившей в союзе с обломками прежней аристократии. Экономическая власть в руках буржуазного класса служила способом удержать и расширить классовый контроль над обществом, который, в свою очередь, опирался на эксплуатацию рабочей силы пролетариата. Пройдет время, и рабочие, сплоченные самим процессом труда в организованную силу все больших масштабов, политической сознательности и мощи, свергнут своих угнетателей-капиталистов, ослабленных беспощадной конкуренцией, которая подорвет в них всякую способность к организованному отпору. Экспроприаторов подвергнут экспроприации, пробьет последний час капитализма, а стало быть, и всей идеологии, многообразными личинами которой выступали национальные чувства, религия и парламентская демократия. Различия между нациями сохранятся, но они, наряду с местными или этническими особенностями, отступят в тень перед солидарностью рабочих всей земли, объединенных производителей, вступающих друг с другом в свободную кооперацию и использующих мощь природы во имя всего человечества.
Общим для подобных взглядов была вера в то, что национализм — всего лишь кратковременное следствие подавленных в человеке порывов к независимости, приостановка человеческого прогресса под воздействием безличных сил и порожденных ими идеологий. О природе этих сил теоретики могли спорить. Но в большинстве своем они предполагали, что национализм как явление исчезнет вместе с его причинами, каковые, в свою очередь, будут сметены неотвратимым развитием просвещения, понимать ли последнее в терминах морали либо технологии как победу разума, технического прогресса или обоих разом и отождествлять ли его с борьбой за социальное равенство, экономическую и политическую демократию, справедливое распределение земных богатств, с разрушением национальных барьеров на пути к всемирному рынку или с триумфом науки и морали, основанной на принципах разума, а стало быть — с наиболее полной реализацией человеческих возможностей, к чему рано или поздно придет мир.
Перед всем этим призывы и идеалы каких-то национальных групп, казалось, должны были утратить всякий смысл и вместе с другими реликтами незрелости человечества, пополнить собою этнографические музеи. Что касается националистически настроенных людей среди народов, достигших независимости и самоопределения, то они списывались со счета как воплощение иррационализма, пример отсталости или задержанного развития и, наряду со сторонниками Ницше, Сореля и неоромантизма, не принимались во внимание. Труднее было не замечать национализм, растущий после того, как единство нации было, казалось бы, повсеместно достигнуто, — скажем, шовинизм в Германии после 1871 г., французский интегризм, итальянский sacro egoismo или подъем расовых теорий и другие предвестья будущего фашизма. Тем не менее, даже отмечая подобные факты, ни один из футурологов конца XIX — начала ХХ столетия, насколько я знаю, не увидел в них провозвестников новой фазы человеческой истории, и это в равной степени справедливо для консерваторов, либералов и марксистов. Эпоху Krisen, Kriege, Katastrophen[258], которую предсказывал, к примеру, Карл Каутский[259], сам он возводил к таким причинам и описывал в таких терминах, среди которых национализм если и значился, то разве что на правах побочного продукта, элемента «надстройки». Насколько могу судить, никто даже не догадывался о том, что в последнюю треть нашего века национализм станет господствующим явлением и что социальные движения или революции потеряют практически всякий шанс на успех, если не пойдут с ним рука об руку либо, по крайней мере, не откажутся от противоборства с ним. Перед нами любопытный образец недальновидности со стороны весьма проницательных во всем остальном социальных мыслителей, который, по-моему, требует объяснения или хотя бы более широкого обсуждения, чем это, и без того зашедшее слишком далеко. Я не историк, не социальный психолог и не стану пытаться его объяснить. Я лишь попробую высказать несколько предположений, которые могут бросить на этот странный феномен некоторый свет.
III
Но прежде я бы хотел все-таки сказать несколько слов об истоках европейского национализма как образа мыслей. Я не имею в виду национальное чувство как таковое — оно, вероятно, восходит к племенным чувствам, существующим уже на самых ранних этапах документированной человеческой истории. Я имею в виду развитую и осознанную доктрину, продукт, воплощение и, вместе с тем, обобщение определенного строя мысли, в котором политические обозреватели видят орудие и силу. Подобного национализма, насколько могу судить, нет ни в Древнем мире, ни в христианском Средневековье. Римляне могли ни во что не ставить греков, Цицерон и Аппиан с презрением говорили о евреях, а Ювенал — о выходцах с востока как таковых, но это оставалось всего лишь ксенофобией. Горячий патриотизм встречается у Макиавелли или Шекспира и даже задолго до них. Не отношу я к национализму и простую гордость предками: все мы — сыны Кадма, все вышли из Трои, все произошли от людей, заключивших завет с Богом, все — потомки завоевателей, франков или викингов, по праву завоевателей правившие потомством рабов — галлов или кельтов.
Под национализмом я понимаю нечто гораздо более определенное, идеологически весомое и опасное, а именно убежденность, и в первую очередь — в том, что всякий человек принадлежит к определенной группе людей, чей образ жизни отличается от всех прочих; в том, что склад каждого из составляющих эту группу людей задан складом данной группы и не может быть понят вне этого склада, который, в свою очередь, определяется общей территорией, обычаями, законами, воспоминаниями, верованиями, языком, художественным и религиозным самовыражением, общественными установлениями и образом жизни, к которым в некоторых случаях прибавляют наследственность, узы кровного родства и расовые характеристики; и, наконец, в том, что все эти факторы формируют склад человека, его цели и ценности.
Во-вторых, национализм — это убежденность в том, что общество по образу жизни напоминает биологический организм; что потребности этого организма, которые наиболее чуткие к ним существа изъясняют посредством слов, метафор или других выразительных средств, и есть его общие цели; что ничего выше подобных целей нет и что при столкновении с другими ценностями, которые не выводимы из уникальных потребностей столь уникального организма — будь те другие ценности интеллектуальными, религиозными или нравственными, личными или всеобщими, — первенство всегда должно принадлежать этим высшим ценностям, иначе нации угрожает упадок и гибель. И, называя подобный образ жизни естественным, мы тем самым подразумеваем, что он не может быть искусственно создан индивидами или группами, пусть даже занимающими самые высокие позиции, если только сами эти группы и индивиды не проникнуты тем же исторически сложившимся образом жизни, мыслей и чувств, поскольку именно подобные мыслительные, эмоциональные и физические навыки, способы выживать, относиться к реальности, но прежде всего — к другим людям, определяют все остальное и составляют национальный организм, нацию, принимай она форму государства или нет. Отсюда следует, что форма, в которой наиболее полно реализована природа человека, это не индивид и не добровольный союз индивидов, который можно по желанию распустить, преобразовать или покинуть, а нация; что жизнь всех более мелких единиц — семьи, племени, клана, области — должна, если они хотят оставаться собой, быть подчинена рождению и поддержанию нации, поскольку их природа и цель, иногда называемая их смыслом, проистекает из его природы и целей, а они открываются не рациональному анализу, но лишь особому и вовсе не обязательно целиком осознанному ощущению единственной в своем роде связи, соединяющей отдельных людей в неразрывное и непостижимое органическое целое, которое Берк отождествлял с обществом, Руссо — с народом, Гегель — с государством и которое для националистов есть и может быть только нацией, идет ли при этом речь о структуре общества либо форме правления.
В-третьих, подобный взгляд подразумевает: один из самых убедительных доводов — может быть, самый убедительный довод в пользу определенной веры, определенной политики, определенной цели, определенного способа жить, состоит в том, что эта цель, вера, политика, образ жизни — наши. Иными словами, этим правилам, доктринам или принципам необходимо следовать не потому, что они ведут к благу, счастью, справедливости или свободе, и не потому, что они продиктованы Богом, церковью, правителем, парламентом или другой признанной всеми верховной властью, наконец, не потому, что они хороши и верны как таковые и в силу этого значимы сами по себе везде и всегда, для любого человека в подобной ситуации, — нет, им необходимо следовать потому, что это ценности моей группы, а для националиста — моей нации. Эти мысли, чувства, этот образ действий хороши и правильны, и я, отождествившись с ними, достигну счастья и осуществления надежд, поскольку за ними стоят требования особой социальной формы, в лоне которой я рожден и с которой меня связывают, по Берку, мириады нитей, уходящих в прошлое и будущее моей нации, и без которой я, если прибегнуть к другой метафоре, всего лишь одинокий листок или ветка, отпавшие от дерева, а ведь только оно и давало им силу. Поэтому если я, случайно или по собственной воле, от него оторвусь, то утрачу смысл жизни, засохну или, в лучшем случае, останусь один на один с ностальгическими воспоминаниями о том, что когда-то и вправду жил, действовал и занимал свое место в общенациональной жизни, понимание которой только и наделяло смыслом и ценностью всё, чем я был и что делал.
К цветистой и приподнятой прозе подобного сорта прибегали Гердер, Берк, Фихте, Мишле, как после них — еще десятки людей, пытавшихся пробудить национальный дух своих спящих народов в славянских провинциях Австрийской и Турецкой империи либо нации, угнетенные (вместе с большинством основного населения) в России, а потом и во всем мире. Между убежденностью Берка в том, что отдельный человек может заблуждаться, но человеческий род — никогда, и высказанным лет через десять мнением Фихте, будто отдельный человек должен исчезнуть, раствориться, пре-образиться в родовом существовании, конечно, есть разница. И все-таки направленность у них одна. Подобная ценностно перегруженная лексика могла временами притворяться попросту описательной, пытающейся всего лишь прояснить понятие нации или исторического развития. Но ее влияние на поступки людей было — и к этому явно стремились те, кто ее употреблял, — ничуть не слабей, чем воздействие языков естественного права, прав человека, классовой борьбы и других идей, определивших нашу сегодняшнюю картину мира. В конце концов, с развитием событий, ничего удивительного в котором нет, махровый национализм пришел к убеждению, будто в тех случаях, когда потребности социального организма, чьей составной частью я себя ощущаю, сталкиваются с целями других групп, у меня — или у общества, с которым я нерасторжимо связан, — нет иного выбора, кроме как заставить их, пусть даже силой, выполнять мою волю. Если задача моей группы — назовем ее нацией — свободно реализовать свою истинную природу, тогда с ее пути должны быть устранены любые помехи. Ни одно из препятствий, заслоняющих от меня — иными словами, от моей нации — то, что я признал своей высочайшей целью, не может даже сравниться с нею по значимости. Не существует никаких более высоких критериев или стандартов, в терминах которых можно было бы упорядочить разные ценности коллективной жизни, свойства и устремления различных национальных групп. Ведь подобные стандарты оказались бы наднациональными, они не принадлежали бы данному социальному организму, не составляли его часть или крупицу, а черпали бы значимость из какого-то иного источника, находящегося за рамками тех или иных конкретных сообществ, — то есть служили бы таким же универсальным стандартом, как естественное право или естественная справедливость для тех, кто в них верит. Но поскольку для националиста любые ценности и стандарты с неизбежностью принадлежат конкретному обществу, данному национальному организму и образуют его неповторимую историю, в рамках которой любой человек (равно как любые союзы и группы, часть которых он составляет) рассматривает любые ценности и цели, то какие бы то ни было призывы к универсальности исходят из ложных представлений о природе человека и человеческой истории. В этом и состоит идеология органицизма с ее преданностью своим, Volk'ом как подлинным воплощением национальных ценностей, интегризмом, историческими корнями, la terre et les morts[260], волей нации. Подобная идеология направлена против сил разрушения и упадка, которые описываются в уничижительных терминах, обычно обозначающих попытки приложить методы естественных наук к проблемам человека: критический или «аналитический» разум, «холодный» ум, губительный, «атомизирующий» индивидуализм, бездушный механицизм, чуждое влияние, выхолощенный эмпиризм, безродный космополитизм, абстрактные понятия природы, человека, права, забывающие о различиях культур и традиций, — короче говоря, вся типология и перечень характеристик врага, которые рождаются под пером Гамана и Берка, достигают вершины у Фихте и его последователей-романтиков, приводятся в систему де Местром и Бональдом и набирают в нашем столетии новый вес в пропагандистских сочинениях времен Первой и Второй мировых войн, у писателей иррационалистской и фашистской ориентации с их анафемами Просвещению и всем его плодам.
Этот язык и лежащая за ним, как всегда в таких случаях, перегруженная эмоциями мысль редко достигают ясности и внутренней непротиворечивости. Для пророков национализма высокие, более того — высочайшие требования нации к индивиду обоснованы тем, что ее существование, ее цели, сама ее история только и придают жизнь, смысл существованию и действиям этого индивида. Но, казалось бы, тогда все остальные люди находятся ровно в таких же отношениях со своими нациями, чьи требования к ним столь же значимы и ничуть не менее абсолютны, а это может привести к конфликту с реализацией целей, или «миссией», кого-то другого, например — нации данного индивида, что, в свою очередь, способно, хотя бы теоретически, повлечь за собой культурный релятивизм, который плохо согласуется с абсолютизмом исходных посылок, пусть им формально и не противореча, и даже развязать войну всех против всех.
Ряд националистов пытается уклониться от подобного вывода, стараясь показать, что одна из наций или рас — допустим, германская — заведомо превосходит все прочие народы, что ее цели выше либо что ее особая культура порождает существ, в которых истинные цели человека воплощены полней, нежели в людях, к данной культуре не принадлежащих, если измерять тех и других неким объективным, наднациональным мерилом. К такому заключению приходит в своих поздних работах Фихте (аналогичный тезис можно найти у Арндта и других германских националистов той поры). Отсюда, кроме прочего, еще и гегелевское представление об особой роли, которую играют исторические нации, каждая со своим закрепленным за нею временем и пространством. Никогда нельзя быть до конца уверенным, ведет ли националист речь о своей нации потому, что она такова как есть, либо потому, что только ее ценности приближаются к некоему объективному идеалу или стандарту, которые ех hipothesi[261] и суждено понять лишь немногим счастливцам, ими руководствующимся, тогда как иные общества остаются и обречены остаться к ним слепыми, а потому объективно относятся к низшим. Граница между двумя этими концепциями выглядит не всегда четко, но обе они ведут к коллективному самоупоению, ярким примером которого может служить европейский, а возможно и американский, национализм.
Конечно, нация — не единственный предмет подобного культа. Тот же язык и та же риторика не раз использовались в истории для того, чтобы отождествить истинные интересы отдельного человека с интересами его церкви, культуры, касты, класса, партии, которые иногда сливались или смешивались в едином идеальном образе, а иногда вступали в конфликт. Но самым сильным магнитом для всех этих предметов обожествления и самоотождествления исторически было национальное государство. Зрелище его власти над собственными гражданами в 1914 г., когда оно оказалось куда сильней классовой солидарности международного рабочего движения, показало эту истину самым сокрушительным и катастрофическим образом.
С первых своих шагов в XVIII в. национализм принимал самые разные обличья, особенно после того, как слился с этатизмом, учением о превосходстве государства, и прежде всего — национального государства, в любой из сфер человеческой жизни и в результате союза с силами, олицетворявшими индустриализацию и модернизацию, хотя прежде они были непримиримыми врагами. Но во всех своих разновидностях он, на мой взгляд, сохраняет четыре характеристики, которые я постарался разобрать выше: веру в то, что потребность принадлежать к той или иной нации превосходит остальные потребности; веру в органическую связь между всеми элементами, составляющими нацию; веру в нашу нацию именно потому, что она — наша; и, наконец, веру в верховенство ее требований по сравнению с иными претендентами, соперничающими за наше уважение и преданность. Эти составные части, в разных сочетаниях и пропорциях, можно обнаружить во всех стремительно разрастающихся идеологиях национализма, которыми сегодня полнится мир.
IV
Можно предположить, что национализм, в отличие от простого национального сознания — ощущения, что ты принадлежишь к данной нации, — это, в первую очередь, ответ на чье-то высокомерное или пренебрежительное отношение к традиционным ценностям твоего общества, следствие уязвленной гордости или чувства собственной униженности у наиболее ранимых членов общества, которых в таких случаях неизбежно охватывает гнев и стремление постоять за себя. Это как будто бы подтверждается траекторией, по которой парадигма современного национализма развивается в Германии — от осознанной защиты немецкой культуры в еще сравнительно мягком литературном патриотизме Томазиуса, Лессинга и их предшественников в XVII в. до гердеровского утверждения автономии культур, пока в ходе и после наполеоновского вторжения все не завершается взрывом агрессивного шовинизма у Арндта, Яна, Кернера и Герреса. И все же история далеко не так проста. Устойчивость языка, обычаев, занимаемой территории поддерживались человечеством с незапамятных времен. Случаи внешней агрессии, и не только против отдельных племен и народов, но и против больших обществ, объединенных религией или подчинением одной законной власти, в разных частях света тоже нередки. Тем не менее ни в Европе, ни в Азии, ни в древние времена, ни в эпоху Средневековья это не приводило к особой реакции в виде национализма: этого не произошло в ответ на поражение, которое персы потерпели от греков, греки — от римлян, буддисты от мусульман, греко-римская цивилизация — от гуннов и оттоманских турков, не говоря о бесчисленных малых войнах и разрушении племенных установлений завоевателями всех континентов.
Даже мне, не историку и не социологу, ясно: если уязвленные чувства общества или его духовных лидеров — обязательное условие для возникновения национализма, то одного этого условия все же недостаточно. В обществе, хотя бы потенциально, должна быть группа или класс людей, которые ищут новый объект приверженности, новую точку самоотождествления, а может быть, и новое основание для господства, которые им уже не могут предоставить прежние силы сплочения социального целого — племенные, религиозные, феодальные, династические, военные — и которые обеспечили себе централизованные политические системы монархий Франции и Испании, но не обеспечили правители раздробленных германских земель. В некоторых случаях необходимые условия возникают с появлением новых общественных классов, стремящихся взять в свои руки контроль над обществом вопреки воле прежних правителей, светских или церковных. Если к этому добавляется уязвленное завоевателями самолюбие или просто культурное высокомерие извне по отношению к обществу, обладающему пусть даже начатками национальной культуры, почву для националистического подъема можно считать подготовленной.
И все же необходимо еще одно: для развития национализма в обществе или, по крайней мере, в сознании наиболее тонко чувствующих членов этого общества должен существовать образ или хотя бы прообраз себя как нации, объединенной неким признаком или признаками — языком, этническим происхождением, общей историей (реальной или придуманной), то есть, идеями и чувствами, с большей отчетливостью присутствующими в умах более образованных, социально и исторически озабоченных людей и куда менее отчетливыми, а то и вовсе отсутствующими в сознании остального большинства. Подобный образ нации, созданный, вероятно, теми, кто способен испытывать чувство ресантимента, если этот образ не замечают либо задевают, кроме того, сплачивает некоторых из этих людей в сознательно созданную группу или движение, особенно перед лицом общего врага, внутреннего либо внешнего, будь то церковь, правительство или враждебные голоса из-за рубежа. Это люди, которые устно или письменно обращаются к нации и хотят помочь нации осознать ее ошибки, — поэты и романисты, историки и литературные критики, богословы, философы и им подобные. Поэтому сопротивление французскому засилью во всех областях жизни началось в такой, казалось бы, отдаленной сфере, как эстетика и литературная критика (не стану входить сейчас в тонкости того, чем было вызвано противодействие французскому неоклассицизму в Англии или Швейцарии). Именно этот круг людей стал в германских землях социальной и политической силой, питательной средой национализма. В Германии это вылилось в освободительный порыв писателей, которые стремились освободить себя и других от удушающих обстоятельств, и прежде всего — от деспотических догм французских законодателей прекрасного, сковывающих свободное развитие духа.
Но кроме самоуверенных французов были еще домашние тираны — и не только в эстетике, но и в обществе. Мощный взрыв индивидуального недовольства законами и установлениями деспотического, филистерского общества, известный под именем «Бури и натиска», ставил своей прямой целью устранить любые барьеры и перегородки общественной жизни, раболепие и прихлебательство снизу, жестокость, произвол, спесь и угнетение сверху, ложь и «жаргон и выговор лицемерия», как его называл Берк[262], на всех уровнях. Под вопрос ставилась значимость любых узаконений — законов, установленных Богом, природой или правителем, но в любом случае утверждающих власть авторитета и требующих беспрекословного подчинения. Главным из требований была свобода самовыражения, свободного выражения творческой воли, чище и ощутимей всего присутствующей в трудах художника, но неотъемлемой от каждого человека. Для Гердера эта жизненная энергия воплощалась в плодах коллективного гения разных народов: легендах, героических поэмах, мифах, законах, обычаях, песне, танце, религиозной и светской символике, храмах, соборах, обрядах, — все они служили формами выражения и сообщения, которые породили на свет не отдельные авторы или узкие группы людей, а коллективное и сверхличное воображение, воля всего сообщества, действующая на разных уровнях сознательности; именно так, по его убеждению, и зарождались невидимые, бесплотные связи, благодаря которым общество развивается как единое, органическое целое.
Понятие творческого гения, движущего как людьми, так и целыми обществами, встало на место вневременных объективных истин, неизменных образцов или законов, следуя которым люди будто бы только и могут достичь счастья, добродетели, справедливости и достойно осуществить требования своей природы. Это породило новый взгляд на человека и общество, подчеркивающий в них жизненную силу, подвижность, изменчивость, благодаря которым люди или группы людей не столько походят друг на друга, сколько разнятся, подчеркивающий притягательность и ценность разнообразия, неповторимости, индивидуальности, — взгляд, представляющий мир неким садом, где каждое дерево, каждый цветок растут по-особому и движимы такими устремлениями, которые порождены обстоятельствами и собственной неповторимой природой, а потому несопоставимы с образцами и ориентирами других. Подобный взгляд противоречил господствующей philosophia perennis[263], вере во всеобщее, единообразное, универсальное, во вневременную значимость объективных и вечных законов и правил, приложимых везде и всегда, ко всякому человеку и всякой вещи, — ее светскую или естественно-научную версию отстаивали представители французского Просвещения, вдохновленные победами естественных и точных наук, по меркам которых немецкая культура с ее религиозностью, сосредоточенностью на литературе, замкнутостью в себе, опорой на мистику, узким провинциализмом и, в любом случае, рабским подражанием Западу, выглядела столь жалко.
Я не собираюсь выдавать подобный кричащий контраст за что-то большее, чем всего лишь представления крошечной группы немецких поэтов и литературных критиков. Но, по-видимому, именно эти писатели острее других чувствовали себя оставшимися не у дел в результате общественных перемен, через которые проходила Германия в период вестернизаторских реформ Фридриха Великого. Отрезанные от какой бы то ни было реальной власти, неспособные найти свое место в бюрократической системе, налагаемой сверху на традиционный образ жизни, болезненно чувствующие несовместимость своего глубинно-христианского, протестантского, моралистического мировоззрения с научными взглядами французского Просвещения, измученные мелочным деспотизмом трех сотен местных князьков, наиболее одаренные и независимые из них ответили на подрыв своего мира — а он начался с бесчестья, которое нанесли их дедам армии Людовика XIV, — нарастающим бунтом. Они противопоставили глубину и поэзию немецкой традиции с ее даром краткого, но подлинного проникновения в неисчерпаемое, невыразимое разнообразие жизни духа выхолощенному материализму, утилитаризму и плоскому, безжизненному театру теней, которым выглядел мир в изображении французских просветителей. Подобный образ мира стал одним из ростков романтического движения. В Германии его адепты прославляли коллективную волю, неподвластную законам, которые человечество способно открыть рациональными методами, и духовную жизнь народа, в чьей деятельности — движимой сверхличной волей — индивиды могут участвовать, но которую они не в состоянии наблюдать и описывать со стороны. Сердцевиной романтизма в политике был взгляд на политическую жизнь нации как на выражение этой коллективной воли — иначе говоря, национализм.
Позвольте мне повторить еще раз: даже если считать национализм прежде всего откликом на уязвленную гордость общества, это еще не значит, что перед нами достаточная причина для национального самоутверждения. Обиды, наносившиеся одним обществом другому испокон веков, отнюдь не всегда вызывали национальный отклик. Необходимо еще что-то, а именно — новое видение мира, с которым уязвленное общество, его классы или группы, оттесненные в сторону политическими и социальными трансформациями, могут отождествиться, вокруг которого они в состоянии сплотиться и предпринять попытку восстановить коллективную жизнь. Поэтому славянофильское и народническое движение в России, равно как немецкий национализм, можно понять, только если представить себе весь травматический эффект принудительной и скороспелой модернизации, которой подверг свою страну Петр Первый и, в меньшей степени, Фридрих Великий, — всю реакцию на последствия технической революции, развитие новых и исчезновение старых рынков, последовавшее за ним разрушение образов жизни, свойственных целым классам, отсутствие возможностей применить свои умения для представителей образованного сословия, психологически неспособного стать частью новой бюрократии и, наконец, в случае Германии, оккупацию страны или установление колониальных порядков силами могущественного и враждебного иностранного государства, разрушающего традиционный жизненный уклад и оставляющего людей, особенно людей с обостренной чувствительностью и самосознанием — художников, мыслителей, независимо от рода их занятий, — без твердого общественного статуса, в беззащитности и смятении. Лишь из этого рождается порыв к новому синтезу, новой идеологии, способной, с одной стороны, объяснить и оправдать отпор тем силам, которые несут с собой разрушение прежних верований и жизненных укладов, а с другой — указать людям новый путь, новую точку для самоотождествления.
В наше время, не знавшее недостатка в социальных и экономических разломах, это явление достаточно привычное. Там, где этнические связи и общий исторический опыт недостаточно сильны для того, чтобы породить чувство национальной принадлежности, подобным средоточием может стать социальный класс, политическая партия, церковь или, и гораздо чаще, центр власти и авторитета, само государство — неважно, многонациональное или нет, но развертывающее знамя, под которым могут сплотиться и перегруппироваться все те, чей традиционный жизненный уклад рухнул: безземельные крестьяне, разоренные землевладельцы и лавочники, оказавшиеся не у дел интеллектуалы, профессионалы, не добившиеся успеха в тех или иных областях. Но ничто из перечисленного, будь то в качестве символа или на правах реальности, не обладает такой сплачивающей и движущей силой, как нация. И в случаях, когда нация — лишь один из центров поклонения наряду с расой, религией или классом, ее притягательность несравненно сильней.
Первые настоящие националисты — немцы — создали образец, в котором уязвленная гордость культуры соединилась с такой философией истории, которое должно было залечить нанесенную рану и дать силы для внутреннего сопротивления. Сначала всего лишь группка образованных и неудовлетворенных франкофобов, позднее, натерпевшись бедствий от французской армии и наполеоновского Gleichshaltung[264], она переросла в широкое народное движение, первую большую волну националистических страстей с их диким студенческим шовинизмом, кострами из книг и тайной расправой над инакомыслящими — взбунтовавшийся ученик чародея, вызывавший такое неудовольствие у мирных мыслителей вроде Гете и Гегеля. Тем же путем пошли другие нации, отчасти под воздействием немецкой риторики, а отчасти оказавшись в похожих обстоятельствах, породивших тот же недуг и заставивших прибегнуть к тому же опасному лекарству. Вслед за Германией двинулись Италия, Польша, Россия, затем, в свое время, Балканы, страны Балтики и Ирландия, затем, после поражения, Третья республика во Франции — и так вплоть до наших дней с республиками и диктатурами в странах Азии и Африки, националистическими протестами региональных и этнических групп в Бельгии и на Корсике, в Канаде, Испании и на Кипре, даже во Франции, Великобритании и невесть где еще.
Ни один из пророков XIX столетия, насколько знаю, не предвидел ничего похожего. Но даже приди это ему в голову, подобную мысль сочли бы настолько неправдоподобной, что даже не стали бы обсуждать. Что же помешало разглядеть возможность этого кардинального поворота событий в наши дни?
V
Среди допущений, из которых исходили мыслители-рационалисты либерального толка на протяжении всего XIX и нескольких десятилетий ХХ в., были следующие: либеральная демократия — наиболее подходящая — или, по крайней мере, наименее не подходящая — форма социальной организации; национальное государство — как оно сложилось исторически — вполне нормальная разновидность самостоятельного и самоуправляемого общества; с распадом многонациональных империй (которые Гердер называл неповоротливыми политическими чудищами) на составные части стремление к союзу людей с общим языком, привычками, воспоминаниями, взглядом на мир будет наконец удовлетворено, возникнет сообщество свободных, самоопределившихся национальных государств — «Молодая Италия» Мадзини, «Молодая Германия», «Молодая Польша», «Молодая Россия», — и они, вдохновленные патриотическими чувствами, не запятнанными злобным национализмом (симптомом патологических условий угнетенного существования), станут жить в мире и согласии друг с другом, забыв отныне об иррациональных пережитках рабского прошлого. То, что представитель движения, возглавлявшегося Мадзини, был приглашен на конгресс Первой международной ассоциации трудящихся и, вопреки недовольству Маркса, присутствовал на нем, — факт в этом смысле знаменательный. Подобные убеждения, разделявшиеся либеральными и демократическими основателями государств, созданных на развалинах Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны, вошли в конституцию Лиги Наций. Даже марксисты, которые хоть и видели в национализме воплощение реакции, но не требовали полностью упразднить национальные границы при условии, что социалистическая революция упразднит эксплуататорские классы, допускали, что национальные государства будут сосуществовать друг с другом до тех пор, пока государство как орудие классового господства полностью не отомрет.
Ни одна из этих идеологий не предвидела последующего роста национальных чувств, более того — агрессивного национализма. По-моему, они упускали из виду факт, который ясно понимал, кажется, только Дюргкейм, а именно: что разрушение традиционных иерархий и укладов социальной жизни, опиравшихся на глубокую приверженность людей, централизацией и бюрократической «рационализацией», которой требует и которую влечет за собой промышленный прогресс, лишает огромное число людей чувства социальной и эмоциональной защищенности, порождает известные феномены отчуждения, духовной бесприютности, нарастающей аномии и делает необходимым в рамках продуманной социальной политики выработку психологических эквивалентов утраченных культурных, политических, религиозных связей, поддерживавших прежний социальный порядок. Социалисты верили, что требуемый материал социальных связей обеспечит классовая солидарность, братство угнетенных и перспектива справедливого, разумного общества, которую принесет с собой революция; так оно, до известной степени, и было. Кроме того, некоторые из бедных, уволенных и бесправных перебрались в Новый Свет. Но для большинства вакуум заполнили не профессиональные объединения, не политические партии, не революционные мифы, которые пытался внедрить Сорель, а те же старые, традиционные связи — язык, почва, реальные или выдуманные исторические воспоминания — наряду с институтами и лидерами, которые олицетворяли представления людей о себе самих как общине, Gemeinschaft, — подобные символы и органы оказались куда притягательней, чем могли вообразить социалисты или просвещенные либералы. Почитаемая порой со всем мистическим и мессианским пылом идея нации как верховного авторитета, заместившего церковь, правителя, закон и другие источники высших ценностей, умеряла боль от ран, нанесенных коллективному сознанию будь то чужеземными завоевателями, будь то отечественными капиталистами, империалистическими эксплуататорами или искусственно навязанной, бездушной бюрократией.
Подобные чувства, конечно, нещадно эксплуатировались партиями и политиками, но им было, что эксплуатировать, они вовсе не изобрели эти чувства, чтобы потом использовать их для своих тайных целей. Эти чувства существовали и обладали собственной силой. Она могла соединяться с другими силами, эффективнее всего — с мощью государства, стремившегося к модернизации, и употребляться в качестве защиты от других сил, расцениваемых как чужие или враждебные, либо от отдельных групп, классов или движений внутри государства — религиозных, политических, экономических, с которыми большинство общества себя почему-то инстинктивно не отождествляло. Эта сила развивалась и могла использоваться в самых разных направлениях — как орудие секуляризации, индустриализации, модернизации, рационального использования ресурсов или в виде призыва вернуться в реальное либо воображаемое прошлое, некий потерянный, языческий или неосредневековый, рай, в форме картин более прекрасной, простой и чистой жизни, как зов крови или некоей древней веры — и обращаться против чужаков и космополитов, «софистов, экономистов и бухгалтеров»[265], не способных понять подлинную душу народа, разглядеть его питательные корни и стремящихся только расхитить его сокровища.
На мой взгляд, тем, кто, при всей чуткости в других отношениях, не приняли в расчет взрывную силу, возникающую из соединения неизлечимых ран, нанесенных сознанию народа, кто бы ни был их виновником, с образом нации как сообщества живых, ушедших и еще не рожденных (сколь бы зловещим он ни выглядел в своих обостренных и крайних формах), не хватило способностей видеть социальную реальность. Это верно и применительно к нынешнему дню, и к двум последним столетиям истории. Современный национализм действительно зародился на немецкой почве, но в дальнейшем развивался всюду, где складывались условия, напоминающие воздействие модернизации на традиционное немецкое общество. Я не хочу сказать, будто подобная идеология была неизбежностью: вероятно, она могла бы и вовсе не возникнуть. Никто еще не сумел убедительно доказать, что человеческое воображение подчиняется умопостижимым законам, и предсказать движение идей. Не свяжись подобные представления воедино, ход истории мог бы оказаться другим. Раны, нанесенные немцам, разумеется, никуда бы не делись, но изготовленный для них бальзам — то, что Реймон Арон» говоря о марксизме) назвал «опиумом интеллектуалов», — мог бы оказаться иным, а вместе с ним и весь ход вещей мог повернуться иначе. Но идея возникла и породила именно те последствия, которые породила, так что отрицать ее реальность и значимость было бы теперь, на мой взгляд, излишним идеологическим упрямством.
Почему же этого все-таки не заметили? Отчасти, вероятно, из-за «либеральной картины мира», широко распространившейся усилиями просвещенных историков-либералов» и социалистов). Она хорошо известна. По одну сторону — силы тьмы: церковь, капитализм, традиция, авторитет, иерархия, эксплуатация, привилегии; по другую — Просвещение, борьба от имени разума и знания за уничтожение барьеров между людьми, за равенство и права человека (и прежде всего трудящихся масс), за личную и общественную свободу, уменьшение нищеты, гнета, жестокости, упор на том, что объединяет, а не разделяет людей. Однако, если говорить совсем попросту, различия ничуть не менее реальны, чем родовое сходство, «общественное бытие», по Фейербаху и Марксу. Произрастающее из этих различий национальное чувство равно присутствует по обе стороны границы между светом и тьмой, прогрессом и реакцией, как ощутимо оно сегодня и в коммунистическом лагере, а непризнанные различия настойчиво заявляют о себе и, в конце концов, обращаются против усилий сравнять их во имя объявленного или желаемого единообразия. Идеал единой системы мира, организованной по законам науки, составлял сердцевину программы Просвещения. И когда Иммануил Кант, которого вряд ли обвинишь в симпатиях к иррационализму, заявлял, что «из кривых горбылей человеческого рода не сделаешь ничего прямого»[266], он говорил вещь совершенно здравую.
И еще одно. На мой взгляд, мышление XIX и начала ХХ в. было поразительно европоцентричным. Даже одаренные самым живым воображением, самые радикальные в политическом отношении мыслители, упоминая об обитателях Африки и Азии, весьма отдаленно и абстрактно представляли себе их идеи. На народы эти они смотрели почти исключительно глазами европейцев. Если сами они были приверженцами империи, благожелательными патерналистами или отвергающими всякую эксплуатацию социалистами и либералами, то и народы Африки и Азии выступали для них то подопечными, то жертвами европейцев, но крайне редко обладали (если вообще обладали) собственными правами, своей историей и культурой, прошлым, настоящим и будущим, которое предстояло понять в соотнесении с их собственным нынешним характером и обстоятельствами. А если наличие таких местных культур — скажем, в Индии или Персии, Китае или Японии — все-таки признавалось, то они, как правило, их не принимали в расчет при обсуждении того, что может потребоваться этим обществам в будущем. Соответственно, вопрос о возможном подъеме национализма в этих частях света сколько-нибудь серьезно даже не обсуждался. Насколько могу судить, даже Ленин рассматривал национальное движение в этих частях света только как орудие борьбы против европейского империализма, а поддержку ему — исключительно как возможное ускорение или препятствие на пути Европы к революции. И это совершенно понятно, поскольку он и его сотоварищи-революционеры верили, будто центр мирового господства находится именно там и пролетарская революция в Европе автоматически освободит тружеников всего мира, что колониальные и полуколониальные режимы на территории Азии и Африки будут тем самым сметены, а соответствующие страны вольются в состав нового, свободного от эксплуатации международного миропорядка. Поэтому Ленин нимало не интересовался жизнью тамошних сообществ как таковых, следуя здесь за Марксом, на чьих страницах, посвященных, к примеру, Индии, Китаю или Ирландии, тоже нет никаких особенных соображений об их будущем.
Этот почти повсеместный европоцентризм может хотя бы отчасти объяснить, почему мощный взрыв не только антиимпериалистических, но и националистических настроений в этих частях света стал для большинства такой неожиданностью. Вплоть до оглушительного эффекта японской победы над Россией в 1904 г. ни один из не европейских народов не представал глазам социальных или политических мыслителей Запада, в полном смысле слова, нацией, чей характер, история, проблемы, потенциал на будущее делают ее первостепенной областью изучения силами исследователей политической жизни, истории или человеческого развития в целом. Этим обстоятельством, вкупе со многими другими, может объясняться странное упущение со стороны прежних футурологов. Небесполезно помнить, что русская революция, даже после вторжения сил Антанты, осталась целиком свободна от националистических элементов, — а ее правомерно описывать как полностью антинационалистическую по характеру, — но что дело этим не кончилось. Уступки национальным чувствам, сделанные Сталиным перед вторжением Гитлера в Россию и во время войны с ним, как и позднейшее прославление героев именно русской истории свидетельствуют, в какой мере мобилизация подобных чувств оказалась необходимой со временем для нужд советского государства. То же самое можно отнести к абсолютному большинству государств, возникших после окончания Второй мировой войны.
Думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодня ни одно политическое движение, по крайней мере — за пределами западного мира, не может рассчитывать на успех, если не взывает к национальным чувствам. Должен повторить, что я не историк и не политолог, а потому не стремлюсь объяснить данный феномен. Я всего лишь хочу поставить вопрос и показать, что необходимо куда внимательней отнестись к особой ветви романтического бунтарства, столь решительно повлиявшей позднее на наш мир.
МАРКСИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛ В XIX ВЕКЕ
«Marxism and the International in the Nineteenth Century» © Isaiah Berlin 1 1996
пер. М. Рубинштейн
I
28 сентября 1864 г. в Лондоне, в соборе Св. Мартина, было создано Первое Международное Товарищество Рабочих, а несколько недель спустя, в конце октября, был принят его устав. Ныне, спустя сто лет[267], люди, которые принимали этот устав, практически забыты; и не всякий историк XIX в. вспомнит имена Лимузена, Дюплекса, Лесснера, Юнга, Бобчинского, майора Вольфа, — не говоря уже об их биографиях. Возможно, чуть более известны Толен, Фрибур, Варлен, де Пап, Эккариус, Хоуэлл или Кремер. Тем не менее даже их скорее всего скоро бы забыли; но за ними стояла главная, ключевая фигура, создавшая из небольшой горстки людей движение, если не перевернувшее всю мировую историю, то значительно повлиявшее на ее ход.
Карл Маркс жил в Лондоне. Его лидерство безоговорочно признавали немецкие коммунисты — Эккариус[268], Лесснер, Шаппер; в лондонских же кругах это имя было малоизвестно, хотя кое-кто из наиболее продвинутых рабочих вождей и знал, что он — ученый и теоретик революции, занимающийся созданием международной организации. Однако достаточно быстро Маркс вместе со своим соратником Энгельсом вошел в английское рабочее движение и возглавил его, вырвавшись наконец из неизвестности и став фигурой мирового значения.
Есть некоторая ирония судьбы в том, что ключевые моменты в истории мирового социализма — основание 1-го Интернационала в 1864 г. и образование Лениным партии большевиков в 1903 г. в Лондоне- произошли в стране, жители которой ничего не знали о событиях, происходящих прямо рядом с ними, и не подозревали, что их собственная социальная и экономическая история послужит базой для нового учения.
Припомним обстоятельства того времени. Период социальной реакции, последовавший за волнениями 1848 г., в Европе уже закончился. Рабочие движения в 1864 г. были весьма слабы. Успех Лассаля в Германии показал, чего может достичь от природы одаренный человек, поставленный в условия жесткой обструкции со стороны властей и общества, но этот пример уникален. Ни французы, ни англичане, ни бельгийцы, ни швейцарцы, собравшиеся в 1864 г. в соборе Св. Мартина, не имели настоящих политических лидеров. Прудон действовать не мог, он был сослан в Брюссель, Бакунин устраивал заговоры в Англии или в Швейцарии; Маркс же был полунищим ученым, не вылезавшим из пыльных архивов Британского музея, автором нескольких работ, не известным даже профессиональным социалистам, не говоря уже об обычной публике.
Возникает вопрос: каким же образом 1-й Интернационал и его идеологическая база — марксизм — смогли так затронуть общественное мнение и, более того, повлиять на него сильнее, чем прочие движения того времени — христианский социализм, движение Сен-Симона, либеральный реформизм, «Лига мира и свободы»? Ведь большинство из них тоже стремилось облегчить участь униженных и угнетенных, тоже базировалось на ясных, хорошо разработанных учениях, которые не труднее понять, чем марксизм. Короче говоря — что же послужило причиной столь ошеломляющего, невиданного успеха? Само ли учение, или деятельность Интернационала, или и то и другое? Ответа на этот вопрос, даже в общих чертах, у меня нет; сам же вопрос представляется едва ли не более важным для будущего, чем для прошлого.
1-й Интернационал не был в строгом смысле слова марксистской организацией и все время своего Существования причудливым образом объединял самые разные течения — прудонистские, бакунинские, якобинские, популистские и даже такие, которые невозможно никак определить (в основном связанные с профсоюзами); тем не менее его всегда ассоциировали с именем и философией Маркса. Вокруг него создался миф, а мифы для истории важны не менее, чем породившие их факты.
В феномене 1-го Интернационала можно выделить три аспекта: собственно организация; учение Маркса, ставшее основной ее платформой и позже неизменно ассоциируемое с нею; слава ее и известность. Я хотел бы начать с изложения идей, которые провозглашал 1-й Интернационал. Их можно объединить в пять основных групп.
(1) Он был готов осмыслить мировую историю, в особенности же — историю войн, угнетения и страданий, в терминах одновременно естественно-научных и исторических, и видел будущее как царство свободы, равенства и процветания во всем мире, то есть сочетал научные методы, исторический реализм и обещал всем обездоленным лучшую жизнь в будущем, правда — не более ясно и определенно, чем традиционная религия и философия.
(2) Он объявлял конкретные цели, ближайшие и отдаленные, которые человек по природе своей преследует, — в частности, определял врага, с низвержением которого человечество навсегда освободится.
(3) Он четко делил людей на детей света и детей тьмы и выводил отсюда, что судьба детей тьмы предопределена не чьими-то решениями, но объективными, природными фактами, они самой историей приговорены исчезнуть с лица земли, а все попытки спасти их бесполезны и бессмысленны.
(4) Он утверждал, что в любом обществе господствуют интересы правящего класса, а следовательно, общественная мораль неизбежно будет изменена в соответствии с интересами класса нового, поднимающегося, который и победит в борьбе с социальным неравенством и эксплуатацией; интересы этого класса стоят превыше всего, поскольку, в конце концов, совпадают с интересами всего человечества.
(5) Он отождествлял интересы одной группы, или класса, — эксплуатируемого пролетариата — с интересами всего человечества в целом.
Итак, Маркс фактически создал новую, экуменическую организацию, некую антицерковь, с полным концептуальным аппаратом, способным, по крайней мере — в теории, дать ответы на все возникающие вопросы — общие и частные, исторические и натуралистические, моральные и эстетические. Сен-Симон и Конт мечтали о Библии нового движения; Маркс и Энгельс создали ее, обратившись к разуму и чувствам реальных людей, которых объединил постоянно расширяющийся индустриализм, причем люди эти понимали, что у них общие беды и общие интересы. То были рабочие заводов и фабрик в городах, крестьяне в деревнях — словом, те, кто не владел своими орудиями производства, те, чьи условия жизни во второй половине XIX в. представляли так называемый «социальный вопрос».
Я не стану излагать принципы марксистского учения, и без того знакомые читателю, но хотел бы отметить, что их метафизический фундамент позаимствован Марксом у Гегеля и у классической философии, а сам Маркс даже не пытался его обосновать: это монистическая концепция истории, важная не столько сама по себе, сколько из-за того влияния, которое она оказала на общественную мысль.
Русский последователь Маркса Плеханов был абсолютно прав, говоря, что для Маркса, как и для классических философов, реальность — это единая рациональная система. Те, кто так думает, объясняют факты истории и окружающей среды в терминах единой, всеохватной системы законов, которые управляют миром и которые нужно постигнуть (при этом каждая философская школа объявляет, что обнаружила какие-то новые, доселе не изученные законы). Кроме того, марксизм утверждает (сближаясь в этом месте с позитивизмом Конта), что именно в этих законах, и только в них, причина всех заблуждений, всех ошибок, всех страданий, наполняющих человеческую историю[269]. Более того, эти законы определяют, что прогрессивно, а что реакционно, то есть что соответствует исконно присущим человеку целям, а что им противоречит. Марксизм зиждется на положении, что все человеческие проблемы разрешимы и что люди по природе своей стремятся к миру, а не к войне, к гармонии, а не к хаосу, к единству, а не к разъединению. Конфликты, ссоры, соревнования — на самом деле проявления болезненные, хотя, возможно, неизбежные на данной стадии человеческого развития просто потому, что не соответствуют общим целям, к которым стремятся все люди и которые, собственно, и делают людей людьми.
Учение об общих для всех людей целях уходит корнями в учение Аристотеля и в Библию, а также в идеи Фомы Аквинского, Декарта, Лютера и парижских атеистов XVIII в. Идея общих целей позволяет говорить о разочарованиях, деградации, извращении человека. Люди обладают большими умственными и материальными возможностями, осознать которые они могут, лишь прекратив уничтожать друг друга и направив объединенные силы на покорение природы в соответствии с разумом; разум же осознает и изыскивает средства для достижения исконно присущих людям целей, но только цели эти в прошлом искажались, извращались и использовались для угнетения и насилия. Центральное и не подлежащее критике утверждение марксизма гласит, что все человеческие запросы можно удовлетворить, причем так, что один человек сможет достигать своей цели, никак не мешая другим достигнуть своих.
Признать эту теорию — значит отвергнуть все прежние учения, утверждающие неизбежность конфликтов или (как у Канта) предполагающие, что без борьбы нет прогресса, и деревья тянутся вверх лишь потому, что стремятся захватить солнечный свет, лишив света другие деревья. Марксизм — прямая противоположность «социальному дарвинизму», он отрицает сами понятия первородного греха, исконно присущего людям зла, естественной агрессивности, отрицает, что несовместимость различных взглядов не дает установить на земле полную гармонию. Маркс сознательно противостоит всем предшествующим учениям, которые считают целью политической деятельности не достижение какого-то конкретного, статического результата, но бесконечное приспособление к возникающим запросам и нуждам. Последователи этих учений полагают, что для людей совершенно естественно преследовать различные, порой несовместимые цели, но это не так уж плохо, ибо отсутствие единства — плата за свободу. Тогда единственная задача политической деятельности — уменьшать трения, смягчать конфликты, но не стараться полностью подавить их, уложить всех людей в прокрустово ложе, искусственно уравнивая их и в конце концов разрушая их дух. Марксизм такие учения отрицает.
История политической мысли, можно сказать, являет собой историю борьбы двух основных концепций бытования общества. По одну сторону баррикад находятся защитники плюрализма, множественности идей, то есть такого порядка вещей, который требует постоянных сознательных усилий, направленных на поддержание баланса, установление компромиссов. По другую сторону — те, кто считает, что, пока общество раздирает борьба, оно болеет, ибо здоровье проявляется в единстве, мире, в невозможности какого бы то ни было раздора, в осознании общей, единой цели или же нескольких не противоречащих одна другой целей; получается, таким образом, что разногласия допустимы только в споpax о средствах. Это течение представляли Платон и стоики, а позже — средневековая philosophia perennis[270], Спиноза, Гельвеций, Руссо, Фихте и классическая теория политики. Маркс всю жизнь оставался в этом лагере; его идеи о том, что раздоры и борьба присущи процессу общественного развития, — на самом деле вариации на тему прогресса человечества, осваивающего собственные возможности и покоряющего природу.
Из этих классических предпосылок Маркс выводит собственную доктрину, впоследствии завоевавшую грандиозную популярность, объединение теории и практики. Иногда марксизм сводят к трюизмам типа «действие — не просто свидетельство мысли; оно отражает мысли и убеждения намного лучше, чем слова». Это — не более чем карикатура. На самом деле марксистское учение предполагает, что действие — это и есть мысль; то, что человек делает, не свидетельство того, что он думает, это просто одно и то же. Понимать — значит жить, действовать определенным образом, и наоборот. Если знание и понимание принадлежат миру мыслей, то действие заключается в обдумывании; если к реальному миру, то в выборе того или иного поведения. Убеждение, мысль, эмоция, волеизъявление, решение, действие неотличимы друг от друга; это разные стороны одной сущности — воздействия, реакции на мир.
Это положение влечет за собой целую систему взглядов и оценок, касающихся морали, эстетики и политики. Ученики и последователи Маркса не всегда понимали и принимали эту систему, зачастую сводя ее к банальностям. Для Маркса быть разумным значит осознавать самого себя и окружающие обстоятельства, их устройство и собственное отношение к ним. Этот принцип применим не только к человеку, но и к обществу, в которое он входит. Все свойства общества определяются отношениями его членов между собой, а эти отношения, в свою очередь, определяются связью каждого с процессом производства. Понять что-то — значит понять, какую роль оно играет в этом процессе, конечная и неизменная цель которого — удовлетворение потребностей и запросов человека. (Надо помнить, что марксизм не существует без телеологии.) У любой задачи есть одно решение; лишь один путь не ведет к саморазрушению; лишь одна форма социальной политики верна. Главное, чтобы мы стремились к искоренению конфликтов и объединению людей ради покорения природы, но не ради достижения власти над себе подобными; ведь стремление к такой власти противоречит целям человечества — построению гармоничного общества, каждый член которого сможет полностью раскрыться и реализовать все свои возможности. Все же остальные формы нерациональны, то есть так или иначе ведут к крушению. Чтобы знать, как действовать и что делать, человек должен сознавать свое место в производственном процессе, который определяет форму всякого общества и жизнь его членов. Оценки и действия не надо различать, как делают философы, ибо оценка сама по себе — действие. Рациональная оценка — это правильное видение целей, средств, обстоятельств, ситуаций и их участников; познавая их, человек и применяет свои познания. Таким образом, получается, что просто нельзя верно видеть ситуацию и действовать неверно, и наоборот. Не зная, в чем состоит цель и каковы средства ее достижения, мы не сможем действовать рационально.
Это не простой утилитаризм, который предписывал бы рассуждать так: «Мир управляется некими объективными законами; их надо познать, чтобы приспособиться к ним, ибо иначе меня ждет крушение, а ни одно разумное существо этого желать не может». Человеческая мысль всегда восставала против такого подхода, поскольку нередко мораль (или даже политика) предписывает людям защищать свои абсолютные принципы, при этом отказываясь от «благоразумия», даже если их обвиняют в донкихотстве, утопизме или неадекватности. Позиция Маркса, однако же, намного сложнее. Как и Гегель, Маркс считал, что нельзя разделять факты и оценки: любая мысль, любое действие, любое чувство заключают в себе оценку, а система ценностей изначально заложена в человеческое мышление и неотделима от аппарата познания и общения с миром. Понятие беспристрастной оценки, объективного описания мира, а тем более беспристрастия в действии признаются абсурдными. Я наблюдаю мир глазами своей эпохи, своей культуры и, разумеется, своего класса; мое мировоззрение формируют классовые интересы. Реализм и его центральное положение, гласящее, что факты принадлежат объективному миру и могут быть увидены без всякого пристрастия и без всякой оценки, равноценен отказу от того, чтобы видеть в человеке существо, по природе своей преследующее некие цели. Понятие незаинтересованного наблюдателя, на которого не оказывают никакого влияния ни окружающая среда, ни сложившиеся традиции, то есть наблюдателя статического, стоящего как бы над миром, признается нелепым. Хуже того, Маркс полагал, что всякая попытка беспристрастно взглянуть на мир — это уход от реальности, то есть то, что Сартр называл «дурной верой». Следовательно, разумны лишь та оценка и то заключающее ее действие, которые основываются на верном восприятии действительности и места данного человека внутри исторического процесса, определяемого каким-либо доминирующим фактором (будь то Бог, законы природы, государство, Церковь или классовый интерес), и обеспечивают правильные средства для достижения целей, к которым человек не может не стремиться — «не может», однако же, не в том смысле, в котором, скажем, он не может не переваривать пищу, а в том, в каком невозможно не достичь правильного заключения, применяя нужные методы логики, или невозможно не защитить себя от грозящей опасности.
Лихтхейм был абсолютно прав, утверждая, что Маркс не призывал к революции не потому, что считал ее и так неизбежной, но потому, что, веря в ее неизбежность, был убежден, что напряженность между новым состоянием производительных сил и старыми политическими и экономическими силами рано или поздно станет неприемлемой для сознательных людей, понимающих, каким должно стать — и станет — новое общество[271]. Таким образом, конфликт между возрастающим обобществлением орудий производства (то есть разумной, сознательной деятельностью людей, направленной на достижение исконно присущих человеку целей), с одной стороны, и необобществленными средствами распределения (то есть пережитками пройденной фазы экономического развития) должен разрешиться взрывом. В этом — глубокий смысл сентенции: «La raison a toujours raison»[272], которую любил Плеханов. Растущая напряженность, полагал Маркс, непременно породит революцию общества против собственного невежества и собственных заблуждений, заставляющих поддерживать институции, появившиеся некогда по необходимости, но давно уже переставшие отвечать своим задачам и превратившиеся в препятствия на пути человечества. Вообще говоря, подобных тягот избежать невозможно, но они вполне объяснимы в терминах человеческой натуры без привлечения каких-либо сверхъестественных причин. Пьеса написана заранее, но играют ее настоящие актеры, а не марионетки, и свое поведение они определяют сами. Роли расписаны, но актеры произносят их от себя, поскольку действуют сообразно своим собственным целям.
Такая система взглядов кажется, на первый взгляд, вполне понятной и обоснованной, однако она содержит серьезное внутреннее противоречие, которое не все последователи Маркса готовы были признать. Итак, действия и оценки — одно и то же; людей формирует взаимодействие исторических, социальных и природных факторов, а их системы ценностей — задачи, которые история ставит перед разумными существами, помимо своей воли преследующими некие общие цели; люди осознают эти цели и стремятся их достичь.
Пока все прекрасно. Но если история — процесс постоянного изменения, если люди, преследуя свои цели, изменяют не только среду, но и самих себя (как доказывал Маркс вслед за Гегелем), если центральная движущая сила истории — классовая борьба, тогда и сами цели не могут оставаться одними и теми же: они меняются постольку, поскольку изменяются межклассовые отношения и отношения внутри класса. (Вторые отображаются первыми, поскольку классы — это множества индивидуумов.) Значит, универсальных, единых для всех целей нет и быть не может. Любой принцип, любая цель, почитающиеся важнейшими и священными, могут быть на следующей ступени развития отброшены ради новых, и люди не в силах это предвидеть именно потому, что сами не остаются неизменными с течением времени. Так будет до тех пор, пока общество не достигнет высшей точки своего развития и не закончится период, называемый Марксом «предысторией».
Согласно этой концепции, самая главная цель человечества — достижение полной свободы, а прогресс отождествляется с торжеством одной группы людей, пролетариата, единственного носителя этого прогресса. Интересы пролетариата стоят превыше всего, поскольку в конечном счете они представляют собой интересы всех людей. Однако — и это очень важно — поскольку эти интересы и конкретные запросы принадлежат пролетариям, которые вместе со своими взглядами, идеалами, системами ценностей пребывают в постоянном движении, невозможно предсказать, как они будут изменяться; может случиться и так, что новые цели будут прямо противоположны нынешним. Именно это особенно задевало тех, кто находил в учении Маркса признаки аморальности и деспотизма. Герцен, Бакунин, Кропоткин, Лавров, Мартов, Роза Люксембург и Карл Либкнехт, признавая верным классовый подход к истории, не могли смириться с мыслью, что человеческая система ценностей напрямую зависит от конкретных ситуаций и может быть попросту выведена из данных обстоятельств[273]. Они отказывались принять аксиому о том, что интересы пролетариата (такие, как их понимал Маркс и его последователи) служат компасом, указывающим на верные с точки зрения морали и практики действия. Иными словами, выходило, что истина отождествлялась с непрестанно меняющимися интересами пролетариата, как прежде отождествлялась с предписаниями священнослужителей в тех религиях, где Церковь почитали единственным и непогрешимым светочем.
В трудах некоторых мыслителей можно найти такое рассуждение: когда в реальных странах полностью игнорируют интересы крестьян как реакционного класса, или когда во имя исторической диалектики лидеры рабочих партий угнетают своих членов, или когда отдельных людей или целые институции объявляют врагами человечества и против них провозглашается война, разрушающая все жизненные устои (как было в 1914 и 1941 гг.), или когда во имя Революции попирают права человека (а к этому в 1903 г. призывал Плеханов), или когда целый народ вынужден покориться диктаторам и узурпаторам, а то и терпеть настоящий геноцид — словом, когда происходят вещи, приводящие в любом обществе рано или поздно к полной дискредитации коммунистических партий, поднимается протест, основанный на вере в некие ценности, пусть и не абсолютные, но стоящие превыше изменчивых интересов одного экономического класса. Именно за такой образ мыслей фактически предали анафеме Гесса, Грюна, Прудона и анархистов, ранних еретиков от марксизма. Ортодоксальный марксизм не мог стерпеть универсальных ценностей и идеалов, о которых говорил Бернштейн.
Именно его ревизионизм, приверженность идее универсальных, неизменных ценностей, были особенно страшны для марксизма, а вовсе не те обвинения во лжи и тактических и стратегических ошибках, которые предъявлял он последователям Маркса. Бернштейн противостоял марксистскому учению, поскольку полагал, что люди способны понимать друг друга вне зависимости от времени и пространства, которые их разделяют, ведь базовые ценности у них одни и те же. То, что говорили древнееврейские пророки, древнегреческие или средневековые философы, мыслители Индии, Китая, Японии, доступно европейцам, хотя производственные системы древних обществ разительно отличались от современной. Сам Маркс, как явствует из его трудов и речей, это признавал, однако в его учении содержатся прямо противоположные идеи, или, по крайней мере, так толкуют марксизм отдельные фанатики. Жюль Гед, отказавшийся поддержать защитников Дрейфуса по той причине, что дело это — внутренний конфликт буржуазии, действовал как истинный марксист; ведь настоящий, верный последователь умеет не видеть того, что ему запрещают видеть, и в повседневной жизни руководствуется лишь своим учением. Соответственно, когда Мартов и его соратники обвиняли Ленина в «бесконечном цинизме», они были не совсем правы. Главным делом его жизни была победа пролетарской революции, как он ее себе представлял; поэтому все свои действия он оценивал лишь с точки зрения того, как они согласуются с интересами революции. Только ими руководствовался Ленин, проводя заведомо нечестную тактику на съездах Российской социал-демократической рабочей партии, поощряя шантаж и даже вооруженные ограбления. Цинизм ли это? Если да, то только по отношению к системе ценностей, не совпадающей с сиюминутными интересами пролетариата. Иначе это не цинизм, а правильное поведение революционера-марксиста. Ленин совершил много ошибок, и тактических, и теоретических, его можно обвинить в неверном понимании интересов класса, которому он служил, но наибольшую критику у его противников — левых социалистов, например Розы Люксембург и Мартова, — вызывало не это, а поступки, попирающие и социалистические идеалы, и моральные устои. Что же это за моральные устои? Какие положения Маркса (или Энгельса) отрицал Ленин в действиях или в теории?
Ленин отошел от марксистского учения единственный раз, захватив власть и отринув теорию о том, что общество должно быть достаточно развитым в промышленном отношении для того, чтобы породить технически оснащенное пролетарское большинство. Но это, в конце концов, лишь теоретическое расхождение. Разве это цинизм или жестокость? Те, кто так использует эти слова, основываются на старой морали, не совместимой с революционной моралью Маркса, которой его последователи, воспитанные на ранних работах, не придают должного значения.
Мысли Маркса всегда был присущ эволюционный релятивизм. Своей силой и мощью марксизм обязан главным образом тому, что в нем самым смелым образом сочетаются абсолютный авторитаризм и эволюционная мораль; марксизм полагает, что люди в борьбе за власть над природой изменяют и ее, и самих себя, и свои системы ценностей, но в каждое время существуют абсолютные ценности, которые провозглашаются вождями этой борьбы, то есть на самом деле лидерами коммунистических партий (Энгельс, Каутский и Плеханов оспаривали это, и учебники по марксизму составлялись в большой степени под влиянием их толкований марксистского учения). Относительность — центральный момент всей теории: каждая стадия борьбы имеет свое историческое значение, не тождественное значению других стадий. То, что Маркс презрительно называл буржуазными ценностями, не абсолютное зло, противостоящее какой-то объективной морали. Просто они принадлежат буржуазии и потому не могут обеспечить правильного взгляда на вещи и правильной программы действий, тормозя человечество на пути к прогрессу. Истина же лежит в мировоззрении наиболее прогрессивных представителей своего времени — то есть тех по определению, кто отождествляет свои интересы с интересами наиболее прогрессивного класса данной эпохи. Их действия доказывают, что они смотрят на вещи правильно; верно воспринимая и толкуя историю, эти люди успешно открывают остальным глаза на истину и на истинные цели человечества. Можно привести такое сравнение: команды капитана все время разные, но экипаж выполняет их беспрекословно, веря, что капитан всегда прав, поскольку только он знает, куда и как нужно плыть. Прежде в работах светских, нецерковных мыслителей еще не встречалась идея отождествления истины с действиями конкретной группы людей, а в рассуждениях богословов фигурировали, разумеется, лишь сверхъестественные силы. Маркс сделал значительнейший для последующей истории шаг, установив превыше всего не Бога, но историческое движение; именно оно становилось точкой отсчета, а те, кто его анализировал, становились провозвестниками истины. Марксизм предполагает власть группы над индивидуумом, что в тех обществах, где марксизм — господствующее учение, оборачивается на практике властью партийных лидеров над простыми партийцами[274]. В этих обществах марксистские истины вытеснили прежнюю «объективную истину», которую каждый человек мог искать и проверять для себя. Здесь марксизм сближается с догматами некоторых мировых религий, и с ним не могут равняться учения Конта или Сен-Симона, не говоря уже о либерализме, утилитаризме или демократическом социализме, то есть об антиклерикальных учениях, наряду с марксизмом занимавших сознание европейских либералов и революционно настроенных людей (особенно тех, кто видел в марксизме приложение законов естественной науки к изучению общества). Марксизм освобождал своих приверженцев от старой «буржуазной» морали, как желали Ницше и Нечаев. Разумеется, из этого не следует, что отдельно взятые марксисты (по крайней мере, прежде) не могли быть порядочными людьми. В их порядочности никто не сомневался; иногда, впрочем, напрасно.
II
Жить — значит действовать. Действовать — значит стремиться к каким-то целям, что-то принимать, что-то отвергать, чего-то избегать, чему-то сопротивляться, что-то защищать. Сознательные индивидуумы отдают себе в этом отчет, менее сознательные просто живут и действуют. Системы ценностей, таким образом, как бы вплетены в ткань жизни, которая включает мысли, чувства, желания; мы не можем наблюдать за миром извне, не можем сами выбирать себе ценности и идеалы, как товары на прилавке. Еще Аристотель говорил, что люди, приходя в мир, приходят в общество. Мы принадлежим миру и обществу самим фактом своего существования; мы осознаем себя, свое положение и можем осознавать противоречие между реальными обстоятельствами и собственными идеалами и желаниями или между целями и средствами. Быть разумным — значит стремиться к сокращению этих противоречий, глубже понимая факты реальности. Для идеалистов-гегельянцев факты состоят в духовно-культурном процессе деятельности, для материалистов факты — это материальные объекты, правила, по которым они существуют, усилия конкретных людей (и сами люди, естественные объекты), направленные на достижение власти над этими объектами и друг над другом. Люди стремятся к полной независимости от неконтролируемых факторов природы и к тому, чтобы извлечь из природы все, что только можно; в первую очередь это пища, кров, защита от опасностей, а вообще — все, что человек только в силах взять. Тем самым не надо разделять факты и их оценки — то есть описания того, что есть, и того, что должно быть. Любое описание действительности подразумевает какое-либо отношение к описываемому. Люди не находятся в статическом состоянии, они постоянно движутся в некотором направлении, которое можно верно или неверно себе представлять. Но любое описание заключает в себе оценку, то есть отсылку к окончательным целям движения. Цели эти мы не выбираем, они присущи нам как людям изначально, и определяют наш выбор.
На этом метафизическом фундаменте базируются аристотелевское и гегелевское учения, да и младогегельянцы 1830-х гг. его не отвергли бы. В концепции истории как бесконечной классовой борьбы тоже нет ничего принципиально нового. Сам Маркс признавал, что такой подход был мощным орудием в руках французских историков-либералов, которые объясняли всю историю через конфликт классов, а классы выделяли по экономическим критериям. Единственное новаторство Маркса — в том, что он рассматривает буржуазию и пролетариат как исторические категории, которые должны появляться и исчезать на определенных стадиях исторического развития. Пролетарии — это класс рабочих, отчужденных от орудий, от сырья и от результатов своего труда: всем этим владеет не рабочий, а его хозяин. Хозяин — фактический рабовладелец, хотя института рабовладения формально и нет, а рабочая сила — рыночный товар, такой же, как любой другой. Таким образом, пролетариат утратил свои социальные и морально-этические функции в обществе, он перестал быть частью общества, вносящей наравне с другими свой собственный вклад в общее дело. Маркс полагал, что рабочая сила превратилась из человеческой способности в сырье, в материал для эксплуатации, то есть в такой же товар, как шерсть, кожа или машины; что бы ни говорили об этом, рабочие — простые носители рабочей силы, а не класс людей, ради которых в конечном счете все и делается или, по крайней мере, должно делаться[275]. Этот тезис имел важнейшие следствия и в политическом, и в этическом смысле.
Во-первых, руководствуясь им, можно было с легкостью определить главного врага. Движущей силой истории считалась классовая борьба, ненормальное состояние общества, возникшее из разделения труда (как доказывали и Маркс, и до него Адам Фергюсон); разделение труда возникло из борьбы человека за власть над природой, борьба же эта, в свою очередь, обусловлена физическим и психическим устройством человека, а шире — фактами, относящимися к области естественных наук. Из признания классовой борьбы движущей силой человеческой истории вытекает, что один из двух сражающихся классов (Маркс утверждал, что основных классов именно два, тогда как Гегель допускал, что их может быть больше) воплощает прогресс, то есть наиболее позднюю стадию процесса овладения природой, а его противник представляет более раннюю ступень, дальше отстоящую от общей цели. Следовательно, второй класс надо уничтожить целиком прежде, чем появится возможность еще на один шаг приблизиться к цели, абсолютная ценность которой для данной стадии развития не подлежит сомнению. Традиции, верования, идеалы, институции и религии — неотъемлемая часть исторической ситуации; это — и элементы, и самые явные признаки стадии, на которой находится классовая борьба. Идеалы и моральные устои — сознают это люди или нет — оружие в борьбе. Классы отстаивают свои интересы, которые нередко замаскированы под универсальные, вечные и неизменные ценности, хотя на самом деле это именно интересы отдельных классов, связанные с конкретными обстоятельствами и конкретным временем. Разоблачить мнимые ценности — значит сорвать с них маску, «демифологизировать» их.
Однако самое смелое утверждение Маркса — это отождествление интересов одного класса с интересами всего человечества. Все прежние классы — и восточные деспоты, и римские всадники и патриции, и средневековые феодалы, и современные Марксу магнаты-капиталисты — преследовали свои собственные интересы. Лишь один класс, класс униженных и угнетенных пролетариев, самый низший класс, представляет человечество как таковое. Его интересы не выходят за рамки естественных нужд человека и не входят в противоречие с интересами других групп. Не владеющие ничем, кроме собственной жизни, пролетарии желают и требуют именно того, что нужно всем людям, чтобы жить по-человечески.
Из таких рассуждений следует важный вывод. Все классы, за исключением одного, обречены на исчезновение вместе со всеми своими интересами и целями, даже если те кажутся вечными и непоколебимыми. Вместе с классами должны исчезнуть и общественные институции, обслуживающие их нужды, хотя бы эти институции и казались воплощением правосудия (как юридическая система), общих законов спроса и предложения (экономическая система) или истинного понимания человеческого удела (церковь и священство). Классовый характер этих институций и установлений можно легко обнаружить, история полна таких примеров. Но есть один класс, пролетариат, чьи интересы, не замаскированные ни подо что другое, разделяют все люди, а потому интересы пролетариата — интересы всего человечества. Если все прежние институции и верования представимы в виде сознательной или бессознательной фальсификации действительности — обмана, самообмана, иллюзий, так или иначе направленных на утверждение власти привилегированного класса над остальными, то одна система взглядов, одна форма социальной структуры не связана с ложью и обманами — это мировоззрение и социальная структура рабочего класса или, по крайней мере, тех людей, которые целиком осознают положение и перспективы пролетариата, хотя сами могут и не быть его представителями. Такие люди не обманываются фантазиями; вместо иллюзий у них — верное мировоззрение и четкая программа действий. Интересы класса перестают быть «просто интересами», когда они уже не сталкиваются с интересами остальных; тогда они становятся главной целью человечества. Знание истины, которое прежние религиозные учения находили в душах верующих, в священных книгах, в словах пророков и в духовном озарении, Маркс находил в умах и поступках рабочих, а те (не без его помощи) осознали мир, в котором живут, его механизмы и направление его движения.
Невозможно переоценить политические последствия этих выводов. Маркс показал озлобленным, бедным, угнетенным рабочим их врага — буржуя, капиталиста-эксплуататора. Он призывал униженных к священной войне, давая им не только надежду, но и конкретные руководства к действию. Это не призывы к самообразованию (как у Конта) или к давлению на власть в рамках законности (как рекомендовали Милль и либералы). Отныне рабочие видели впереди не туманное блаженство будущей жизни в награду за страдания в этой (как сулила им церковь), а беспощадную и кровопролитную войну, в которой будут и страшные битвы, и поражения, и смерть, но которая рано или поздно закончится победой, ибо так предрешено изначально.
Раньше, до Маркса никто такого не слышал. Прудон, проповедовавший схожие идеи, питал слишком сильную ненависть ко всякой централизации и потому выступал против организованной деятельности; для Маркса же, как для Бисмарка, было ясно, что силе можно противопоставить лишь силу. А в современном Марксу обществе силой оказалась бы массовая организация, насчитывающая как можно больше членов, способных сражаться и политическими, и военными методами, выдерживать и отражать натиск. Цель борьбы — уничтожить все институции врага, а добиться этой цели можно лишь насильственным путем, то есть устроив революцию. При этом цели победителей могут быть и собственно политическими; Маркс (как и Бакунин) всегда считал государство инструментом угнетения, который нужно уничтожить, как только представится возможность. А вот методы борьбы должны быть именно политическими, ибо политическая борьба — главное оружие в современном мире (по крайней мере, в Европе): таким сделала его нынешняя фаза производственного процесса и классовой борьбы. Учение Маркса обеспечивало конкретную программу действий для рабочих и даже давало им новое миросозерцание, новый моральный кодекс, новую систему ценностей, которой можно было теперь измерять все, что исходило из других источников — христианской церкви, либерального атеизма, национализма, словом, из всех учений и систем, формирующих общественное мнение.
Здесь я хотел бы остановиться и рассмотреть это подробнее. Уникальное достижение Маркса состояло в том, что он рассек мир на две половины, причем сделал это еще более жестко, чем христианская религия, делившая всех людей на верных христиан и язычников. Начиная, пожалуй, с древнегреческих стоиков в западном мире бытовало общее убеждение, что существуют некие ценности, общие для всех людей. И христиане, пытавшиеся обратить в свою веру язычников, и протестанты, противостоявшие католикам, твердо верили: любой человек, если только он умственно полноценен, способен понять любого другого человека, и если тот находится в заблуждении, его можно вразумить с помощью различных доводов, пусть даже в самых серьезных случаях для того, чтобы исцелить запутавшегося в ереси и иллюзиях, потребуются насилие, пытки или смерть, освобождающая душу несчастного еретика и дарующая ему сладостный свет неземного мира, который сияет равно для всех людей. Даже войны и революции проходили под знаком этой идеи; предполагалось, что противник рано или поздно сдастся, поняв, что для него же лучше признать поражение и согласиться на условия победителей, нежели сопротивляться, — ведь каждый разумный человек умеет определять, что для него хорошо, а что дурно. Аргументы, которыми воздействовали на противников, могли быть самыми разными — от универсальных духовных ценностей до научных фактов, но общая идея оставалась неизменной: между людьми всегда возможен контакт. Даже террор и насилие имели целью (по крайней мере — в теории) склонить людей на сторону тех, кто террор производил; прямому же уничтожению подлежали немногие — неизлечимо больные, фанатики, сумасшедшие.
Однако если принять теорию классовой борьбы, концепция эта окажется неверной. Если мою личность и мировоззрение полностью формирует моя принадлежность к определенному классу, если все действия диктуются его интересами, а он борется с остальными классами за выживание, то я просто не в силах посмотреть на мир глазами другого класса, без уничтожения которого не выживет мой собственный класс. Человек — то, чем его делает положение его класса в истории, следовательно, ему просто не понять тех, кто говорит от имени другого класса. Он может их выслушать, но будет переводить все слова на свой язык, укладывать их в свои схемы и поступать соответственно; таким образом, никакого контакта установить не удастся. А если это так, не стоит и пытаться объяснять другим их ошибки; бесполезно спорить с ними, бесполезно надеяться, что они поймут безнадежность своего положения, осознают, что приговорены к гибели самой историей, и, сложив оружие, спасут самих себя. Нелепо показывать им их собственное уродство, ведь это предполагает, как минимум, наличие общих критериев оценки и общей морали, а их по определению не существует, поскольку у каждого класса — своя собственная мораль.
Такая концепция переворачивает вверх дном все прежние представления и сводит к нулю идеи рационального диспута и добровольного компромисса между враждующими сторонами, на котором основывается вся система демократического правления. В обществе, расколотом на классы, в принципе не может быть компромисса между классами, стремящимися лишь уничтожить друг друга. Ненависть, обусловленная историческими причинами, сметает традиционные понятия единого государства, общества, правительства, морали, политики. Тех, кого история приговорила к гибели, она лишила способности видеть и понимать; они — словно язычники, которых древние евреи безжалостно вырезали, считая, что такова воля Божия.
О классовой борьбе говорили и до Маркса — Сен-Симон, Фурье, Оуэн, «истинные социалисты» Гесс, Родбертус, Прудон, Бакунин. Однако они верили в возможность мирного решения: если все стороны приложат достаточно усилий (как бы тяжело это им ни давалось), то неправая сторона поймет и подчинится. Сен-Симон полагал, что якобинского террора времен Великой французской революции можно было избежать, обладай якобинцы и «толпа» хоть каплей разума, чтобы оставить в живых Лавуазье и Кондорсе и принимать их советы, вместо того чтобы казнить первого и вынудить к самоубийству второго. Для Маркса эти взгляды были образцом неправильного подхода к истории, они сводили к абсурду все учение Сен-Симона и остальных мыслителей, утверждавших примерно то же, — ведь такой подход вступал в противоречие с тезисом о том, что вся история есть история классовой борьбы. Из этого тезиса вытекает, что людей формирует объективная историческая ситуация, в которой они живут, и она же заставляет их видеть одно и не видеть другого: скажем, интересы якобинцев были совершенно несовместимы с интересами класса, к которому принадлежали и который представляли, пусть и невольно, Лавуазье и Кондорсе. Классовое сознание — это, для Маркса, все.
Я хотел бы проиллюстрировать это утверждение тремя образами. Допустим, я поднимаюсь по эскалатору вверх. Тогда я могу смотреть на то, что делается внизу, без всякого страха; если я верно оцениваю и прогнозирую события, я спокоен, потому что вижу во всем, что там происходит, провозвестие скорой победы моего класса; мой подъем — не иллюзия, а реальность. Но если я спускаюсь вниз, у меня нет возможности видеть факты так, как они есть, поскольку они слишком страшны. Многие философы (по большей части христианские) замечали, что люди не могут слишком долго смотреть в лицо правде; Маркс же полагал, что это относится только к тем, чье поражение неминуемо, то есть к тем, кто движется по лестнице вниз. Они пытаются укрепить свое положение любыми средствами: защищают свои интересы («просто» интересы, то есть классово обусловленные) как универсальные человеческие ценности; утверждают, что институции, обслуживающие их класс, на самом деле вечны и служат истине и правосудию; называют свои системы мировоззрений религией и Церковью, юстицией и системой законов, философией и искусством — словом, преподносят свои эфемерные творения как вечные истины и ценности. Маркс называл эти взгляды «попыткой воплощения», а почитание ложных ценностей и институций как божественных или как естественных и потому непререкаемых — отчуждением. Люди с такими взглядами отчуждены от собственных творений или творений своих отцов, считая эти творения ниспосланными свыше и поклоняясь им, словно идолам.
Второй образ — утопающий человек. Когда кто-то захлебывается и тонет, его, очевидно, не время расспрашивать о температуре воды, а уж тем более о взглядах на мир; утопающий изо всех сил пытается спасти себя, пусть даже его попытки тщетны. Именно так Маркс представлял себе положение буржуазии в современном ему обществе. В силу объективных обстоятельств она оказалась слепа, она не видит реальности, и потому с ней невозможно спорить, а значит, буржуазию нужно предать ее судьбе как можно более безболезненным способом еще до того, как человечество сделает следующий шаг.
Возможно, третий образ покажется самым наглядным. Представим себе психиатра и его пациента. Человек, осознающий реальность и природу классовой борьбы, определяющей мировоззрение и действия классов, — это психиатр, понимающий и себя и пациента; пациент же не осознает ни самого себя, ни врача. Психиатр не боится смотреть в лицо правде, ибо он ничего не теряет; знания помогают ему делать выбор. Это — сознательный пролетарий (точнее, один из вождей пролетариата), который знает, что его интересы — интересы всего человечества и, преследуя свои цели, он открывает всем людям врата свободы. Он ничего не боится; он знает: все, что ни делается, рано или поздно обратится ему во благо. А его пациент, несчастный больной, — это обреченный капиталистический режим. Он не воспринимает действительности, поскольку зрение у него испорчено исторической ролью, и держится за свой бред, поскольку только видения позволяют ему жить и как-то действовать. Если бы только он увидел правду, он понял бы, что обречен. Значит, бессмысленно спрашивать, что он думает о себе и о других. Он бредит, и его галлюцинации представляют ценность разве что для врача, который по ним определяет болезнь; как описания реальности они, разумеется, непригодны. Однако больной может быть достаточно силен физически, чтобы наброситься на врача и даже убить его; поэтому врач должен его усмирить или даже умертвить, если нужно, чтобы обезопасить здоровых людей. Разговаривать же с ним бесполезно, он слеп и глух к доводам разума. Таковы обреченные классы. Эта концепция Маркса одним ударом сносит все понятия о единстве человечества, о возможности рациональных (или любых других) дискуссий между людьми разных взглядов и убеждений — все понятия, стоявшие в центре западноевропейских традиций, религиозных и светских учений, моральных устоев и научных концепций. Марксистское учение стало новым и страшным оружием, поскольку оно предполагает, что целые классы людей в буквальном смысле подлежат уничтожению. Они приговорены самой историей, приговор этот окончательный, и всякие попытки спасти их — бесполезный и неразумный гуманизм. Разумеется, конкретные люди могут и спастись; скажем, Маркс и Энгельс спаслись, вовремя покинув тонущий корабль, на котором были рождены, ради крепкого судна пролетариата. Они перешли на сторону прогрессивного человечества, и многие другие сделали то же самое. Однако сам класс обречен, спасти его невозможно. И точно так же невозможны массовый переход из одной партии в другую, поскольку судьба классов зависит не от воли людей, а от объективных социальных условий, которые уготовили гибель для одного класса и спасение для другого.
Такое неокальвинистское разделение людей на тех, кто может спастись (и в большинстве своем спасется), и тех, кто не может (и в большинстве своем исчезнет с лица земли), было новым и несколько пугающим. Позже, уже в нашем веке, это разделение на «овец и козлищ» перевели на язык расовых различий, что породило катастрофы, равных которым не было в мировой истории. Тот факт, что рационалист Маркс отнесся бы к такому кошмарному, иррациональному истолкованию своей доктрины резко отрицательно, никогда даже не обсуждался. Идея научно обоснованного разделения людей на добрых, которые смогут спастись, и дурных, которые спастись заведомо не смогут, стала поворотным пунктом истории. Учения, которые прямо указывают на врага и провозглашают против него священную войну, объясняя, что, уничтожив этого врага, мы принесем благо всему человечеству, раньше возникали только среди религиозных фанатиков. Но и там оставалась хотя бы мысль о человеческой солидарности: если нечестивец обратится в истинную веру, его нужно принять в стане верных как брата. Марксизм же отрицает и это, оперируя понятием объективных условий и отрицая возможность убедить кого-то с помощью доводов разума. Ни Маркс, ни Энгельс не говорили этого впрямую, однако их последователи наилучшим образом доказали, что поняли учителей — а именно применили учение на практике. То, что сделанные ими выводы имеют мало общего с идеями людей, собравшихся в Лондоне в 1864 г. под председательством профессора Бисли, левого последователя Конта, никак не умаляет исторической важности этих выводов. Ленин, последовательно исходивший из марксистского учения, не изменял ему ни в малейшей степени. Те же, кто не хотел поступать в соответствии с концепцией классовой ненависти, на самом деле отвергли, сознательно или бессознательно, всю марксистскую доктрину. Прудона, Герцена, Гесса и Лассаля называли глупцами и отступниками именно из-за того, что они отказывались отождествить понятие морали с постоянно изменяющимися нуждами конкретной группы людей.
III
Эти рассуждения могут увести нас далеко от марксистского движения в XIX в.; впрочем, нужно еще раз подчеркнуть, что даже самые близкие последователи Маркса (не говоря уже об основателях 1-го Интернационала) не осознавали полную силу его философских идей, богатых, но местами чересчур сложных и не всегда ясных. Мысли, которые я приводил выше, едва ли возникали в головах Толена, Юнга, Оджера, Кремера или даже верного Эккариуса[276], для которых Маркс всегда был просто немецким ученым, мыслителем, борцом за права трудящихся, ненавистником капиталистов и их режима, порождающим такие смелые идеи и такие программы, которые не смог породить никто из них. Даже Энгельс и Либкнехт не видели полностью всей картины мира, которую видел Маркс. Для них марксизм был просто приложением естественных наук (как те понимали в XIX в.) к законам общества. Труды Энгельса отчетливо напоминают контианский позитивизм; он пишет о том, что и природа и люди подчиняются неким неизменным законам, которых они не устанавливали и не могут изменять; постигать эти законы необходимо, чтобы объяснять прошлое и предсказывать будущее. Энгельс превратил доктрину Маркса в материалистически-позитивистскую социологию, законы которой хотя и отличались от предложенных Контом, но все же были законами в том же самом смысле. Все последующие поколения марксистов, начиная с Плеханова, имели дело именно с этой упрощенной версией, которая опускала самый главный тезис марксистского учения — тезис о тождестве мысли и действия. Они использовали термины Маркса, говорили о «диалектике», а Плеханов, как известно, ввел термин «диалектический материализм»; но отнюдь не следует искать в трудах Плеханова, Ленина, Каутского, Лафарга, Меринга или Геда истолкования этих терминов или объяснения того, что значат они для марксистской мысли; все это пришло лишь в ХХ в., когда новые марксисты преподнесли нам нового Маркса, совершенно иного, непохожего на «дарвиниста социальной науки» из заметок Энгельса, — спокойного социолога, описанного Каутским и Плехановым, выдающегося политического деятеля, тактика и стратега, которого рисует советская традиция. Тем не менее кое-что из настоящей философии Маркса пришло и в 1-й, и во 2-й Интернационал; собственно говоря, это и выделяло Интернационал среди подобных ему организаций.
Во-первых, это теория классовой борьбы, раскалывающей общество; у «нас» не может быть с «ними» никаких компромиссов. Такой подход коренным образом отличается от прежних концепций религиозных фанатиков, экстремистов и радикально настроенных политических партий — католиков, кальвинистов, бланкистов, радикальных анархистов. Все они провозглашали абсолютную несовместимость оппозиционных учений, однако допускали, что можно переубедить (и спасти) противника. Разрабатывая обращение к 1-му Интернационалу, Маркс говорил о простых принципах морали и правосудия, которые управляют человеческими отношениями и отношениями целых народов. Однако сам он сознавал, что идет на серьезную уступку идеалистам-либералам вроде Гесса, которые всерьез верили, что существует универсальная мораль. В письме к Энгельсу Маркс писал, что ему пришлось вставить несколько фраз о почитании прав и правосудия, которое «не может принести вреда»[277]. Это не было, как многие полагают, простым выпадом против либеральных и социалистических клише, которые от частого повторения уже потеряли всякий смысл, — нет, в этой фразе видна глубокая ненависть Маркса к «их» морали, то есть к убеждению, что существуют какие-то общие для всех людей окончательные цели.
Это убеждение было для Маркса самой страшной из всех ересей, поскольку оно предполагало возможность контакта и сотрудничества с врагом — не только временных перемирий (которые он считал допустимым тактическим ходом, если за перемирием следует еще более серьезная атака, предпочтительно — с тыла, на чем особенно настаивал позже Ленин), но и настоящего примирения, общности интересов, мирного устранения противоречий. Маркс был твердо убежден, что любая уступка «им» обернется впоследствии гибелью для тех, кто пошел на эту уступку. Он заклеймил Лассали, горевшего точно такой же ненавистью к буржуазии, за убеждение, что рабочим следует использовать в борьбе государство, классовый институт, с помощью которого можно преодолеть классовое сопротивление, и политические методы, с помощью которых удастся приспособить государственную машину к своим собственным нуждам.
Лассаль показал свое истинное лицо во время Франко-прусской войны: он не скрывал, что опасается, как бы война не разрушила европейское общество и европейскую культуру. Таким образом, оказалось, что он верит в какую-то единую для всех европейцев культуру и единое общество, тогда как на самом деле есть только классовая культура и классовые государства, которые, естественно, подлежат уничтожению. Подобное отношение к Германии выказал Плеханов в 1914 г.; он был истинным интернационалистом, — никто не может упрекнуть его в приспособленчестве к царскому режиму, — тем не менее, когда победа Центральных Сил поставила под угрозу основания европейской цивилизации, которой он был предан, он инстинктивно отпрянул в сторону. То же самое произошло с Гедом; для него триумф марксизма был неразрывно связан с антиклерикальными и демократическими принципами, которые защищала Франция, а разрушали Германия и Австрия.
Мне кажется, Ленин был по существу прав, говоря, что Маркс просто должен раскритиковать такие позиции в пух и прах. Он глубоко ненавидел существующее устройство и был убежден, что в царство свободы не войти, пока не будут повержены все вражеские крепости. Рассуждая о гражданских войнах во Франции, Маркс снова и снова настаивал на том, что надо снести монструозную структуру, чтобы никакие пережитки прежних классов не просочились в новый мир. Поэтому он так высоко ставил деятельность профсоюзов (Лассаль полагал, что она препятствует деятельности государства): как бы слепы и реакционны они ни были, в один прекрасный момент они станут представителями пролетарского класса, тогда как государство — структура, целиком и полностью национальная. Б новом мире нет места государству; его следует уничтожить, но, разумеется, не террористическими методами, как предлагают анархисты, а с помощью политической борьбы, единственного действенного оружия в современном Марксу мире.
Это чрезвычайно важно. Всюду, где уважение к государству было заложено в национальную традицию, где оно было неотъемлемой частью мировоззрения и культуры, как во Франции и в Германии, классовая сущность учения Маркса сходила на нет. Произносилось множество громких слов; однако же не только Жорес и Вандервельде, Бернштейн, Давид и Вольмар, но и ортодоксальные приверженцы марксизма Каутский, Бебель, Гед и Де Пап на самом деле не пылали ненавистью к государству и даже были вполне готовы идти на сотрудничество и с ним, и с другими классами. Совершенно иная ситуация была в Польше, в России и в странах Азии и Африки, где государство представляло собой мощный бюрократический аппарат, одинаково давящий и на трудящихся, и на интеллигенцию, и не вызывающий ни с чьей стороны никаких теплых чувств. Этим воспользовался Жорж Сорель; однако это и близко не подходило к учению Жореса — демократическому гуманизму, разумному и всеохватному.