Викинги – люди саги. Жизнь и нравы Сванидзе Аделаида
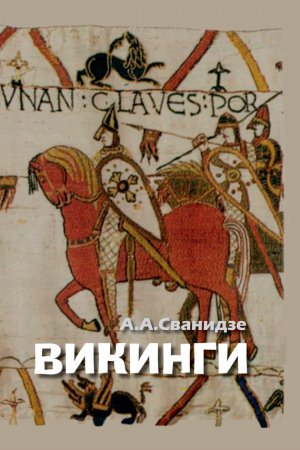
В 20–30-х гг. XII в. священник Ари Мудрый сын Торгильса Мудрого (1067/68–1148) написал на исландском языке свою «Книгу об исландцах» (slendingabk), обнимающую 870–1120 гг. Эта книга имела как более пространную, так и дошедшую до нас краткую редакцию. В 1075–1089 гг. Арии обучался в Ястребиной долине в школе, которую основал священник Тейт (ум. в 1111), сын первого исландского епископа и просветителя Ислейва (1056–1080). А воспитателем его был Халль сын Торарина, который еще юношей служил у короля Олава Святого. Неизвестно, был ли Ари Торгильссон причастен к монастырю Тингэйрар, но на его рассказы и записи как заслуживающие всяческого доверия ссылаются серьезные люди в «Саге о Фарерцах» (гл. XXVII)[32]. Ари Мудрый принадлежал к знатному роду; его внук Ари Сильный был годи и последним знатным исландцем, о которых повествует содержательная, классическая «Сага о людях из Лососьей Долины». Ари считается основоположником исландского историописания. Именно он впервые употребил этноним «исландцы». Авторитетный писатель и историк Снорри Стурлусон свидетельствует, что священник Ари Мудрый сын Торгильса «был первым здесь в стране, кто записал на северном языке[33] мудрые рассказы, старые и новые», а также установил «счет лет сперва до введения христианства в Исландии, а затем до своего собственного времени… В начале своей книги он писал более всего о заселении Исландии и тамошнем законодательстве», затем — о законоговорителях и сроках пребывания каждого в этой должности. Ари написал о создании альтинга и четырех (правовых) четвертей Исландии, событиях крещения, конунгах Норвегии, Дании и Англии, о многих важных событиях в Исландии, в частности о христианизации страны и череде первых епископов, и, по словам Снорри, «о многом другом». Ари был очень стар и очень мудр, за свою долгую жизнь многое видел и слышал, многое запомнил, имел достойных информаторов — людей «старых и мудрых», да и сам «он был любознателен и памятлив». Поэтому Снорри считает «весь его /Ари/ рассказ (т. е. книгу. — А.С.) заслуживающим полного доверия»[34]. (Судя по всему, сам Снорри пользовался полной редакцией этого произведения.)
На латыни создавал свои сочинения Сэмунд сын Сигфуса Мудрого (1056–1133). Он объездил Германию, Францию и Италию, был высокообразован и создал первую историю норвежских королей до смерти Магнуса Доброго.
Из исторических сочинений, в известной мере полезных для данного исследования, следует назвать написанные на латыни книги монаха Теодорика (Theodoricus’ mon Hisrotia antique Regina Norwagiensium) и «Историю Норвегии» (Historia Norvegie). Они интересны прежде всего описанием гражданской войны 1130–1240 гг. как своего рода «ключа» к последующей истории норвежского Средневековья.
Из монастыря Тингэйрар вышла и «Сага об Олаве сыне Трюггви», которую составил известный книжник, монах Гуннлауг сын Лейва (ум. 1219); фрагменты этой саги сохранились в составе «Большой саги об Олаве Трюггвасоне». Она, вероятно, служила образцом для последующих жизнеописаний крестителя Норвегии.
Аббат Николас из другого монастыря, Мунка-твера, построенного в 1155 г. на месте хутора Глума, считается автором замечательной «Вига-Глум саги» (запись 1250/52 гг.), примыкающей к биографическим сагам об Эгиле, Гисли, Греттире, Гуннлауге и других героях. Как и «Сага о Хервёр» и некоторые другие мифологические саги, это замечательное произведение еще не переводилось на русский язык.
Основной массив записей саг приходится на XIII столетие. Если в течение XII в. было записано или написано всего несколько саг из изученных мною, то начиная с рубежа XII–XIII и по рубеж XIII–XIV столетий были записаны и написаны десятки саг и прядей, а остальные записывались в XIV в. и позднее. Примерно такие же данные имеются в отношении «саг о древних временах»[35]. Записи производились на латыни — с последующим переводом на местный язык, либо сразу же — на скандинавском (исландско-норвежском) диалекте. Записывали клирики и светские ученые-энциклопедисты, которые были не только знатоками истории страны и фольклора, но также видными поэтами и писателями.
Взрыв интереса скандинавов к своей прошлой истории и культуре с середины XII и в XIII столетии происходил на широком общеисторическом культурном фоне. В Западной Европе это время отмечается взлетом городской жизни и университетского образования. Приобретает популярность светская литература: куртуазная поэзия и «рыцарские романы» в среде рыцарства, «простецкие» стихи вагантов и басни в среде городской. Очень часто оба этих жанра развивались в фольклорной форме. В европейской литературе появляются такие произведения мирового уровня, как «Божественная комедия» Данте, анонимные «Слово о полку Игореве», «Песнь о Роланде» и «Нибелунги», «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Тристан и Изольда» Готфрида Страсбургского, «Роман о Розе»…[36] В ряд этих шедевров встали и исландские саги. Великая «Песнь о Нибелунгах» (сканд. «Нифлунгах»), созданная на рубеже XIII в. и построенная на древних эпических сказаниях германцев, была особенно близка скандинавам, ее герои перекликаются с героями ряда саг и стихов.
В самом Северном регионе в это время укрепились единые государства, сложились и оформлялись сословия, возник строй уже средневековых городов. Развивается историописание — хроники и собственно исторические сочинения. В Дании в XII в. получает известность историк Свен Аггессон, который создал «Краткую историю королей Дании» (80-е гг. XII в.); а в самом начале XIII в. появляется фундаментльная книга «Деяния датчан»; ее автор, монах из обители Сорё — Саксон (или Сакс), по прозванию Грамматик, писал на серебряной латыни и искусно возводил прошлое своего народа к «прародителю европейцев» — древнегреческому легендарному герою Энею. В Дании создается «Роскильдская хроника», в Швеции — «Сигтунские анналы». С XII столетия в Скандинавии формируются библиотеки, складывается язык национальных произведений. С XII–XIII вв. происходит кодификация обычных областных законов Швеции, земских законов Дании и Норвегии. В законодательные кодексы вводятся особые главы о правах церкви и правообязанностях королей.
Очевидно, что результаты походов викингов, которые ощутимо сказались уже на исходе той эпохи, окончательно обнаружились, даже «конденсировались» именно с середины XII и в XIII столетии, притом как в общественной жизни, так и в духовной культуре скандинавов.
Что же касается собственно Исландии, то в середине этого столетия (1262) она уже формально стала частью Норвегии, на многие века потеряв свою политическую самостоятельность[37]. Нажим королей Норвегии на этот остров начался, как следует из саг, гораздо раньше, и нельзя исключить идею, что обращение островитян к своему богатому культурному наследию было своего рода вызовом, проявлением исландского патриотизма.
В общественной жизни Исландии в это время происходили важные события. Если в эпоху викингов приобретение богатств достигалось преимущественно за счет ограбления других земель и народов, после конца этой эпохи накопленная агрессия обратилась внутрь собственной страны, проявилась в междоусобицах, убийствах, ограблении, разделе имущества соотечественников.
Но затяжная политическая сумятица XII–XIII столетий парадоксальным образом сочеталась в Исландии с несомненным культурным подъемом, что выразилось, в частности, в записи и сочинении саг, в создании новых скальдических стихов и исторических сочинений. В культуре Исландии и Норвегии XIII столетия возвышаются три величественные фигуры, рожденные одним знатным исландским родом: эрудиты, историки, писатели, поэты Снорри Стурлусон и его племянники Стурла и Олав Тордарсоны. Они были крупнейшими знатоками языческой культуры, мифологии и легендарных традиций, скальдической поэзии и саг, и во многом именно им обязан XIII в. могучим взлетом духовной жизни северных скандинавов.
Стурлусоны и Тордарсоны в пространстве саги
Три брата Стурлусона — Снорри, Сигхват и Торд, как и их сестра Хельга[38], происходили из знатного и общественно активного рода хёвдингов и лагманов. Братья были хорошо образованными людьми, особенно Снорри. В его доме было собрание книг, которые после смерти жены Снорри поделил между сыновьями[39]. Хорошее образование получили и талантливые сыновья Торда — Стурла и Олав, которые принадлежали к окружению Снорри и многому у него научились.
Снорри Стурлусон (1178/79–1241) был весьма значимой личностью. Он дважды избирался лагманом (законоговорителем) Исландии, прослужив на этом посту в общей сложности четыре срока (1215–1218 и 1222–1231 гг.)[40]. Большинство сохранившихся текстов Снорри относятся к 20-м гг. XIII в. Он составил обширную книгу, известную под названием «Круг Земной» (Хеймскрингла), что буквально воспроизводит латинское «Orbis terrarium» и так же связано с представлением о круге: круговороте, «колесе» жизни, всего сущего, окружности горизонта, наконец, дисках Солнца и Луны.
В «Круг Земной» вошли 16 саг о норвежских королях, начиная с легендарных сведений о правителях времен Великого переселения народов, включая эпоху викингов и вплоть до собственного рождения, т. е. конца 70х гг. XII в. При этом Снорри опирается на уже записанные саги (например, о св. Олаве) и на сведения поэтов-скальдов, включая многие их стихи в тексты своей книги. Он широко использует обильные фольклорные материалы, в том числе родовые легенды, известные правовые и мифологические традиции и, возможно, какие-то зарубежные памятники. Искусно компонуя этот обширный материал, Снорри создает саги, в совершенстве подражая манере фольклорных саг. Он рисует сложную мозаику политической жизни скандинавского Севера, картину постепенного утверждения монархий в Скандинавии. И его книга, подтвержденная археологическими находками, стала важнейшим исходным пунктом для восстановления внутри- и внешнеполитической обстановки на Севере от эпохи викингов и включая период строительства государства.
Сочинение Снорри позволяет выяснить некоторые конкретные обстоятельства борьбы за престол, достижения и удержания власти королями, характера их правления, а также попутно сообщает некоторые факты и характеристики, касающиеся как внутренней жизни всего Скандинавского региона, так и того, что происходило за его ближайшими пределами. Исследователь находит здесь некоторые сведения о строительстве дорог, об упорядочении дани и ее сборе в королевских имениях, о жреческих функциях конунгов, даже о том, что некоторые из них понимали птичий язык (что перекликается с мифами из «Старшей Эдды»). Много пишет Снорри о христианизации Скандинавии, прежде всего о роли в этом процессе королевской инициативы. Самому Снорри близка идея божественного вмешательства, выраженного, например, в виде вещего сна.
Церковь, ко времени Снорри уже утвердившаяся в регионе, преследовала проявления и пропаганду многобожия, но не мешала описывать языческое прошлое. Снорри в полной мере использовал эту возможность, не проявляя при этом явного осуждения язычников. Он особенно внимателен к обстоятельствам смерти и погребения своих персонажей; это традиционно почтительное отношение связано, конечно, с представлением о жизни после смерти. Снорри как бы погружается в мир саги. Подкупает его увлеченность прошлым своего народа, которым он гордится, глубокий интерес к нему. Что касается языка и стиля писателя, то они безупречны.
Историк, занятый конкретными фактами и событиями того времени, при сопоставлении сведений Снорри с другими источниками обнаружит в его книге и неточности, и ошибки, и анахронизмы. Самый, возможно, показательный пример этого — рассказ Снорри о феодальных реформах, которые автор приписывает харизматической фигуре исландских саг, норвежскому королю Харальду Прекрасноволосому и которые на самом деле не могли относиться ко времени его правления.
Подобно Саксону Грамматику, Снорри связывает прошлое своего народа с миграцией из Трои, это особенно проявляется в его другой книге — «Младшей Эдде»[41]. Он начинает книгу с того, что «Всемогущий господь вначале создал небо и землю, и все, что к ним относится, а последними он создал двух человек, Адама и Еву, от которых пошли все народы» («Пролог»). Примечательно, что даже эрудит Снорри, вполне разделявший идею божественного творения и вмешательства, не вполне точен как христианин, и это дает представление о степени проникновения скандинавов в Библию в его время. Первую часть этого труда занимает обширное «Видение Гюльви», в котором автор искусно обобщил множество мифов; в результате эта песнь стала уникальным «путеводителем» по скандинавской мифологии. Вторую и третью части книги составляет руководство по языку и метрике скальдической поэзии, изощренный стиль которой в XIII в., видимо, был уже не вполне доступен читателю. Возможно, Снорри участвовал и в составлении родовых саг, во всяком случае, его авторству принято приписывать великолепную «Сагу об Эгиле», знаменитом скальде.
Снорри был убит в собственном доме во время очередного побоища между видными кланами Исландии в сентябре 1241 г., как иногда полагают, не без умысла короля Хакона Старого (1204–1261), а его владения разделили между собой родичи и враги. Гибель писателя описана его племянником Стурлой в обширной «Саге об исландцах» (гл. 151).
В свое время Стурла и его брат Олав Тордарсоны, сыновья видного аристократа и хёвдинга, проходили обучение у своего дяди Снорри. Олав сын Торда, по прозванию Белый Скальд (1210/12–1259), прославился как эрудит и лучший поэт своего времени. Его перу принадлежит «Третий грамматический трактат», посвященный стихосложению.
Младший племянник Снорри, Стурла сын Торда (1214–1284), в течение 40–50-х гг. контролировал значительную часть Северо-Западной Исландии, в 1251–1252 гг. был законоговорителем. Он активно участвовал в распрях, охвативших тогда всю исландскую элиту, а также выступал против власти Норвегии и ее институтов. Однако при этом он ухитрился заключить союз с тем же конунгом Хаконом, обещая ему содействовать в подчинении всей Исландии[42]. А благодаря своим стихам, знанию саг и искусству рассказчика Стурла попал в милость к следующему норвежскому королю — Магнусу Хаконарсону Исправителю Законов (1263–1280), при его дворе стал рыцарем. Вернувшись в Исландию (1271), он получил пост лагмана — теперь уже в качестве наместника короля, и стал именоваться «господин лагман Стурла».
При всем этом, оставаясь поэтом, большим знатоком и рассказчиком стихов, саг, разных устных и письменных текстов своего времени, Стурла стал крупнейшим норвежско-исландским историком. По заказу верхушки победившей партии повстанцев — «берестяников» он создал «Сагу о Хаконе Старом», сохранившуюся в отрывках «Сагу о Магнусе Исправителе Законов» и оригинальную версию «Книги о заселении земли», так называемую «Книгу Стурлы», где описываются события VIII–X вв. Он составил и генеалогический свод исландцев — от первопоселенцев до XI–XIII вв.
Созданная Стурлой в последней трети столетия огромная «Сага об исландцах» — типичная «сага о современности» и вполне может служить «атласом междоусобиц». Автор не заботится о красотах стиля. С грубоватой прямотой и откровенностью, натуралистично, подробно, явно стремясь к полной достоверности событий и их деталей, он рассказывает о жестокой и длительной вооруженной борьбе между двумя могущественными кланами исландской знати в условиях надвигающегося господства норвежского короля. Свое изложение он начинает с 1187 г. и доводит до зимы 1264/65 г. Стурла лично участвовал в этой борьбе и включил себя в число ее персонажей, ведя повествование от третьего лица. Эта книга — уникальный по выразительности текст, раскрывающий накал, парадоксы, трагедию междоусобицы, с ее яростью, жертвами, верностью и предательством. Наряду с враждующими мужчинами в борьбу включаются их жены и дети, нередко участвующие в схватках; причем теперь уже не принимается во внимание принцип эпохи викингов — не убивать детей, равно как и принцип неприкосновенности жилища и женщины. Сага содержит немало попутных сведений бытового характера, бесценных для историка повседневности. Материалы о первых десятилетиях междоусобиц Стурла, по его словам, почерпнул в разговорах со своим отцом Тордом[43].
Таким образом, действительность побудила и Снорри, и Стурлу посвятить свои саги политической истории. Но если Снорри, рассказывая о далеком прошлом, все же находит возможности для известной героизации своих персонажей, чтобы придать жестокой личной борьбе некий общий смысл и проявления романтики, нередко и эпическое звучание, то Стурла отказывается от любого проявления романтики. Даже описание родственных отношений и свадеб он заменяет краткой информацией о родстве, свойстве, иных связях союзников — как бы «ставит читателя в известность», чтобы прояснить расстановку сил. Он безжалостно вскрывает сугубо корыстные мотивы групп знати, соперничавших из-за власти, территорий и имений, и не ищет оправданий всеобщему ожесточению. Как и Снорри, Стурла включает в свои сочинения стихи, собственные и брата Олава Белого Скальда.
Загадки саг
При изучении саг возникает немало вопросов и предположений. Один вопрос касается авторства саг, другой — их хронологии, еще один — формы бытования саг, особый — степени достоверности сообщаемых ими сведений; и все эти важные вопросы неразрывно связаны между собой.
Те события, которые легли в основу саг, обычно служат ориентиром для определения истоков саги, ее первоначального образа и обстоятельств создания. И при этом сага могла создаваться как по следам событий, так и много позднее их, как участником события, так и со слов очевидцев или потомков очевидцев, а также иных свидетельств. Например, известно (и об этом говорил, в частности, сам Снорри), что некоторые саги создавались по мотивам скальдических стихов, как, например, «Сага о Названых Братьях», временами буквально повторяющая текст одного из них. Иногда позднейший автор сочинял или компилировал сагу, время действия которой относится к далекому прошлому. Так было, например, с «Сагой о Хальвдане Эйнстейнссоне», автор которой в XIII в. описывает события до 850 г., притом на основе явно неких литературных источников. Аналогична ситуация с «Сагой о Стурлауге Трудолюбивом Ингольвссоне», сыне богатого знатного норвежца Ингольва, одного из первопоселенцев в Исландии. Сага описывает события второй половины IX в., но создана около 1300 г., включает множество сказочных элементов и также основана преимущественно на литературных источниках. Однако она включает детальную характеристику внешности и характера Стурлауга, что подразумевает наличие и фольклорной основы[44]. Эти случаи не вполне типичны, поскольку в подавляющем большинстве записи саг опирались на фольклорную основу, современную описываемым событиям или составленную непосредственно после них. Обычный разрыв между созданием фольклорной основы саги и ее фиксацией путем записи, т. е. перевода из вербальной в письменную форму, включал не менее двух поколений: рассказчик(и) и слушатель(ли) — записыватель(и). Но если фольклорная основа саги возникала в ходе событий эпохи викингов, ее бытование до записи могло продолжаться несколько столетий, путем неоднократной передачи из уст в уста[45].
Так что же происходило с сагой в течение ее существования в устной форме? Насколько и как она могла видоизменяться — и изменялась ли? Какую роль в биографии саги играли те, кто ее записывал, компилировал, редактировал? На какие образцы они опирались? И в какой мере эти последние люди могут являться сочинителями, или соавторами, или создателями саги — из отдельных «кусков» и преданий? Иначе говоря, в конечном счете основная дискуссия вокруг саг сводилась и сводится к их авторству и достоверности.
Бесконечные споры о происхождении, точнее, об авторстве саг ведутся уже два столетия. Исландские ученые во второй четверти XIX в. сформулировали так называемую «теорию книжной прозы». Они считали, что именно записыватели саг, имея дело с бесформенной и противоречивой традицией, придавали текстам форму саги и, таким образом, являлись авторами этих произведений. В XX столетии дискуссия продолжалась, но немецкие и скандинавские ученые выработали «теорию свободной прозы», т. е. полагали записавшего сагу человека не ее автором, а только «фиксатором», как бы «издателем» произведения, имевшего твердую фольклорную традицию. Последней теории придерживаются видные отечественные ученые — исследователь европейского фольклора Е. М. Мелетинский и скандинавист А. Я. Гуревич, а основатель отечественного саговедения М. И. Стеблин-Каменский полагал, что сага была все же записью твердой устной традиции, опосредованной, в известной мере (редакторски?) доработанной теми, кто ее записывал, проявляя тем самым «неосознанное авторство». В полной мере определить соотношение устной традиции и вклада записывающего лица (компилятора, переписчика и т. д.), как и меры изменений фольклорного текста до его записи, невозможно и по сей день.
Еще большие сложности возникают в вопросе об исторической достоверности саг — кто бы ни являлся их автором. Разброс мнений в последние два столетия был велик: от полного отрицания достоверности саг до абсолютного доверия ко всем их сведениям, как набору неоспоримых фактов и положений, удержанных цепкой памятью и стойкими традициями народа. В первой половине XX в., по мере развития интереса к социально-экономическим исследованиям, доверие к сообщениям саг пошатнулось, вплоть до гиперкритического отношения к их материалу[46]. Во второй половине столетия скандинавские историки были склонны относить многие сведения саг преимущественно ко времени их записи. Однако неуклонные успехи археологии и многих специальных исторических дисциплин заставили скептиков усомниться в своей правоте. Подтверждены целые пласты информации, содержащейся не только в сагах, но и в высказываниях о скандинавах Тацита, сделанных за сотни лет до саг, к тому же людьми совсем иного мира.
М. И. Стеблин-Каменский пришел к заключению о «синкретической правде» саг: слиянию в них правды исторической и художественной вследствие особого психологического свойства скандинавов — и авторов, и слушателей саг, — которые стремились к точному описанию действительности. Ученый имел для такого вывода известные основания: ведь для исландца не было большего греха, чем умышленное искажение правды. Особенно достоверными считались — как бы по определению — рассказы очевидцев. Стремление к правде факта, свойственное тогдашним скандинавам, — явление психологического характера, и его важно понять и оценить: ведь им определялись мотивы поведения авторов и рассказчиков саг. Но неумышленные искажения были возможны и наверняка имели место при неоднократных пересказах саг. К тому же не исключено, что творцы письменного текста, работавшие уже в иную эпоху, не были столь корректными в отношении к правде и вымыслу.
В «Саге об Ингваре Путешественнике», записанной не ранее XIII в., упоминается некий Ицлейв, который утверждал, что слышал сагу об Ингваре от какого-то купца, который, по его словам, «взял» сагу при дворе конунга Свитьода, т. е. государя свеев. В другом месте говорится, что «Глум взял [сагу] от своего отца»[47]. В заключительной части саги ее анонимный автор — клирик, скорее всего записыватель, компилятор или переводчик — пишет: «А мы слышали, как рассказывали эту сагу и записали ее на основе древних сказаний тех книг, которые монах Одд Мудрый велел сложить по рассказам мудрых людей». Далее написано, что монах Одд сам слушал рассказчиков этой саги — и священников, и купца, и других уважаемых людей, имена которых он называет и которые, в свою очередь, слышали эту сагу то при королевском дворе, то от старших сородичей. «А те, кто считают, что они знают [сагу] лучше, пусть исправят там, где чего-то недостает» (!)[48]
Текст этого произведения и его сопоставление с вероятной фольклорной основой особенно интересны тем, что раскрывают механизм движения саги: через длительное бытование в вербальной форме — к ее записи или записям. Не подлежит сомнению, что в каких-то случаях могло быть несколько как устных вариантов, так и записей. Что в процессе записи отбирались некие «лучшие» варианты, либо текст составлялся из отдельных частей рассказа/рассказов, либо привлекались некие побочные сказы, либо компилятор что-то добавлял от себя; в результате оттенки, объем и само содержание записи могли в разной степени варьироваться. Что затем, при дальнейших переписываниях текст могли исправить «те, кто считают, что они знают [сагу] лучше». Такие предположения подтверждаются наличием вариантов письменных текстов.
В «Прологе» к своей «Хеймскрингле» Снорри пишет: «В этой книге я велел записать[49] древние рассказы о правителях, которые были в Северных Странах и говорили на датском языке[50], как я их слышал от мудрых людей, а также некоторых из родословных, как они были мне рассказаны. Кое-что взято из перечней, в которых конунги и другие знатные люди перечисляют своих предков, а кое-что из древних стихов и песней[51], которые исполнялись людям на забаву. И хотя сами мы не знаем, правда ли эти рассказы, но мы знаем точно, что мудрые люди древности считали их правдой» (курсив мой. — А.С.). Итак, Снорри, как и автор «Саги о Ингваре Путешественнике», опирается на рассказы «мудрых людей древности» и «древние рассказы». Эти ссылки на авторитеты и давность сведений, вполне привычные в Средние века, в данном случае должны быть приняты во внимание не только как прием или фигура речи. Ведь в повествовательном произведении типа саги это не что иное, как опора на традицию и историческую память народа.
Но не только рассказы использует Снорри: как истинный историк, он привлекает письменные тексты, в частности историческое сочинение Ари Мудрого, источники сведений которого он называет, а также родословия королевских и знатных родов; он опирается на скальдические стихи и эпические песни; принимает советы мудрых консультантов. В частности, он использовал песнь Тьодольва из Хвина, который был скальдом норвежского короля Харальда Прекрасноволосого (последняя треть IX — первая треть X в.) и составил «Перечень Инглингов». Снорри использовал также произведения скальда Эйвинда Финнсона Погубителя Скальдов (ум. ок. 990): «Перечень Халейгов»[52] и поминальную песнь «Речи Хакона» в честь короля Хакона Доброго (ум. ок. 960). Дополнив тексты скальдов Тьодольва и Эйвинда словами «мудрых людей», Снорри и создал свою «Сагу об Инглингах» — первой королевской династии Швеции и Норвегии.
Тот же Снорри уверенно заявляет, что, например, скальды не могли искажать события и оценки, поскольку они произносили свои творения перед людьми, которые хорошо знали, о чем идет речь. Имеется в виду, что даже излишняя хвала была бы для них обидной: ведь она как бы ставила под сомнение величие истинных заслуг; о хуле же и говорить не приходится. Это относится и к сагам: явные искажения могли быть рискованными.
Несомненно, что устная традиция сохраняла основные имена, события и их оценки, ведь не только современники произведения, но и их прямые потомки не потерпели бы заметного искажения смысла. Саги хранят память о методах захвата власти, о репутации отдельных правителей и, разумеется, о религии. Уже с середины XX столетия даже самые серьезные критики текстов саг пришли к заключению, что сагам можно доверять во многих важных случаях. Например, саги достаточно точны, если речь идет о генеалогии родов, топонимах, о судьбоносных битвах, о брачных и семейных отношениях, судебных процедурах, материальной жизни, бытовых нормах и обрядах, о нравах и примечательных судебных прецедентах[53]. Для меня особенно большое значение имеет достоверность обычно отрывочных, попутных сведений о быте и обычаях, чего так не хватает в источниках других типов.
Сельский быт и его психологическая наполненность вообще изменялись медленно, особенно в Средние века и особенно на патриархальном Севере. Сравнение материалов саг и более поздних источников подтверждает живучесть бытовых обычаев, представлений и верований, связанных, например, с почтительным отношением к богатству, труду и трудовым умениям, с брачными и семейными установлениями, с правообязанностями членов семьи, слуг и соседей, а также стойкое уважение к обычному праву, оружию и боевой славе. Таким образом, саги, без сомнения, содержат обширную объективную информацию, в том числе историко-культурного характера. И эта информация уникальна — при том, что для получения некой цельной картины ее детали приходится собирать буквально по крупицам.
Однако роль тех, кто фиксировал саги, создавая тексты путем записи разных историй с чьих-то слов, компилировал разные рассказы или рассказы одной истории разными людьми или составлял саги из отдельных событийных отрывков, как мне представляется, не ограничивалась механическим перенесением устного рассказа или рассказов на писчий материал. Это была творческая работа, тем более сложная ввиду определенных различий между авторами или слушателями фольклорной, в большинстве своем языческой основы саг, с одной стороны, и авторами/компиляторами и слушателями письменных текстов, обычно христианами, — с другой.
Составители письменных текстов нередко выражали свое отношение к тексту, к его содержанию. Особенно явно это происходило, к примеру, когда составитель-христианин записывал эпизоды, связанные с языческими обычаями. Описывая их, творцы письменного текста саг старались хотя бы формально, за счет неких оговорок, дистанцироваться от этих обычаев; но при этом они признавали живучесть таких обычаев и после крещения и, судя по всему, сохраняли объективность при описании «старой веры». Яркий пример — «Сага о Ньяле»: там содержится описание альтинга 999/1000 г., где исландцы согласились принять новую веру, а также сведения о путях привнесения христианской веры на Европейский Север (гл. С — СV). Именно благодаря такому историческому подходу составителей саг мы многое узнаем как о скандинавском язычестве, так и о процессе христианизации в Скандинавии. В этих случаях автор или составитель саги вписывал в текст извинительную формулу типа: «Тогда христианство было еще молодым и не очень ладным и потому…»
В связи с язычеством обращает на себя внимание и другое обстоятельство. Зафиксированный в тексте Адама Бременского и некоторыми изображениями рунических камней обычай человеческих жертвоприношений обойден сагами, хотя о жертвенных животных и жертвенной крови в сагах говорится. В связи с этим можно высказать два предположения. Так, возможно, что в данном случае христиане — авторы письменных текстов не могли переступить через эту роковую грань, через это коренное различие культур, которое отделяло их от авторов фольклорной основы саг, и вывели мотив человеческих жертвоприношений за пределы письменных текстов. Но, скорее всего, уже по меньшей мере с XI в., т. е. после массовой христианизации скандинавов, этот обычай отошел в прошлое, и упор борьбы «передвинулся» на употребление конины.
Иной пример — подход к язычеству в «Саге об Ингваре Путешественнике», о которой речь уже шла выше. События этой саги относятся к 30-м — началу 40-х гг. XI в., когда все Скандинавские страны уже приняли крещение, но язычество было еще очень влиятельным. Герой саги Ингвар Акасон, родич шведского короля, в свое путешествие «на восток», через Русь, где он пробыл будто бы три года, повел целых 30 кораблей. Это путешествие и имена некоторых спутников Ингвара подтверждены двадцатью руническими надписями того времени, обнаруженными на памятниках в Средней Швеции (район озера Меларен), что само по себе большая редкость — и везение для исследователей. Однако имена не вполне совпадают, а сведения о пребывании Ингвара на службе при дворе великого князя Ярослава Мудрого и связанные с сыном Ингвара эпизоды, вероятно, вымыслы компилятора саги; к тому же последний, скорее всего клирик, человек иного времени и преданный христианин, ввел в сагу резкие выпады против язычников, которые приписал героям саги.
Поправки же, сделанные составителями письменного текста саг в связи с менее щекотливыми обстоятельствами, заметить уже почти невозможно. Бывает нелегко заметить и те изменения, которые вносит составитель в социальные и правовые оценки, исходя из отношений и пониманий, свойственных уже его собственному, т. е. более позднему времени.
Таким образом, очевидно, что очень содержательны, интересны, но и весьма специфичны.
Так, хотя саги — произведения литературные, но их основа — история, будь то история человека, рода или битвы. Отсюда общее свойство саг — их органичный историзм.
Далее. Основное внимание саг привлекают индивидуальные человеческие судьбы и их переплетение на фоне событий разного характера, от узкосемейных и соседских — до масштабов страны и выхода за ее пределы. В сагах преобладает интерес к конкретным людям, события выглядят как результат в разной мере осознанной деятельности персонажей или их инициативы. Такой подход делает саги совершенно незаменимым источником по теме, которая интересует автора этой книги, — теме повседневной жизни скандинавов и их менталитета в период, который сами скандинавы оценивают как «героический».
Центральной фигурой саг является знатный или незнатный, но свободный, самостоятельный и самодостаточный хозяин дома, имущества, семьи, некой территории и, обязательно, воин. В сагах мало тем и фигур из городской жизни, что объясняется преимущественно происхождением этих произведений из лишенной городов Исландии, а невнимание саг к темам и персонажам монастырской жизни — хронологией фольклорной основы саг, создаваемой преимущественно до появления в регионе монастырей. При всех условиях родовые саги обнаруживают отсутствие внимания ко всему, что выходит за пределы достаточно сложной сельской среды, жизненных интересов бондов-воинов разного социального статуса, а королевские — к тому, что выходит за пределы политической истории. Таким образом, круг вопросов, достаточно полные ответы, на которые можно найти в сагах, ограничен. Но зато особенно выпукло выступают особенности сельской среды, жизни, поведения и представлений элиты, будь то родовая знать или верхушка незнатных хозяев, среды автономной и самоорганизующейся — основной среды викингов.
Достоверность саг в отношении отдельных элементов, конкретных фактов и дат важна для историка. Но эта книга задумана так, что автору важнее всего понять и представить себе — сквозь содержание исторической памяти скандинавов по поводу людей и событий эпохи викингов — нравственный и физический облик человека того времени и общей обстановки, в которой проходила его жизнь. Как, что, кого, каким образом, почему саги отражают, закрепляют, фиксируют в народном сознании, какие черты образа жизни, институтов, менталитета, отдельных личностей эпохи викингов, да и самой этой эпохи остаются в исторической памяти скандинавов? На эти вопросы саги вполне позволяют дать убедительный ответ.
Содержание саг, складываясь из устной традиции и работы составителей письменных текстов, создавалось на протяжении многих столетий — с VIII–IX и по XIII–XIV вв. Такое длительное бытование саг в качестве одного из центральных элементов скандинавской духовной культуры позволяет оперировать сравнительным материалом на протяжении почти всего этого периода, т. е. рассматривать его в целом, в системе, выделяя принципиально значимые типологические черты, свойственные цивилизации именно этого региона.
Нельзя не порадоваться и необыкновенной географической широте, свойственной исландским сагам. Они содержат в разной мере обильные сведения по Исландии, Норвегии и Швеции, в меньшей мере по Дании; они «заглядывают» на острова Северной Атлантики, в Англию и Ирландию, на Русь и в Византию, во Францию и в Палестину, к финнам, западным славянам и прибалтам. Включая множество сведений по всему скандинавскому сообществу, рисуя жизнь скандинавов в регионально-типологическом единстве (что, отметим, отразилось в отношении к сагам всех скандинавов), саги в то же время обнаруживают обширные международные связи этого региона, которые именно в эпоху викингов позволили людям далекого Севера войти в общеевропейское средневековое сообщество.
Конечно, особенности жизни в Исландии и Норвегии не вполне допустимо считать общескандинавскими. Поэтому автор привлекает материалы, относящиеся к другим странам региона. Благодаря всему их комплексу удается получить общерегиональную картину, в которой различия обстоятельств и уровней развития отдельных стран и областей уступают по значимости этой общей картине; и это корректно, во всяком случае в отношении изучаемой эпохи.
Изобразительные особенности саг
Стоит сказать несколько слов об особенностях саг как литературных произведений. Прежде всего, и это, наверное, главная их черта, саги очень динамичны. Они строятся почти исключительно на действии, а поскольку их действия в основном состоят из схваток, побоищ, судебных разборок и не всегда мирных пиров, то — я здесь повторюсь — многие саги можно назвать «средневековым триллером». Диалоги там редки и вряд ли достоверны, что понятно: ведь устной памяти их невозможно сохранить неприкосновенными в течение столетий.
Герои саг были немногословными, но очень ценили беседу. Нередко сватовство решалось в результате того, что молодые люди, ранее не знавшие друг друга, между собой «разговаривали весь день» или в течение нескольких часов. Если супруги живут мирно, но между ними нет любви, сага замечает: «Они мало разговаривают друг с другом». Разговор, договоренность, умение убедительно, толково говорить высоко ценились во время судебных разбирательств, дипломатических переговоров и в частной жизни людей. Имеющиеся диалоги, пусть и вставленные в сагу одним из рассказчиков или авторов-компиляторов, дают представление о культуре речи скандинава: речи то любезной, то язвительной, обычно краткой, очень точной, выразительной и откровенной. Речевая этикетность в сагах закрепляется и дополняется некоторыми ментальными клише, очевидными при описании героев сказания или битвы. Скорее всего, эти свойства сформировались в период устного бытования саг.
Саги построены в конечном счете по единому стереотипу. Это прежде всего обстоятельные, неспешные повествования о том, «как оно было»; их ритм подчиняет читателя. Рассказ об эпизоде, судьбе человека или нескольких поколений одного рода в обязательном порядке включает описание как событий, так и персонажей. Характеристики персонажей, особенно когда сага рисует образ некоего лица, «складываются» из происхождения, внешности, воспитания, характера и привычек данного персонажа; после такой характеристики действия героя саги выглядят вполне логичными, они соответствуют его образу. Характерно, что саги ничего не говорят об обстоятельствах рождения даже главных героев, но почти обязательно — об обстоятельствах их смерти.
Пейзаж не играет в сагах самостоятельной роли, он описывается, точнее, упоминается только по мере надобности для развития сюжета: например, далеко ли ехали (или придется ехать) и какие препятствия преодолели (или предстоит преодолеть) персонажам саги. В «Саге о Фритьофе Смелом» (гл. XIII) имеется эпизод, который включает описание красот местной природы и приглашение, обращенное к видному гостю, — поехать в лес и «полюбоваться прекрасными местами». Этот эпизод уникален в своем роде и, скорее всего, является позднейшей вставкой.
О чувствах героев почти никогда специально не говорится, и судить об их переживаниях обычно приходится только на основании скупых диалогов, но более всего — действий, которые они совершают. В той же (поздней) «Саге о Фритьофе» взаимная симпатия дочери малого короля Ингеборг и Фритьофа отражена в следующем диалоге. «Ингеборг сказала ему. — У тебя хорошее золотое кольцо. Он ответил. — Верно это». И все ясно обоим! О перипетиях любви — между мужчиной и женщиной, супружеской, братской, родительской, между друзьями, воспитателем и воспитанником — саги говорят немногословно, но не так мало, как принято считать. А некоторые саги включают эпизоды и даже целые повествования, достойные стать основой любовного романа.
Интересен язык саг. Эти рассказы велись и чаще всего записывались на разговорном народном языке, типологически удивительно сходном со сказами крестьянства Русского Севера. Это обстоятельство учтено большинством наших отечественных переводчиков саг с древнеисландского на русский язык.
Конечно, такая особенность формирования саг, как длительное бытование в устной форме до записи, и дает возможность (наряду с известной консервативностью скандинавской общественной динамики в Средние века) выделять и рассматривать в контексте единого протяженного времени период с начала эпохи викингов и до второй половины XIII в.
Интерес к сагам в России
Первые публикации саг в России предпринимались еще к XIX в., но основной массив переводов последовал с XX в. Издание «Саги о Вёлсунгах» Б. И. Ярхо (1935) стало своего рода эталоном перевода на русский язык разговорного языка саг. Интерес отечественных ученых и читающей публики к сагам особенно расширился с середины прошлого века и резюмировался в складывании отечественной школы саговедов. Она возникла как школа скандинавистов-филологов, основное внимание которых привлекали саги как литературные произведения.
Основатель школы отечественных саговедов, крупнейший филолог-германист петербуржец М. И. Стеблин-Каменский, глубокий знаток скандинавских языков, издал первый комментированный сборник современных переводов исландских саг, куда вошли четыре крупных сказания, из числа наиболее интересных и содержательных родовых саг (ИС 1, 1956): «Сага о Гуннлауге Змеином Языке», «Сага об Эгиле», «Сага о людях из Лаксдаля» (в настоящее время принято давать перевод названия местности: «Лососья Долина») и «Сага о Ньяле». Вскоре под его же редакцией вышла еще одна подборка исландских саг (в ИСИЭ, 1973), а также нескольких прядей; и здесь же снова опубликована самая сильная и содержательная исландская родовая сага — «Сага о Ньяле», которая, как и некоторые другие саги, затем вводилась и в последующие сборники переводов саг. Вскоре под редакцией М. И. Стеблина-Каменского и с участием А. Я. Гуревича вышла «Сага о Греттире» (1976), столь же обширная, как саги о Ньяле и Эгиле; и почти одновременно увидело свет замечательное произведение Снорри Стурлусона «Круг Земной» (КЗ, 1980).
В двух последних изданиях деятельно участвовала О. А. Смирницкая, глава московских, а ныне российских саговедов-филологов. Чуть позднее под руководством О. А. Смирницкой выходит перевод «Саги о Сверрире» (1988) и несколько подборок переводов других саг. Прежде всего, это книга «Корни Иггдрасиля» (КИ, 1997), где наряду с сагами помещены мифологические (в переводе В. Тихомирова) и героические (в переводе В. Тихомирова, И. М. Дьяконова и Б. Ярхо) песни и некоторые стихи поэтов-скальдов (в переводе С. Петрова и О. Смирницкой). Самостоятельную ценность представляет помещенная там статья О. А. Смирницкой, сочетающая литературный и исторический подход к публикуемым материалам. Почти одновременно вышел подготовленный ею же двухтомник «Исландские саги» (ИС. 1999/1, 2). А в переводах и с комментариями Е. А. Гуревич увидели свет «Пряди об исландцах» (КИ) и некоторые другие пряди.
Начало нынешнего столетия ознаменовано двумя обширными собраниями переводов саг и других литературных памятников средневековой Исландии, подготовленных А. В. Циммерлингом и с его блестящими обширными комментариями, в том числе исторического характера (ИС II:1, 2. 2000, 2004), а вскоре — его же изданием «Саги об исландцах» Стурлы Тордарсона (2007).
Благодаря напряженной работе этих замечательных филологов и лингвистов на русский язык переведено и откомментировано большинство наиболее содержательных исландских саг. Переводы такого рода — основательная база для собственно исторического анализа.
Из ожидающих своей очереди на перевод — замечательная «Вига-Глум сага» — сага-биография, близкая к сагам о Гисли, Греттире, Эгиле или Гуннлауге. Она записана в середине XIII в. и была издана на древнеисландском языке под редакцией Г. Турвиль-Питера (1960, VGS). Также интерес для данного исследования представляют мифологические саги; одну их подборку (Hervarar saga ok Heidreks) опубликовал на языке оригинала как «Сказание о мече Тюрфинге» И. Шаровольский (1906). Я воспользовалась более полной их публикацией, которую осуществил Л. Леннрут в переводе на шведский язык, хотя и с минимальными комментариями (1995, IMS). Эта подборка, включающая помимо сказов родословия королей данов и свеев, пользовалась и пользуется особой популярностью благодаря авантюрно-приключенческим сюжетам, мифологическим мотивам и стихотворным диалогам. В частности, «Сага о Хервёр» — прозаическое произведение в записи XIII в., восходит к готским героическим песням эпохи Великого переселения народов, к IV–V вв. Там, в частности, отражено воспоминание о битве готов и гуннов на Каталаунских полях в 451 г. Эта сага начала изучаться и публиковалась еще во второй половине XVII в, в том числе известным шведским ученым Улофом Рюдбеком; критическое издание этой книги вышло в 1924 г. Она многократно переводилась за пределами Скандинавии и вдохновила многих авторов на создание разных по жанру произведений.
Что касается отечественных историков, то А. Я. Гуревич уже с 60х гг. прошлого столетия постоянно апеллировал к тем или иным материалам саг во многих своих трудах, и не только как скандинавист, но и как историк социальной психологии. В 70-х гг. к сагам эпизодически обращался С. Д. Ковалевский в своем исследовании проблем возникновения средневекового Шведского государства и общества. В последние десятилетия рассмотрение саг в историческом аспекте реализуется группой историков-скандинавистов РАН во главе с Е. А. Мельниковой, для которых характерно широкое знание сагового материала в целом, особенный интерес к исторической географии и топонимике. Е. А. Мельникова успешно использует саги, в частности, в своих трудах, посвященных представлениям средневековых скандинавов о мире. Г. В. Глазырина опубликовала в историческом аспекте переводы ряда сказов «о древних временах»: родовых саг и прядей (1996), а также «Саги об Ингваре Путешественнике» (2002). Т. Н. Джаксон принадлежат подборки, важные для историков скандинавско-русских отношений.
Пока филолого-лингвистический подход к сагам и прекрасные их публикации по своему объему и общественному звучанию все еще обгоняют исторические штудии скандинавистов; исследования на материале саг редко выходят за традиционные пределы определенных событий, имен и представлений. Но огромное значение этих трудов, их познавательную и культурно-образовательную роль, как и признательность предшественникам, невозможно переоценить. Все, накопленное в этой области, стало для меня закономерной базой собственного исследования.
Несколько слов о моем обращении к сагам. Они пленили меня уже давно. Занимаясь совсем иными сюжетами средневековой скандинавской истории, я нередко читала саги как художественные произведения о давно прошедшей и очень своеобразной жизни. Саги «втягивают», они заражают своей мощной энергетикой. В начале 90-х гг. в качестве опыта я предложила своей студентке на кафедре Средних веков МГУ Т. Бахметьевой написать дипломную работу о некоторых сторонах частной жизни исландцев в эпоху саг. Она успешно трудилась, используя издание четырех больших саг 1956 г.; и я вместе с ней — сначала поневоле, но затем с все большим удовольствием — занималась сагами. Это стало «пробой пера». Даже поверхностное погружение в их тексты делает очевидным, что саги таят в себе широкие перспективы для постановки многих и многих новых проблем. Особенно привлекли меня возможности саг для изучения повседневной жизни скандинавов эпохи викингов — имея, разумеется, в виду отнюдь не только быт, но и самые разные стороны общественных отношений. И тогда я решилась реализовать эти замыслы, тем более что за последние годы объем публикуемых сказаний значительно расширился. К тому же, систематически занимаясь историей преимущественно Швеции и временем начиная с XIV столетия, я в разные годы то и дело увлекалась ранним Средневековьем, в том числе в Скандинавии. Это было то северное рабство, то истоки своеобразия крестьянства или возникновения городского строя, то вопросы ранней торговли и денег, то особенностей приходской жизни. В коллективных трудах «История Дании» и «История Европы» с удовольствием писала об эпохе викингов. Так что в известной мере чувствовала себя подготовленной к тому, чтобы полностью отдаться систематическому изучению скандинавских древностей, включая XIII столетие. Но, конечно же, только с помощью саг!
Поэзия: эддическая, скальдическая, баллады
Истоки литературных традиций скандинавов уходят в общегерманское прошлое, в эпоху Великого переселения народов. К VIII в., когда начинается эпоха викингов, эти традиции предстают в достаточно сформированном виде. Представление о них дает «Эдда» или «Старшая Эдда» — собрание стихотворных мифологических и героических легенд в виде поучений, прорицаний, песней и сказов.
Выше упоминалось о том, что, по свидетельству авторов саг, многие из них создавались на основе произведений скальдов, которые, по авторитетному свидетельству Снорри, ни при каких условиях не могли быть искажены. И вообще стихи вкраплены во многие саги, дополняя и поясняя основное содержание сказа. В некоторых сагах стихов много, подчас встречаются стихотворные диалоги. Повествуя о памятных битвах и прославленных воинах, о могучих королях, их деяниях, щедрости и сподвижниках, о сложных путешествиях и интересных любовных историях, саги то и дело цитируют произведения какого-либо поэта-скальда (др. — исл. skldr), иногда называют и его имя, сообщают некоторые сведения о его жизни или отдельных событиях. Наименование поэта дало название всему жанру скальдической поэзии. В нашем распоряжении имеется стихотворное наследие скальдов, пусть и неполное, и некоторые сведения о самих поэтах. И скальдические стихи, и биографии их творцов — одна из интереснейших страниц менталитета и повседневной культуры скандинавов той эпохи.
Стихосложение и скальды упоминаются еще в «Старшей Эдде» — собрании эпико-героических и мифологических песней. Стихотворчеством (skaldskip) называли поэзию, стихи и сочинение стихов. В «Старшей Эдде» рассказывается миф о «меде поэзии», обретение которого относили к глубокой древности — к эпохе битвы богов (асов и ванов). Так что стихосложение для скандинава — дело древнее, серьезное и почетное.
Песнопевец — так называет себя скальд Видсид, ведущий речь от своего лица в одноименной древнеанглийской эпической поэме; он полагает скальда достойным «славы вековечной» (ст. 54 и cл.)[54]. Певцом называет скальда автор поэмы «Беовульф» (ст. 910). Такое именование поэта не случайно. Скорее всего, стихи, особенно сюжетные, протяженные, скальдами пелись или выпевались, мелодично и акцентированно произносились, на фоне музыкального сопровождения. Думается также, что стихи с выраженным ритмом дружно распевали, например, гребцы на веслах или воины на марше, да и сотрапезники во время застолья. А хлесткие, остроумные стихи становились чем-то вроде частушек и дразнилок. Чаще всего скальдические стихи воспевали вождя и героя, верный меч и сокровища, славную битву, корабль или красивую девушку. Устная передача скальдического стиха и его связь с песней — важная особенность этого жанра. Имеются у него и другие особенности, которые касаются содержания и формы стиха.
Скальдическая поэзия возникла в дописьменную, языческую эпоху, но ее произведения цитируются еще в рукописях XIV–XV вв. Сами же скальды, часто импровизаторы, они же музыканты и своего рода «летописцы», пользовались в обществе уважением и немалым почетом. Родиной этого жанра была Норвегия, где при дворах конунгов и знатных людей в IX–X вв. были скальды, посвящавшие своим господам хвалебные песни. Снорри пишет, что у конунга Харальда Прекрасноволосого, конунга Норвегии, при котором заселялась Исландия, «были скальды, и люди еще помнят их песни, а также песни обо всех конунгах, которые потом правили Норвегией»[55]. Постепенно норвежских скальдов «вытеснили» исландские поэты, и центр скальдического стихосложения перемещается в Исландию, где самые поздние творения слагались в XIV в., а ранние стихи сложены участниками викингских походов X в. Среди скальдов еще оставались норвежцы, но в небольшом числе, и их меньше знали. В Исландии же стихосложение распространилось очень широко[56]. В Дании и Швеции скальдами были почти исключительно исландцы, много реже — норвежцы. Расцвет скальдической поэзии относится к X–XII вв. Вместе с тем считается, что в XIII в. навыки стихосложения, во всяком случае умение сымпровизировать несколько стихотворных строк, были в Исландии чуть не повсеместными[57]. Все видные историки и писатели были тогда поэтами.
Стоит сразу же отметить, что у германцев издревле существовали широкие и прочные традиции эддической поэзии. Свое название жанр получил от «Старшей Эдды» — собрания героических и мифолгических стихотворных сказаний и поэм, восходящих к Великому переселению народов, даже к первым векам нашей эры. Содержание «Старшей Эдды» необыкновенно емко — от мифов о войне богов (асов и ванов) и о божественном происхождении общественных слоев и мистических свойствах владыки-конунга («Песнь о Риге») до подробнейших нравоучительных наставлений по поводу поведения человека в обществе, которые приписываются самому богу дину («Поучения Высокого» или «Речи Высокого»). Многие мотивы «Старшей Эдды» унаследованы от готских преданий, от франков VI–VIII вв., от германских сказаний о Зигфриде, Нибелунгах («Нифлунгах»), кузнеце Вёлунде; они несут память о битвах и героях тех времен. Но оформились песни «Старшей Эдды» позднее, примерно в VII–XIII вв. Запись этого собрания принадлежит, как полагают, анонимному книжнику XII в., но язык сохранившейся рукописи принадлежит XIII в. Эддическими мотивами увлекались и Снорри, и многие скальды, они отражены в некоторых сагах. Следы эддических мотивов можно проследить в балладах. Первый переводчик «Эдды» на русский язык С. Свириденко[58] восторженно писала: «Все сильно и ярко [в „Эдде“], все дышит жизнью». Это эпическое собрание, редкий по емкости памятник языческих представлений, — одна из вершин мировой культуры.
Эддическая поэзия, как и саги, анонимна. В отличие от них скальдическая поэзия — авторская. Авторы стихов известны и, что также важно, узнаваемы, в большинстве случаев их можно идентифицировать. Конечно, скальды имели индивидуальные «почерки». Но выделение скальдической поэзии в особый жанр порождается прежде всего самим строем скальдического стиха, в высшей степени своеобразным. Этот стих имеет строгую метрику, его лучшие образцы наполнены аллитерациями, многими и сложными созвучиями. Стих наполнен мифологическими образами, которые шифруют смысл, требуя от слушателей хорошего знания мифологии. Но более всего усложняют смысл многочисленные кеннинги — сложные, иногда многосложные метафоры, а также переплетение строк стиха, когда по смыслу первая строка может продолжаться строкой третьей и первой половиной строки четвертой, а вторая строка и половина четвертой строки являются вставными репликами[59].
Вследствие этих особенностей скальдический стих не может быть «исправлен»: любое вмешательство в его сложную канву уродует стих, сразу же делает его недостоверным. По этим же причинам вполне адекватный перевод скальдического стиха под силу только хорошему поэту. Дело в том, что, по моему суждению, лучше всего передает красоту и своеобразие исландского стиха свободный перевод, когда при сохранении общего смысла переводчик избегает буквализма и использует особенности и идиомы родного языка для передачи идиом скальда. Такой опыт перевода на русский язык успешно осуществил прекрасный петербургский поэт С. В. Петров[60]; особого внимания заслуживает его умение подчеркнуть изумительные аллитерации скальдического стиха и несколько смягчить сложность переплетения строк. Продуманные переводы стихов, в частности «Речей Хакона» Эйвинда Погубителя Скальдов, предложены О. А. Смирницкой в издании «Корни Иггдрасиля», которое она возглавила.
А. В. Циммерлинг разработал особую и, на мой взгляд, в своем роде универсальную систему перевода скальдического стиха, которую применил в опубликованных им изданиях. Подобно пушкинскому Сальери, ученый «разъял музыку» стиха четким анализом. Его система опирается на проникновение в смысл и выразительные средства того или иного творения скальда и включает ряд соответствующих исследовательских этапов. Эти этапы: анализ текста и контекста; дословный перевод; его развертывание, т. е. восстановление логической последовательности текста; анализ синтаксиса, поэтики (прежде всего кеннингов), размера (стиля), наконец, разумеется, глубинного смысла дискурса. Лишь в результате такой обширной предварительной работы предлагается перевод стиха, наиболее адекватный подлиннику по содержанию и метрике. Что касается степени художественности перевода, то она, разумеется, всегда зависит от поэтического таланта переводчика.
Несколько позднее скальдической поэзии, не ранее XII–XIII вв., развивались баллады, которые как бы пришли первой на смену. Основанная на устной традиции прошлого, использующая героические сюжеты баллада — анонимное произведение, где реальные имена и некоторые эпизоды, почерпнутые в том числе из эддических («Старшей Эдды») песней и «саг о древних временах», произвольно и вне исторического контекста вплетены в песенную ткань. Благодаря своей ритмичности баллада исполнялась как рабочая песня, ее пели во время поездок верхом, под нее было принято танцевать. И в Новое, и в Новейшее время скандинавы охотно изучают и публикуют свои баллады — «народные песни», которых насчитывается до 800 видов. Издаются антологии датских, шведских, норвежских, исландских, финских, оркнейских баллад, в том числе в сопровождении нот. Изучается происхождение каждой из них, ведутся поиски аналогов и версий в соседних северных странах, а также на континенте: в средневековых Франции, Шотландии, в англосаксонском фольклоре. Но при всей своей популярности скандинавская баллада, в отличие от скальдической и эддической поэзии, не составила по-настоящему оригинальную страницу мировой литературы, уступая континентальным произведениям этого жанра по разнообразию и глубине. Вместе с тем интересно изучать баллады с тем, чтобы проследить традиции определенных сюжетов, унаследованных от саг и ранней поэзии и закрепившихся в культурной памяти людей.
Иное дело — скальдические стихи. Очень востребованные в свое время людьми саги, они составили значительный, обширный, своеобразный пласт не только северной, но всей мировой литературы. Их творцы (в отличие от авторов большинства саг и вообще множества произведений раннесредневековой литературы), осознавали свое авторство; популярные, гордые своим умением, они выделялись среди людей эпохи викингов как представители некой особой общественной группы. Со скальдами считались правители и знать, да и сами скальды чаще всего принадлежали к верхушке тогдашнего общества, к знатным и, во всяком случае, известным семьям. Были поэты среди королей, ярлов и херсиров.
Множество скальдических стихов, как уже говорилось, вплетено в саги, где они занимают место выразительной и красочной детали, подчеркивают сюжетную линию, рисунок образа персонажа, какую-либо мысль или оценку.
Существенным дополнением к эддическим и скальдическим стихам, созданным в Скандинавии, являются, конечно же, англосаксонские поэтические произведения. Это, прежде всего, великолепная эпическая поэма «Беовульф», созданная в англосаксонской Англии в VI–VIII вв., но корни ее уходят гораздо глубже, а единственная сохранившаяся рукопись поэмы происходит из Северо-Восточной Англии X в. Герой поэмы и его дружина были гетами, прославляются там и даны, скорее всего из Ютландии. События поэмы не согласованы во времени, сюжет не последователен, в ней масса отступлений и сложных кеннингов. Герои поэмы — король (точнее, малый король или вождь) и его дружина, и все произведение пронизано дружинной этикой. Вместе с тем в ней содержится масса сведений о битвах и пирах, об оружии, религиозных представлениях. Скандинавская принадлежность героев поэмы, как и хорошо известная связь между Скандинавским и Британским регионами еще с V в. (особенно укрепившаяся в эпоху викингов), делает вполне закономерным обращение скандинавистов к древнеанглийской поэзии, где можно обнаружить немало точек соприкосновения со скандинавским фольклором.
Особый интерес вызывает древнейший памятник германской эпической поэзии «Видсид» («Широкостранствующий»). Эта поэма сложилась как некое целое не позднее VII в., но восходит к эпохе Великого переселения народов, к III–VI вв. Содержащиеся в ней перечни имен («тулы» древнеисландской поэтики), племенные названия и другие сведения находят соответствие у Иордана, Григория Турского, Беды Достопочтенного (VI в.) — и вплоть до Саксона Грамматика (ок. 1200).
В России эддическо и скальдической поэзией заинтересовались еще в XIX в. «Сборник скандинавской поэзии» вышел в Санкт-Петербурге в 1875 г. (под ред. Чудинова). В него были включены некоторые переводы из «Эдды», сделанные русскими литераторами, а в 1897 г. увидел свет и перевод «Старшей Эдды». Известны переводы отдельных отрывков «Старшей Эдды» и стихов скальдов, принадлежавшие перу известных поэтов и чаще всего имевшие вольный характер. Так, А. Н. Майков опубликовал свой перевод «Песни о Бальдуре», точнее, прекрасную фантазию на эту эддическую тему.
В 1917 г. С. Свириденко издала первый комментированный перевод «Старшей Эдды», с соблюдением размера подлинника. Позднее «Старшая Эдда» издавалась в переводе А. И. Корсуна (1963) и В. Тихомирова (1997). В. Тихомирову принадлежат и переводы знаменитой поэмы «Беовульф»; и он же совместно с О. А. Смирницкой издал сборник «Древнеанглийская поэзия» (1982). «Младшая Эдда» выходила также в переводе О. А. Смирницкой (1991), подборка «Поэзия скальдов» — в образцовом переводе С. В. Петрова (1979), «Скандинавская баллада» — в переводах Игн. Ивановского и Г. В. Воронковой и под ред. М. И. Стеблина-Каменского (1978). Сборник поэзии скандинавских XVI–XVII столетий, сохраняющей ряд традиций Средневековья («О рыцарях, девах, троллях и королях», 2006), составлен Б. Ерховым. Собрания исландских саг, изданных А. В. Циммерлингом, включают скальдические стихи в переводах самого Циммерлинга, Ф. Успенского и С. Агишева, в книге «Корни Иггдрасиля» — в переводе С. Петрова и О. Смирницкой.
Литература по практической и теоретической мифологии, фольклористике, эпосу, традиционной литературе вообще велика и сегодня занимает большее место в международной и российской науке. Об интересе к этим темам отечественных исследователей свидетельствуют, в частности, обобщающие труды второй половины прошлого столетия по всемирной мифологии, а в нынешнем — журнал «Живая старина» (отв. ред. С. Ю. Неклюдов) и труды Центра типологии и семиотики фольклора в РГГУ.
Рунические надписи
Особое место среди материалов об эпохе викингов занимают рунические надписи — единственный, так сказать, местный письменный источник той эпохи. Как известно, германцы, в том числе скандинавы, до латинского алфавита пользовались руническим письмом. Руническое письмо очень древнее, ученые предполагают, что его истоки восходят к письму древнегреческому, возможно — к греческому и/или латинскому курсиву, с которыми познакомились готы в период своего пребывания на Северном побережье Черного моря, и даже к алфавиту этрусков. Тацит в «Германии» (98) упоминает о германском обычае делать предсказания при помощи «знаков» (notae). Их вырезали на веточках плодового дерева, на дощечках или палочках, которые перемешивали, а затем толковали, исходя из расположения знаков. В ходе времени эта письменность, попав уже на Запад и Север Европы, приобрела угловатые формы и новые смыслы, приспособленные к местным германским наречиям. В англосаксонской Англии, примерно около 400 г., зафиксировано 33 или 29 рун. В Скандинавии еще до середины нашей эры употреблялся рунический алфавит («футарк») из 24 рун, но к эпохе викингов сохранилось и затем использовалось 16 рунических знаков.
Расцвет рунического письма в Северной Европе пришелся как раз на X, особенно XI в.; его использовали и позднее. Рунами писали сакральные тексты, особенно адресованные верховному богу Одину, календарные таблицы, имена владельцев тех или иных предметов, песенные строки, но особенно часто их использовали как средства магии и для получения вышней защиты. Они были достоянием жрецов и скальдов, знаками высокого умения и чародейства. Писали не только на дереве, но и на кости и роге, на изделиях из металла и обязательно — на памятных камнях. Обычно в надписи на памятных камнях сообщаются имя покойного и место его гибели, воздается ему хвала и говорится о тех, кто именно поставил камень. Нередки нарративные надписи. Благодаря этим надписям сохранены многие имена викингов, погибших за пределами родных мест, сведения о разъездах, в известной степени — о родственных отношениях той поры.
Некоторые рунические камни, как полагают исследователи, имели и другие цели, нежели поминовение покойного родича. Их могли водружать в качестве пограничных знаков, обозначения принадлежности той или иной территории, особенно — как свидетельство наследственных прав (В. Sawyer, 2000). Если поминальные камни рассеяны по всем районам Скандинавии, особенно юго-восточным и прибрежным, то камни другого назначения ставились преимущественно вблизи мест общих собраний-тингов, у мостов и проезжих дорог. Изготовление рисунков и надписей на камне требовало больших художественных умений, грамотности и вкуса, оно стоило очень дорого. Резчики-мастера знали себе цену, не случайно на некоторых (впрочем, очень редких) камнях они оставляли свои имена. Рунических камней обнаружено в Скандинавии более 3 тысяч, что уже само по себе свидетельствует об общественном статусе многих викингов: ведь поставить рунический камень могли только состоятельные люди. Очевидно, что сооружение рунического камня — это еще и утверждение или подтверждение высокого престижа.
Большинство находок относятся ко второй половине эпохи викингов, но имеются и более ранние, например от VII–VIII вв. (Блекинге, Швеция); такие камни ставили еще и в XII в.
Рунические надписи публиковались и продолжают публиковаться в Скандинавских странах по мере обнаружения новых камней. Интерес к ним и к руническому письму, второй подъем которого начался в XVI столетии, а третий — в XX в. (и активно проявился в современных художественных ремеслах), резюмировался в целых сводах публикаций. Транскрипция и переводы на русский язык значительного числа надписей «старого» и «нового» рунического письма осуществлены Е. А. Мельниковой (1977, 2001). Эти надписи — интереснейший источник наших знаний о викингах; в рамках настоящего исследования они имеют ценность преимущественно при рассмотрении таких тем, как язычество, семейные отношения, образы пеших и морских походов.
Записки миссионеров
Особый и очень важный пласт сведений представлен записками миссионеров, которые лично посетили отдельные страны Скандинавии в эпоху викингов и письменно изложили свои впечатления. В распоряжении историка, занятого изучением Скандинавии того времени, находятся два таких произведения, разные по времени, цели, размеру и, в определенном смысле, по содержанию. Оба они известны в кругу историков, но, как это нередко бывает, до недавнего времени недостаточно использовались скандинавистами.
Первое, более раннее из этих произведений — «Житие св. Ансгария» («Жизнь Ансгария»), написанное его приближенным, клириком и также будущим святым Римбертом. Дело в том, что в IX в., когда буйства язычников-викингов в Западной Европе стали достигать своего апогея, западный мир, его светская и духовная элита, озаботился задачей укрощения этих пиратов. Одним из методов, который применяли светские владыки, было испомещение особенно опасных находников на своих землях в качестве ленников, чем достигалась охрана побережий силами тех же викингов. Как правило, это событие сопровождалось крещением предводителей и всех спутников новых ленников, включая их семейства, если таковые присутствовали. Как показал опыт, это крещение отнюдь не воспринималось северными язычниками как качественный перелом в их жизни. Они спокойно продолжали отправлять языческие обряды по возвращении домой, а нередко и на новом месте жительства. Духовенство же полагало разумным крестить не только отдельные группы находников, но подойти к этому вопросу широко: ввести христианство на родных скандинавских просторах викингов. Отдельные миссионеры, обычно без видимого успеха, время от времени забредали в Скандинавию как из Британии, так и из германских земель. Успешнее пошло дело, когда за обращение скандинавов принялись в более организованном порядке, под присмотром папы и христианских королей.
Группа миссионеров во главе с юным клириком из монастыря Корби — будущим святым Ансгарием и состоявшим при нем монахом Римбертом была в 20-х гг. IX в. направлена в датскую Ютландию, а оттуда через некоторое время перебралась в Швецию, на территорию свейской племенной общности, в ее центр — ранний торговый город Бирку. С согласия местных правителей они вели проповедь христианства у ютландцев, затем свеев, занимались устроением церкви. Но после их отбытия горожане Бирки церковь уничтожили. Второй, в 50-х гг., приезд Ансгария, уже главы Гамбург-Бременского архиепископства, и его последующие усилия по внедрению священников в среду свеев в конечном счете также оказались тщетными. Для историка важным результатом этих двух поездок было появление Жития св. Ансгария Римберта (869) — преемника учителя на посту главы Гамбург-Бременского архиепископата. Римберт довольно подробно и выразительно описывает усилия и мучения крестителей, благожелательность властей и купцов, неизменную заинтересованность рабов (пленников), неистребимое и агрессивное язычество народа.
Через двести лет после Ансгария, в 70-х гг. XI в., в Скандинавию прибыл клирик Адам Бременский. Он остановился при дворе датского короля Свейна Эстридсена, наблюдал жизнь двора и датчан вообще, часто беседовал с королем, купцами, заезжими паломниками и много наслушался о порядках в сопредельных Скандинавских странах, особенно в Швеции, где король Свейн провел свою юность. Впоследствии Адам в своей обширной хронике, посвященной истории Гамбург-Бременского архиепископства в VIII–XI вв., особо выделяет его миссионерскую деятельность среди поморских и полабских славян и в Северной Европе. Четвертая книга его «Деяний», которую обычно называют «Описание северных островов», целиком посвящена Скандинавии. В этой книге автор последовательно описывает население побережий Балтийского моря, три основных Скандинавских страны и колонизованные норвежцами острова — Исландию, Оркнейские и Гренландию, касаясь и побережья Северной Америки, куда заплывали скандинавы. В книге даны сведения по географии и населению каждой земли, ее истории, верованиях и перспективах христианизации местного народа. По мнению ученых, описания Адама (если отбросить немногие «сказочные» элементы) оригинальны и достоверны; во всяком случае, без его четвертой книги не обходится ни одно историческое сочинение по ранней истории Скандинавии. Особенно ценны его уникальные описания языческих капищ и обрядов.
Записки миссионеров интересны не только фактами, но и выраженным в них отношением этих образованных европейцев-христиан к скандинавам, их общественной жизни и менталитету. Эти описания не раз переводились на скандинавские языки.
Комментированными переводами на русский язык сочинений Римберта и Адама Бременского наша наука обязана многолетним трудам В. В. Рыбакова. Перевод «Жития св. Ансгария» вышел в книге «Швеция и шведы в средневековых источниках» (2007). Отрывки перевода «Деяний» Адама Бременского увидели свет в книге «Из ранней истории шведского народа и государства» (1999), а полный перевод издан и вывешен в Интернете.
Предметы материальной культуры
Археологические находки, относящиеся к эпохе викингов и обнаруженные как в Скандинавии, так и в Британии и на континенте, включая Северо-Восточную Русь, очень многочисленны и многократно описаны. Конечно, как и всякие артефакты, они не могут дать адекватное представление об общественной жизни, начиная от состояния семьи и вплоть до структур власти. Но на их основании можно описать некоторые стороны быта людей Севера эпохи викингов, представить себе их ремесла и прикладное искусство, получить представление об их верованиях и сделать заключение о социальном расслоении. Эти описания служат богатым подспорьем для исследователя повседневности, но, разумеется, повторять их в данной работе нет смысла.
Мною приняты во внимание и использованы некоторые, исключительные по содержанию и выразительности сведения, полученные благодаря находкам захоронений и кладов. Очень важные открытия были сделаны уже в XIX в.: это прежде всего материалы раскопок захоронений в корабле в Борре (Вестфолд, 1852) и Туне (Эстфолд, 1867). Первое из них, как предполагают, принадлежит ранним Инглингам — династии королей Норвегии и Швеции. В 1880 г. было обнаружено хорошо сохранившееся захоронение в корабле в Гокстаде, в 1904 г. — не менее сенсационное захоронение в Осеберге, возможно, скрывающее останки королевы Асы. Эти, как и некоторые другие потрясающие находки, относящиеся к эпохе викингов (например, в Скирингссале), по-настоящему изучены только в XX столетии, особенно плодотворном для археологов. Одним из крупных открытий второй половины XX столетия стало обнаружение и исследование погребения в ладье из Саттон-Ху (гр. Саффолк, Англия), относящегося к VII в. и сходного с погребениями вождей (конунгов) в Южной Швеции; материалы этого погребения породили целую литературу (Mitford 1966 и 1974; Bruce-Evans 1994 и cл.).
Среди материальных свидетельств немалое значение имеют выразительные изобразительные материалы. Уникальны, например, рисунки на дереве, а также изображения, вплетенные в ткани из Осебергского захоронения: там представлены вооруженные воины, идущие с ношей женщины, средства передвижения и домашнего быта — то, что невозможно извлечь из иных источников (Arbman-Cintio).
Археологические материалы, относящиеся к эпохе викингов, в том числе добытые на территории России, неоднократно публиковались и продолжают использоваться в отечественной историографии. На известном этапе обобщающий их труд опубликован Г. С. Лебедевым (1985).
Тексты для прямого, ретро- и перспективного сравнения
Для понимания особенностей эпохи викингов и людей того времени использовано сравнение письменных данных, относящихся к изучаемой эпохе, с материалами предыдущих и последующих столетий. Предшествующие материалы — это, конечно, уже упоминавшиеся мифо-героические песни «Старшей Эдды», которые восходят к первой половине 1-го тысячелетия, а затем, как и поэма «Беовульф», вписываются в эпоху викингов. Другие письменные сведения отстоят от этого времени на много столетий. Они содержатся в широко известных произведениях знаменитого римского историка рубежа I–II вв. Корнелия Тацита. Тацит пользовался рассказами и описаниями не только легионеров, но и членов разведывательных экспедиций, которые римляне посылали на север, для ознакомления с опасными соседями — германцами; при этом морские экспедиции римлян достигали и скандинавских берегов. Судя по описаниям Тацита, северные германцы в его время находились на поздней стадии родо-племенных отношений, отличались высокими воинскими и мореходными качествами, держали рабов и превыше всего ценили свободу и честь. Многие его данные, прежде всего относительно кораблей и оружия, убедительно подтверждены находками археологов и потому заслуживают доверия. Сравнение описаний Тацита с тем, что можно вычитать в сагах, позволяет оценить путь, пройденный скандинавами за шесть столетий: выявить как новые социальные реалии, так и значимые реликты родовых отношений.
Особую группу моих источников составляют законодательные памятники. В соответствии с замыслом автора книги, они привлекаются периодически и не в полной мере. Исландские обычные законы от «заселения земли» и до XII–XIII вв. известны благодаря собранию «Грагас» («Серый Гусь»[61]), представленному двумя рукописями: «Королевской книгой» и более краткой «Стадархолсбук», получивших свои названия по месту хранения[62]. Затем в сравнительном аспекте используются кодифицированные обычные законы отдельных скандинавских областей (земель, ландов), прежде всего Норвегии и Швеции. В эпоху викингов и еще два-три столетия после нее Швеция и Дания, в меньшей мере Норвегия, ставшие формально едиными монархиями, на практике представляли собой федерации областей, которые сложились на месте бывших племен и племенных объединений. Каждая такая область фактически составляла особую политико-административную и правовую территорию, каждая из них имела свои обычные законы, которых местные жители долго придерживались даже после введения в каждой стране общих земских законов.
Кодификация областных законов Норвегии произошла в XII в., но от того времени сохранились только законы двух «четвертей» — Гулатинга и Фростатинга (GT, FT), ряд норм которых восходят к IX–X столетиям. Во всяком случае, обычное право исландцев в середине X в. прямо корреспондируется с законами Гулатинга. В середине XIII в. был введен уже общий Земский закон (Ландслов), комментированный перевод которого в настоящее время готовится к печати.
В Швеции кодификация самых первых областных законов — Старшей редакции права западных гетов (VgL) и общин острова Готланд (GL) — относится к 20-м гг. XIII в., т. е. совпадает по времени с сочинениями Снорри Стурлусона и записями некоторых саг и несколько опережает сочинения Стурлы Тордарсона; эти совпадения во времени создают удобные позиции для сопоставления этих законов с данными саг. На русском языке появились в 1999 г. Старший Вестгеталаг (А. В. Фоменкова) и Гуталаг (Г. Э. Александренков)[63]. Королевский раздел законов центральной шведской области Упланд опубликован в 2007 г. (А. Ю. Кузина и А. Д. Щеглов). Остальные законы, принятые (как и Упландслаг) во второй половине и в последней трети XIII в., дважды издававшиеся в Швеции, также привлекались в данном исследовании. Значение некоторых областных законоуложений важно еще и потому, что в некоторые из них включены дополнительные тексты, например перечень латманов. Их разделы делятся на главки-балькер («доски»), напоминая о том, что некогда правовые установления записывались на дощечках. Ретроспективный анализ законодательных материалов, разумеется, требует осторожности. Но они могут помочь в оценке результатов эпохи викингов для внутренней жизни скандинавов, дают возможность понять особенности развития их правового сознания.
Таковы непосредственные источники сведений, которые помогают реализации одного из замыслов автора: рассмотреть повседневную жизнь скандинавов в рамках длительного времени — от истоков северной цивилизации, через эпоху викингов и до отчетливого проявления феодально-средневековой культуры. Как и всегда в медиевистике, при кажущемся обилии и разнообразии непосредственных свидетельств той или иной эпохи их всегда оказывается недостаточно для ответа на все вопросы каждого задуманного исследования. Но многое они позволяют уяснить[64].
Часть 2
Образ жизни человека саги
Природные условия тормозили развитие земледелия в Северном регионе. Еще в XI–XII вв. на Скандинавском полуострове сохранялось подсечно-огневое земледелие и применение мотыги — наряду с постепенно распространяющимися двупольем и плугом. Однако благоприятные климатические условия в Европе в эпоху викингов и постепенное обогащение скандинавов привели к важным результатам. В это время только в одной Норвегии производится до 3–4 тысяч новых расчисток путем пожогов (с названием на — ryd). Очевидно, что имел место рост населения и следующая за ним внутренняя колонизация.
Можно предположить, что расселение скандинавов, связанное как с внутренней колонизацией, так и с походами викингов, особенно же с колонизацией зарубежных территорий, в том числе дотоле пустынных островов, подрывало на родине устои большой семьи и рода. Это сказывалось на характере землевладения и землепользования, на структуре хозяйства в целом. Однако родовые устои на скандинавском Севере, а чаще — пережитки большой семьи (малого рода) еще долго занимали важное место в обществе.
Для стран Северной Европы, как уже отмечалось, характерны гористость и моренный ландшафт (за исключением Дании), протяженные и легкодоступные морские побережья, многочисленные болота, небогатые и просто бедные почвы. За исключением страдавшей от безлесья Исландии, общим богатством для них были обширные леса. Важную роль играла близость источников на побережьях и вообще реки и озера, особенно в Швеции. Люди, как всегда и повсюду, искали места, по возможности наиболее пригодные для поселения, для жизни и хозяйства, с удобными коммуникациями. Поэтому заселялись территории прежде всего вблизи воды, с какими-то условиями для пашни или хотя бы огорода, с хорошими выпасами, защищенные от чужаков естественными преградами и т. д.
Усадьба, семья и «свои»
Предварительные замечания
Не стоит удивляться тому, что экономическая сторона домашней жизни викингов отражена в сагах выборочно: ведь авторов этих повествований в основном интересовали отношения между людьми. Более или менее широкое общее представление о расселении скандинавов в эпоху викингов, типах их поселений, устройстве жилищ может быть составлено с привлечением археологии и некоторых специальных исторических дисциплин, например топонимии, исторической лингвистики, палеоботаники. С XII–XIII вв. на помощь исследователю приходят областные законы — записи обычного права. И прежде чем обратиться к сагам и обычному праву, целесообразно воспользоваться уже сложившимися у скандинавистов общими представлениями о расселении, типах поселений и хозяйстве скандинавов в эпоху викингов.
Так, доказано, что господствующими типами сельских поселений в Северной Европе были небольшая деревня, индивидуальный хутор и группа из нескольких хуторов.
Деревни с угодьями были основным типом поселения только в Дании, причем с очень устойчивым локусом: многие деревни сохраняли местоположение в течение столетий. Обычно в такой деревне жило по 200–300 человек, которые населяли пару десятков усадеб, расположенных вокруг «площади», или же выстраивались улицей. Часто деревни были защищены общим частоколом. Уже в эпоху викингов в Дании шел довольно заметный процесс разделения больших семей на малые, которые сначала жили вместе в длинных домах, затем выделялись, зачастую строясь вблизи отчего дома. Аграрная страна, с мягким, чуть влажным климатом, граничившая с Франкским государством, рано освоила плуг и двуполье, рано прошла и через закрепление пахотных наделов, сначала за большой, затем за индивидуальными семьями. О выделении таких «малых» семей и их собственности на пашни свидетельствуют остатки полевых оград.
В Норвегии под пашню годилось не более 2–3 % земли. Это делало невозможным сколько-нибудь широкое развитие там земледелия и предопределило преобладание хуторов, скотоводства, разных промыслов, а также сохранение значительных домовых коллективов, способных справиться с многообразными способами добывания жизненных средств. До некоторой степени приличные почвы были только на прибрежных равнинах — от Осло-фьорда до озер Эстланна и, кроме того, на территории Трендалага, к югу и востоку от Трондхейм-фьорда.
К концу XI в. завершилась колонизация восточного побережья Швеции. И там, так же как в Норвегии, пашни, приусадебные участки и некоторые выгоны были разобраны в индивидуальное пользование. Но во внутренних частях Швеции свободные земли еще оставались, хотя не все они были пригодны для хлебопашества. Наиболее удобными в этом отношении на Скандинавском полуострове были южные области (Сконе, Халланд, Блекинге), почти до конца Средневековья принадлежавшие Дании.
Скандинавы сеяли овес и ячмень, реже рожь и особенно редко пшеницу. Но если считать и огородные культуры, то всего в регионе культивировалось до 56 растений. Урожайность была низкой, подчас она не достигала уровня сам-третий. Собирали мед и другие дары леса, ловили рыбу, били морского и лесного зверя, дикую птицу. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, гусей, кур и т. д. Соотношение земледелия, пастушества, рыболовства и других промыслов было, естественно, разным в разных районах.
В среднем крестьянском хозяйстве держали по 6–12 коров, что было необходимо также для полученияестественных удобрений. Однажды (как упоминалось выше) вождь одного из северонорвежских племен Халлогаланна (древнее название области Норвегии к северу от Трендалага) по имени Оттар посетил английского короля Альфреда Великого и много рассказывал хозяину о родной стране и своих странствиях. Это было в последней трети IX в. Король Альфред записал его рассказ, и эта запись на древнеанглийском языке сохранилась до наших дней. Оттар назвал свою страну «Северный путь» (Nordwegr). Между прочим, он рассказал и о своем хозяйстве, которое по английским меркам выглядело весьма скромным: у него было «не более 10 коров, 20 овец и 20 свиней, а также небольшой участок пахотной земли, который он обрабатывал плугом, запряженным лошадьми». Основным источником его благосостояния были охота, рыболовство, добыча китов и дань, которую он взимал с финнов и саамов.
В принципе угодья — луга, леса и воды — находились в общественном пользовании как «земля всех людей», т. е. общинная, — альменнинг. Однако в условиях преобладания малых деревень и отдельных хуторов, при отсутствии или неполном (кроме Дании) распространении принудительного севооборота скандинавская община была своеобразной, «размытой». Имеются сведения и о разделах или переделах альменнингов[65]. Но еще в XIII в. новопоселенец, которому приходилось строиться на пустующей земле, должен был получить разрешение соседей на то, чтобы занять часть альменнинга; впрочем, это касалось только Швеции, где община была сильнее, нежели в Норвегии и, тем более, Исландии.
Находки археологов, особенно на местах древних поселений и в некрополях, показывают, что в Скандинавских странах, особенно в Швеции, рано развилось искусство (холодной) обработки железных руд, добываемых из болот и озер, в виде комков. Изготавливали кузнечные, особенно оружейные и ювелирные изделия, последние — из привозного серебра и золота, в том числе из переплавленных монет. Развивалось камнерезное и шорное дело, прядение и ткачество льна и конопли, изготовление грубой шерсти и сукна, гончарное дело (только в Норвегии не было своих глин), плотницкое и столярное ремесла, а также, разумеется, судостроение — от малых лодок до больших для того времени морских судов. Подавляющее большинство этих ремесел в эпоху викингов имело домашний характер. Только немногочисленные профессиональные ремесленники, как предполагают, работали на заказ, на рынок и на вывоз. С началом эпохи викингов, судя по изделиям из камня, металла и дерева и по наличию литейных форм, развитие ремесел убыстрилось в деревне, в имениях знати и в ранних городах. Города этой эпохи уже имели в составе своего населения немногих ремесленников-профессионалов.
Расселение, усадьба, жилище
Тацит писал, что германцы не живут в городах и вообще не любят «скучиваться», а располагают свои поселения поодаль друг от друга[66]. Прошли столетия, и оказалось, что это замечание в отношении северных германцев все еще справедливо. Более того, лишь в наиболее благоприятных для земледелия районах, в частности в Дании и ряде областей Швеции, возникли деревни, сложилась община с системой совместного владения угодьями, а иногда и принудительным севооборотом.
«Плоская» Дания и южные области Скандинавского полуострова, особенно Сконе, достаточно рано стали страной деревень. Деревни были кучевые в Восточной Ютландии или рядовые — вдоль рек, морского побережья и дорог. На острове Зеландия (Шеланн), в ряде районов Ютландии и в Сконе центром застройки служила округлая площадь, где выпасали мелкий скот и собирали общие собрания жителей — тинги. Возникновение скандинавских деревень с топонимами на — инге относилось еще к началу нашей эры, на — лев — к VI–IX вв., на — бю (бу) — к эпохе викингов. IX–XIII вв. ознаменовались появлением деревень с этнонимами — mopn; название деревень с этнонимом — ред (пожоги) также появилось до XII–XIII вв. Поселения при святилищах имели в наименовании этноним — тун (туна), — сала, — ас-, тор-. Но за пределами Дании, на большинстве территорий Скандинавии основным видом поселения были хутора-гарды. Расселение людей в ходе внутренней колонизации в эпоху викингов и, особенно, сразу после нее продолжалось за счет распада домовых общин, роста числа выселок и выделения новых гардов.
Гардом (или гордом)[67] называли хутор, огороженное подворье, имение, двор, усадьбу, индивидуальное владение, домохозяйство. Хутора обычно состояли из одной, реже двух усадеб, а несколько гардов составляли уже деревню, причем отдельные усадьбы в ней отнюдь не всегда примыкали друг к другу. При малой населенности и, соответственно, незначительной плотности населения Скандинавских стран деревни, усадьбы и вообще поселения (bygder) были редкими и независимыми, особенно в Норвегии и Исландии. Не только деревни, но и отдельные усадьбы-гарды были обычно удалены друг от друга, прежде всего вследствие сложных природных условий и низкой плотности населения. На каменистом, гористом Скандинавском полуострове, занимающем первое место в Европе по протяженности морского побережья и объему внутренних водоемов, люди заселяли главным образом территории вдоль морских берегов, а в Швеции также вокруг больших озер. Впрочем, по большей части так же расселялись и в Дании, ведь в этой стране нет территорий, достаточно удаленных от моря. Да и на остальных землях региона, освоенных в эпоху викингов, люди населяли прежде всего и преимущественно берега водных бассейнов, удобных для жизни и сообщений.
Удаленные друг от друга, разделенные водными преградами, горами и скалами, лесами и бездорожьем, редкие даже в XIII в. поселения и усадьбы месяцами были отрезаны друг от друга. Путешествия по суше, даже на лошадях, было невозможно совершать без отдыха. Существовала особая «мера дальности» — рест, обозначающая расстояние на суше, равное переходу между двумя остановками для отдыха[68]. Напрямую, по гористой местности, расстояние было более коротким, но труднопреодолимым. Даже в теплое время года люди, отправляясь в путь, старались пользоваться услугами проводников и брали с собой большие факелы[69]. Судя по сагам, скандинавы охотнее передвигались водным путем даже по своей стране, например если была необходимость посетить общее собрание-тинг или хутор, расположенный в другом районе. Привычка передвигаться на корабле или лодке, вообще по воде, многое объясняет в их образе жизни и приоритетах в эпоху викингов.
Обременительная обязанность заботиться о дорогах и мостах по старинному обычаю возлагалась на местных жителей. Подчас отдельные хозяева строили мост или прокладывали дорогу, в том числе через болото, по обету.
В Швеции, с ее изобилием внутренних вод (большие и мелкие озера, реки), моренным ландшафтом и непроходимыми лесами (особенно были известны обширные леса Кольморден и Тиведен), в зависимости от местного ландшафта и срока давности того или иного поселения люди располагались как деревнями, так и хуторами. Еще в XIII в. согласно областным законам деревни из 12 домохозяйств считались там большими, «полной» (fullbya) считалась деревня уже из шести дворов, т. е. половинная по сравнению с «большой» (half tylft…skal i by uitaet til fullbyr)[70]. В начале XIII в. Старший извод закона западных гетов (Вестгеталаг) упоминает деревни с курганами, которые были основаны «в языческие времена» (af heni bygdaer)[71], т. е. до конца X в.
Хутора были самой распространенной формой поселения в Норвегии, где обживалась территория расширяющегося к югу побережья, с востока ограниченная суровыми горами, а с запада прижатая к Атлантике. Однако на том же побережье и юго-востоке страны развивались и малые деревни. В Исландии, где обширное каменистое, вулканическое и льдистое плато, занимающее всю центральную асть острова, было не только непригодным для жилья, но и непроходимым, первопоселенцы ставили хутора на прибрежных территориях, разделенных оврагами и скалами. В результате образовались «естественные» прибрежные области: Северо-Западная, Северная, Восточная, Южная и Западная.
Внутренняя колонизация в Скандинавии стала заметно интенсивнее с XI–XII вв., преимущественно за счет отселения семейных детей, т. е. распада большой семьи, а также наделения землей рабов. Выделяясь из домовой общины, малые семьи зачастую строились поблизости от старой семьи. Такие группы хуторов родичей, имевших общего предка — разного размера, имущественного состояния и населенности, могли составить деревню, располагаясь в относительной близости друг от друга. Их хозяева нередко строили общую изгородь, отделенную тыном от пастбища. Но, судя по сагам, родичи чаще разъезжались и ставили свои дворы далеко друг от друга, «в облюбованном месте»[72]. В том случае, если у соседей были общие предки, то, как предполагают некоторые исследователи, их деревня была как бы «родовым поселением» (slktby — др. — исл., slkt — др. — шведск. и т. д.), а пахотная земля там первоначально была в коллективной собственности[73]. В этом случае соседская община плавно вырастала из родовой. В областных законах Норвегии XII в. еще упоминаются такие деревни, с наследственной общей землей (oalby)[74]. Если же у соседей были разные предки, группа гардов называлась «гренн» (grenn, др. — шведск.) — «соседство».
При наличии свободных земель владелец любой усадьбы мог перенести ее на другое место, даже в соседнюю страну, что происходило, например, если хозяин ссорился с соседями, опасался их мести, или по другим, самым разным причинам[75]. Переезды хозяев с одного места жительства на другое и перенос хутора происходили обычно в последние дни мая и считались «днями (временем) переезда»[76].
«Захват» земли новопоселенцами осуществлялся следующим образом: будущий хозяин от восхода до заката объезжал избранную территорию по ходу солнца, держа пылающую головню[77]. Для обозначения границ своих земель обычно ставили межевые знаки, которыми обозначали также границы областей-ландов.
Независимо от того, стоял ли гард отдельно или входил в деревенское поселение, он не теснился к другим постройкам, а располагался «вольно». Двор имел свой тын или выстраивался в виде прямоугольника с глухими стенами построек наружу. Такой гард представлял собой замкнутое пространство, огражденное либо стенами построек, либо тыном, либо попеременно строениями и тыном. И все было крепко заперто.
Среди законов шведского ярла Биргера, регента при Эрике Эрикссоне Шепелявом (середина XIII в.), сведения о которых дошли до нас благодаря рифмованной «Хронике Эрика», был закон о неприкосновенности двора: тот, кто без разрешения хозяев забрался в чужое подворье, мог быть убит хозяином, притом без уплаты виры. Судя по сагам, индивидуальное подворье пользовалось неприкосновенностью и в эпоху викингов.
В сагах двор, даже самый бедный, — не только место проживания и ядро трудовой деятельности. Это «гнездо» скандинава, убежище от непогоды и врагов, его неприкосновенный мир, символ независимости и самостояния. Сама ограда гарда, делавшая его пространство замкнутым, имела для скандинава, как и стены его дома, важный мистический смысл: все вместе они не только обеспечивали относительную безопасность, но и ограждали его частную жизнь от назойливого внимания и, тем более, от вмешательства извне, а также защищали от злых сил[78]. Это была и нерушимая собственность, и крепость, и свободный мир — микрокосм домашней жизни скандинава.
Независимое, запретное для чужаков индивидуальное пространство владения сочеталось с охраной независимости индивидуального внутреннего пространства человека. Характерно, что в сагах редко, лишь в особых случаях, говорится о взаимных прикосновениях чужих людей, не считая, разумеется, сражений, драк и ритуальных рукопожатий. Вероятно, кожа как «оболочка», «ограда тела» тоже несла определенную мистическую нагрузку защиты человека от недобрых, враждебных сил.
Устройство хуторов и подворий было достаточно однообразным, но все же здесь имелись особенности, зависящие от строительного материала, населенности, местных традиций, ландшафта, погодных условий, но чаще всего — от состоятельности хозяина. Подворье могло иметь название, подчас восходящее к началу эры. Локализация поселений, их существование на одном и том же или находящемся рядом месте в течение столетий была тем стабильнее, чем раньше были заселены те или иные территории, так как первопоселенцы имели возможность выбрать наиболее удобные для жизни участки земли.
Определенный земельный надел, в первую очередь огороды, т. е. земля, удобряемая с помощью хлева, иногда частично входил в ограду, иногда непосредственно примыкал к ней. Судя по материалам областных законов (в Норвегии — уже с XII в., в Швеции и Дании — с XIII в.), пашни в рассматриваемый период делились на ближние («внутренние») поля, также доступные в той или иной мере регулярной подкормке, особенно торфом, и дальние («внешние») поля. В земледельческих районах Швеции еще в XIII–XIV вв. дальние поля хозяева меняли примерно каждые 20 лет, в связи с оскудением почвы. На новом месте надо было валить и жечь лес, освобождая и удобряя растительной золой землю. Через пару десятков лет возвращались на первый участок: такова была своеобразная, очень трудоемкая «система полей»[79], вероятно, старинная. Впрочем, Дания достаточно рано заимствовала с континента двуполье. В сагах упоминания о дальних пашнях очень редки, а сведения о пожогах ради культивации земли мне вообще не встречались, что и понятно, исходя из характера природных условий родины саг Исландии, где не было лесов.
Лес, покосы и пастбища, т. е. угодья, разделялись менее четко, в зависимости от их принадлежности одному хозяину или группе соседей. Судя по тому, что в сагах говорится об использовании общей земли (альменнингов), в Исландии собственностью отдельных хозяев были преимущественно дальние выпасы и покосы. В земледельческих районах Швеции и Дании, по свидетельству записей обычного права, господствовала общинная (соседская) собственность на все угодья. Однако в родовых сагах нередки упоминания о раздельном владении пастбищами или отдельными выпасами. Об их переделах[80] ничего не известно, так что можно предположить, что часть общинных угодий к тому времени уже оказалась в собственности отдельных хозяев.
Сведения о жилых и хозяйственных помещениях в сагах немногочисленны, как и сведения археологии. При этом неизбежны повторы, но все же возникает впечатление как об общем типе построек, так и о различиях внутри его.
На равнинах Норвегии можно было встретить хаотично застроенный гард с одним жилым помещением посередине. В гардах могли существовать небольшие дома — как бы отдельные покои, в которых спали, а также такие, где жили женщины[81]. В горных районах постройки могли сооружаться в два этажа: наверху жилье, ниже хлев, конюшни и т. д. Коровник, например, мог быть трехэтажным, с отдельными воротами на каждом этаже. Наверху хранили сено, под нижним настилом-полом могли держать навоз, который одновременно служил удобрением и давал тепло. У зажиточных бондов жилой дом строился из бревен, в два этажа. Крышу обычно крыли дерном.
В Исландии, где было крайне мало своего строительного леса (о его привозе на кораблях из Норвегии часто упоминают саги), он был дорог, так что строения лишь редко сооружались из камня или на каменном фундаменте. Обычно же каркас делался из бревен, чаще же из жердей и обкладывался плитками торфа или дерна, с дерновой жекрышей поверх дранки или тех же жердей, т. е. фактически дома были земляными. О «земляных домах» часто говорится в сагах. Считалось, и, видимо, для этого были основания, что стену, сложенную из дерна, трудно сразу пробить[82]. Запасали торф — для строительства, на удобрение и на топливо; в «Саге о Хёрде и островитянах» упоминается особый «торфяной сарай»[83]. Иногда для построек и на топливо использовали плавник, который постоянно прибивало к берегу; его было так много, что каждый брал, сколько хотел, не уговариваясь с соседями[84].
Археологи часто сталкиваются в Скандинавии с остатками так называемых «длинных домов», в один этаж и до 8–10 комнат, идущих анфиладой. Построен такой дом также из дерна, с одним-тремя выходами. В таком доме центральное помещение, самое обширное, имело одно-два углубления для очага, по бокам, вероятно, располагались спальные места. Крайние помещения дома служили скотными сараями, складами, овинами. Нередко к такому дому делались 2–3 небольшие пристройки, расположенные асимметрично.
Саги говорят о больших, просторных домах, которые строили себе богатые хозяева. Так, Гисли («Сага о Гисли», гл. VIII), разбогатев, построил себе жилой дом «длиною в 100 сажен, шириною в 10», с юга к нему была пристроена комнатка, где женщины занимались рукоделием. Типичный, рядовой исландский и вообще скандинавский двор состоял из нескольких примыкающих друг к другу строений, каждое со своей крышей. Земляные стены были без окон или с маленьким оконцем наверху. Потолка не было. Посредине жилого помещения располагался очаг. Топили по-черному, дым выходил через отверстие в крыше, которое можно было закрыть ставнями[85].
Судя по «Саге об исландцах» (гл. 33, 55), в XIII в. в верхней части боковой стены дома делали окошко, в церкви — даже застекленное; так, персонаж по имени Эйольв выбрался однажды из церкви наружу через стеклянное окно, проделанное в восточной стене.
Основным помещением в доме был холл или горница, длиной до 12 м. Здесь проходила вся внутренняя жизнь домочадцев: готовили пищу, ели, рукодельничали, принимали гостей и путников, спали. Судя по «Саге о Фритьофе Смелом» (гл. XI), в богатой усадьбе устраивали специальное гостевое помещение, где размещали «незначительных» гостей, которых не принимали в главной палате. Иногда холл делили вертикальными бревнами на две-три части. Пол застилали соломой или тростником. Скамьи вдоль стен служили спальными местами, часто это были сооружения в виде длинных ящиков из досок или дерна, которые иногда отгораживали пологом. И позднее, в XIII в., горница оставалась главным помещением в доме. В ней часто устраивали два отсека, разделенные перегородкой, и каждый со своей входной дверью. Холостые женщины и мужчины спали раздельно («Сага об исландцах», гл. 171), причем женский отсек имел свое наименование. Были в обычае спальные ниши, со ступеньками и дверцей, если это было супружеское ложе, где нередко спали вместе с маленькими детьми или внуками[86]. Наряду с общими покоями в домах все чаще сооружались отдельные спальные каморки, двери которых снабжались запором[87]. Иногда такая спальная горенка помещалась на чердаке и спящие там пользовались чердачной дверью с запором[88]. Кроме постоянного стола имели запасную столешницу.
В центре холла располагался очаг, а по сторонам от него и вдоль стен, как было сказано выше, размещались лавки, на которых сидели и спали. В большом доме могли разместиться на ночь (на скамьях) до 120 человек («Сага о Гисли», гл. XVI). «Тогда [в Исландии] было принято строить на хуторах большие покои, — повествует „Сага о Греттире“ (гл. XIV). — Вечерами люди сидели там возле очагов или ставили столы, а потом они спали у стен на полатях. Днем женщины чесали там шерсть». При доме имелся сеновал, в зажиточном доме — не один. У наружной стенки устраивали поленницу («Сага об исландцах», гл. 151). В доме хёвдинга («вождя») имелась каморка с засовом и пожарная дверь; имелась и кухня с очагом (eldhus), скорее всего также в доме. Отхожее место устроено во дворе, а перед домом выложена дорожка[89]. Холл в таком доме был самой большой и нарядной комнатой, там принимали гостей, устраивали торжественные трапезы.
В «Саге о Хёрде и островитянах» говорится о «доильном загоне» и о том, что в доме были подземелья (погреба?)[90]. В сагах упоминаются разные сараи: конюшни, овчарни, коровники, — видимо, отдельные постройки. Есть упоминание также о седельном сарае, где, вероятно, держали конскую упряжь. Строили кладовые, как при входе в дом, так и отдельно, вне его. В «Саге о Греттире» описана такая кладовая: «Пришли они к большущей клети. В нее вела входная дверь с большим запором, клеть была выстроена надежно… расположена высоко, так что надо было подняться к ней по лестнице». Постепенно функции главной комнаты переходят к так называемой стове (stofa, stova), она называлась также по-прежнему залом, холлом; там проводили время, ставили стол для обыденных и праздничных трапез, принимали гостей, а на лавках у стен спали. В холле же порой размещались рабы и слуги; впрочем, судя по сагам, они чаще ночевали в пристройках или «по месту работы», например в коровнике. В праздник полы комнат застилались свежей соломой, стены и лавки покрывались коврами или драпировочными тканями, а также подушками. Нередко к дому пристраивалась особая рабочая комната для женщин, где они шили, пряли, вышивали и просто проводили время («Сага о Гисли», гл. IX, XIX). Пристройка к дому, или «малый дом», упоминается в сагах неоднократно; согласно «Саге об исландцах» (гл. 66), в такой пристройке к дому богатого человека спал работник.
Повсеместно жилые и хозяйственные помещения устраивались под одной крышей («длинный дом»), причем их стены служили и оградой двора.
В Норвегии и Швеции были частыми срубные дома, а в древности также земляные, особенно хозяйственные постройки[91].
В доме среднего исландского хозяина могли быть одни двери, запиравшиеся на засов и/или подпиравшиеся балкой. Жилище зажиточного хозяина имело опорные балки и несколько выходов: боковые двери и дверь с торца дома[92]. В нем существовала отдельная каморка или ниша — супружеская спальня, которая закрывалась дверью с мощным железным засовом. Домочадцы размещались в общих помещениях. Дом знатного исландца, состоятельного хуторянина Гуннара («Сага о Ньяле», гл. XLIV), был сделан из дерева, с дощатой крышей и окошками в ней, которые закрывались ставнями. В двери по древнему обычаю также было окошко[93]. Сам он спал в каморке на втором этаже, вместе с женой и матерью. Как и в другом богатом гарде, там был еще специальный домик, где женщины занимались рукоделием. Каморка, где висели щиты и находилось другое вооружение, скорее всего, устраивалась в жилом доме[94].
Рассказывается и о другом зажиточном доме. В нем главные покои разделялись на несколько частей: комната с очагом и с дверями, а возле очага — большая кухня; в глубине помещения, за кухней, «по тогдашнему обычаю», находилась спальня с засовом. По обе стороны от кухни у стен располагались чуланы: в одном из них хранилась вяленая рыба, в другом — мука. Каждый вечер в кухне «зажигали огни для готовки»[95]. В «Саге о сыновьях Дроплауг» говорится о хозяйской «постели с засовом», т. е. отдельной каморке, в которой помещалось только спальное место хозяев. Судя по многим сагам, хозяева обычно спали и в главном помещении, в комнате с огнем (skali, eldscali), а домочадцы — на полатях, ближе к выходу. Упоминается угловая кровать (stafnrekja). У состоятельных хуторян было также «вдоволь больших и хороших клетей» для различных припасов и товаров, которыми хозяин намеревался торговать[96]. Припасы также держали в клети, а «сокровища» — в сундуках и ларцах[97].
Стены богатых покоев украшали рисованными или резными по дереву сценами из мифов и героических сказаний. В «Саге о людях из Лососьей Долины», события которой относятся к концу первой половины X в., а запись возникла примерно в середине XIII в., стены главного дома, где играли свадьбу знатного и богатого Олава, были украшены изображениями событий, описанных в стихотворении скальда Ульва сына Угги. А новый дом, возведенный по приказу Олава, был «больше и лучше, чем до сих пор видели». Стены и крышу внутри горницы украшали изображения событий из знаменитых сказаний, и «все было выполнено так хорошо, что помещение было гораздо красивее, когда не было увешано коврами»[98]. В доме состоятельного Гицура вся передняя часть горницы была «богато украшена резьбой», другая часть обшита досками, а горница с покоями завешана пологами. В «Саге о Гисли» (гл. XII) упоминается обивочная ткань. «Дворец», о котором повествует поэма «Беовульф» (ст. 720), имел «затворы кованые»; вряд ли этот обычай гаутов (и, вероятно, не только их) был позднее утрачен.
В Норвегии и Швеции основными жилыми помещениями были изба-стюга и кухня с очагом. В стюге принимали пищу, там размещались лавки, а стол вносили на время трапезы. Вдоль стен — лавки, они же спальные места, представлявшие себой длинные ящики с высокими бортами; часто они находились там же, где очаг. Подвесные угловые шкафчики использовались для посуды в Норвегии и Швеции и много позднее и дожили до новых времен[99]. В углу комнаты стоял ткацкий стан. Стены и мебель могли быть расписаны или покрыты резьбой. Судя по «Пряди о Стуве», сиденья вдоль противоположных стен стюги предназначались для главы дома — символ его хозяйского статуса. Около него стоял оберег дома: статуя одного или двух высших богов, обычно в виде обтесанного бревна, верхняя часть которого имела форму грозной бородатой головы. Напротив, на южной стороне, располагалось второе «главное» сиденье, немного ниже первого, предназначенное для особо почетного гостя. Переезжая, хозяин дома обычно забирал с собой почетное сиденье и статуи божеств.
Поперечные лавки в глубине комнаты обычно занимали женщины. В другом помещении сиденья располагались вдоль стен, перед ними ставили столы для трапез.
В лесистой Швеции жилой дом представлял собой ту же бревенчатую избу. Она состояла из одной или нескольких комнат, в зависимости от состоятельности хозяина. Спальни частично располагались наверху. В отдельном помещении был очаг для выпечки хлеба, варки пива, приготовления пищи летом; на перекладине, которая тянулась во дворе от сарая до стены жилого дома, сушили белье[100]. Кладовая стояла на клети или столбах, там хранили зерно, одежду, устраивали летнюю спальню. В доме наряду с одной или несколькими кладовыми мог быть и подпол для припасов под сенями. Отапливались только жилые помещения. Сараи (stabbur) служили для сушки и хранения рыбы, инвентаря, лодок. Имелись овин для сушки зерна и баня с открытым очагом. Иногда баня помещалась в боковых пристройках дома, но чаще стояла отдельно.
Наличие бань в усадьбах скандинавов уже в эпоху викингов — примечательная черта северогерманского быта. Сохранилось описание скандинавской бани: двойное помещение, которое было вырыто в земле; в одной его части находилась печь, а над ней отверстие, чтобы «поддавать жару», в другой — оконце и входная дверь, от которой вниз ведут ступени[101]. В другом случае описывается баня, также вырытая в земле, с подполом, над ним — окно, через которое подавали воду. Постройка возведена из хорошего леса, двери крепились на мощных столбах, от двери вниз вели ступени. В «Пряди об Аудуне с Западных Фьордов» также упоминается баня[102]. О том, что баня была привычна для скандинавов, свидетельствует также «Сага об исландцах» (гл. 76), один из персонажей которой вышел из бани «в банной шапочке и холщовых одеждах». Своя баня имелась не у всех бондов, те, у кого ее не было, могли поехать туда, где были устроены общественные бани для совместного мытья мужчин и женщин, в частности в соседний городок[103] (сведения касаются Норвегии).
Этнографический музей на открытом воздухе на острове Скансен (Стокгольм)[104], как и многие раскопки, дает зримое представление о сельских дворах, домах и их убранстве в Швеции эпохи викингов. Собственно, такие дома известны по всей Северной Европе с бронзового века. Музейные материалы в данном случае дополняют сведения саг.
Итак, основой для построек служили бревна или жерди, обложенные с одной или обеих сторон торфом либо дерном. Жилое помещение состоятельного хозяина, хлев, мастерские, дом для гостей, отдельная кухня и прочие сооружения размещались в просторном дворе. Гарды имели чаще всего прямоугольную форму. Жилой дом был или длинным, с входами в центре фасада на обе стороны дома, расположенными посередине, или покороче, с единым пространством, организованным вокруг входа. Дом размещался обычно на южной стороне двора, а конюшня, общий хлев и, если был, особый хлев для ягнят[105] — на северной; амбары же, сараи, навесы для инвентаря и повозок, подсобные помещения — по боковым сторонам. Имелись небольшая комната для занятия тканьем, помещения для летнего пользования. Внутри двора пол был земляной или мостился собранными на полях камнями. Нередко жилые и хозяйственные постройки составляли общий дом, построенный из круглых бревен, где жилым помещением служила небольшая комната с очагом. Либо выстраивался длинный, до 30 м, дом, внутри иногда разграниченный вертикальными столбами на несколько помещений. В жилых домах зимой иногда держали животных, особенно приплод.
Дома не имели потолка. Двускатная крыша, укрепленная на столбах, крылась дерном. Окон не прорубали или устраивали небольшое оконце со ставнями вверху стены либо в крыше, в последнем случае свет поступал через это отверстие, служившее одновременно и дымоходом. Очаг, обложенный камнями, располагался в центре помещения, на земляном полу. Отапливали только те части дома, где жили. В качестве мебели использовали прибитые к стенам лавки, они же — спальные места. Кровать главы дома, устроенная, как правило, в углу комнаты, состояла из длинных жердей, положенных на козлы или на основание, прикрепленное к полу. На жерди клался настил из еловых или иных веток, сено. В постели пользовались льняными или сермяжными простынями и перьевыми подушками, но иногда постельным бельем служила одежда[106]. Как подстилку в постели обычно использовали солому («Сага о Гисли», гл. XXVIII–XXIX). В роли одеяла выступали овчина или другой мех. Прямоугольный стол, круглый стул-табурет, один или два сундука дополняли меблировку жилища. Стены и наружные доски лавок старались украсить резьбой или цветочным орнаментом, нарисованным растительными красками.
Спали чаще всего по двое[107]. В состоятельном гарде приобретались специальные «скамейные доски»[108], резные панели, которыми украшали лицевые стороны спальных мест — лавок и длинных «ящиков», расположенных вдоль внутренних стен главного помещения. В дороге или если приходилось ночевать в холодном помещении, использовали спальные мешки[109]. В «Пряди о Халльдоре сыне Снорри» рассказывается, что норвежский конунг Харальд Прекрасноволосый (начало X в.), который в старости мерз, особенно по ночам, попросил прислать ему из Исландии лисьи шкуры, чтобы «обтянуть ими постель» (гл. III).
Отхожее место в некоторых домах было под одной с ним крышей, а над ним располагался чердак. Иногда уборную помещали около тех или иных входных дверей, но весьма часто — отдельно, подальше от жилого помещения[110]. В некоторых усадьбах это было довольно большое строение, по несколько «очков» с каждой стороны. Уборная, описанная в «Пряди о Торстейне Морозе», была рассчитана на 22 человека, «по 11 с каждой стороны» и с сиденьями[111]; видимо, строя уборную, рассчитывали не только на домочадцев, но и на гостей. Судя по «Саге об Эйрике Рыжем», ночью в отдельно стоящую уборную ходить в одиночку опасались, поскольку там могли являться мертвецы и даже нечистая сила.
Крышу дома делали двухскатной. Часто поверх настила из досок или жердей ее крыли берёстой, тем же дерном (особенно часто — хозяйственные постройки). Срубы в богатой усадьбе обшивали вертикально поставленными досками, коньки избы, карнизы и проч. покрывали резьбой.
Итак, хотя топография подворий и устройство строений в Скандинавии эпохи викингов варьировались в зависимости от природных особенностей того или иного района, местных традиций и степени состоятельности владельца, для них характерны и многие общие черты. Жилища всей Скандинавии имели низкие помещения небольшого объема, узкие лестницы, использование плит торфа или дерна для обкладки деревянных каркасов стен и крыши, отсутствие потолков, очень маленькие окна в крыше или в верхней части стен, закрывавшиеся ставнями, а также прочные двери, иногда с окошком. Топили по-черному. Подполы и разные каморки-клети использовались для хранения припасов[112], а также предметов труда и быта — от грабель, «большого плотницкого ножа», клещей, разного размера топоров, ящиков с инструментами[113] до весов и гирь[114], валька для белья[115] и т. д. Во многих районах делали под крышей крепившуюся к стенам поперечную балку; на нее нанизывали круглые лепешкообразные хлебы с дырой посередине, которые напекали впрок и снимали с балки по мере надобности.
Характерной была и мебель. Повсюду это укрепленные вдоль стен лавки и длинные спальные ящики, кровать (или кровати) хозяев в виде шкафа с дверцами, ступеньками и запором либо с занавеской. Настенные полки служили для посуды. Иногда два спальных места, расположенные под углом друг к другу, соединялись изголовьями, в результате чего получалась угловая кровать. Вещи, «добро» держали в сундуках[116]. Драгоценности и монеты также держали в сундуках или ларцах, нередко закапывали где-нибудь на усадьбе. Стены и мебель украшали резьбой или расписывали, а в торжественных случаях по возможности увешивали специальной обивочной тканью или гобеленами, коврами. Огонь разжигали при помощи трутницы — коробочки или мешочка, где хранили ветошный трут и кремень с огнивом. Трутницы брали с собой и в путешествия.
Знаменитое Усебергское захоронение середины IX в. познакомило нас с утварью богатой норвежской женщины, как предполагают, королевы Асы. В ее похоронном корабле находилось четверо саней, три кровати, стул и три сундука. Стул был изготовлен из дерева вместе со спинкой, сиденье крепилось отдельно. Кровати имели каркасы, а их деревянные угловые столбы завершались головами языческих идолов. На эти столбы крепились боковые планки кроватей, а дно представляло собой сеть из металлических прутьев, приделанных к раме. Столь высокое качество этой мебели несколько напоминает сиденья, описанные в «Саге о людях из Лососьей Долины» и также отличавшиеся большой изысканностью.
Посуду употребляли оловянную, медную, керамическую и деревянную. В распоряжении хозяев были котел и цепи для его подвешивания над очагом, жаровни и металлические пруты для нанизывания кусков мяса и целых тушек животных, печные горшки и котелки, сковороды, чаши, кубки, ведра, бадьи и чаны, ступа с пестиком, топор и нож для разделки мяса. Набор кухонной утвари зависел от хозяйственности и состоятельности владельцев гарда. У богатых людей были кубки и другие столовые предметы из стекла и кости, целиком из золота и серебра или только отделанные этими драгоценными металлами. Такие вещи высоко ценились. В раннем городе Старом Лёдёсе (Вестергетланд) при раскопках была обнаружена деревянная плошка, высокие края которой были красиво скреплены медным обручем[117], тоже отличающаяся большой изысканностью. В распоряжении хозяев были бочки и кадушки, кожаные мешки или шкуры (belgr) для припасов — муки, масла, кислого молока, солонины, травы, товаров для торговли и многих других предметов. Как свидетельствует «Сага о Ньяле» (гл. CXVI), в обиходе нередкими были полотенца и скатерти.
Интересно описание дома богатого кура (курша) с восточного берега Балтийского моря, куда попали плененные поэт и воин Эгиль и его спутники, которые отправились в Курляндию. Они сумели освободиться и прошли по всему помещению, захватывая оружие и убивая встречных. В доме был чердак, где помещалась спальня хозяина и хранилось много оружия, а также горница, разделенная дощатой перегородкой, по одну сторону которой находилась рига, а по другую в это время шумно пировали хозяева. Этажи дома сообщались между собой запиравшимися дверями-люками в полу. Захватив оружие и спустившись вниз, исландцы обнаружили под полом глубокую яму, где сидели пленники, превращенные в рабов, и освободили их[118].
Кроме помещений на своем хуторе хозяева обычно имели еще по два-три помещения вне хутора или подворья. Одно из них — летний сарай на сеттере, т. е. горном пастбище, куда пастухи или сами хозяева отгоняли скот весной и откуда пригоняли его с наступлением холодов. Поскольку сеттеры располагались вдали от жилья, туда приходилось добираться на лошадях[119]. Сарай на сеттере обычно представлял собой хижину из бревен, досок или жердей, не рассчитанную на зимовку; при ней устраивался загон для скота, огороженный жердями и прутьями. Судя по сагам, территории на сеттере, предназначенные под пастбища и для заготовки сена, находились в собственности либо долговременном владении того или иного хозяина. Сведений о наличии или отсутствии переделов этих угодий у меня нет. Иногда на сеттере устраивали и более долговременные, прочные помещения, где можно было также вести хозяйство, как это сделал Скаллагрим в «Саге об Эгиле»[120].
Особый домик в одно помещение ставили для себя тингманы, т. е. постоянные участники народных собраний-тингов, в традиционных местах их проведения. Это помещение было закреплено за построившим его хозяином. Оно было небольшим, состояло из четырех стен, сооруженных из глины, дерна или торфа. Хозяин или посланные им работники на время тинга покрывали эти стены сверху и завешивали изнутри привезенными коврами или тканями; там находились также скамьи для сидения и, возможно, ночного отдыха, ведь тинг нередко продолжался более одного дня. На традиционных местах тинга и торжищ жители разных областей постоянно размещались на определенных участках.
Владельцы кораблей и лодок — а таких на побережьях региона было абсолютное большинство — имели также корабельные сараи: крытые помещения неподалеку от открытой воды, куда затаскивали суда как на зиму, так и в том случае, если хозяин не собирался пользоваться ими в течение длительного времени. Эти корабельные сараи упоминаются во многих сагах. Умышленный поджог такого сарая, тем более вместе с кораблем, приравнивался к поджогу жилища и сурово наказывался.
В Старшей редакции Вестгеталага (первая четверть XIII в.) подробно предписывается, «как нужно строить мельницу» (Huru meulbu skal gra), что быо непосредственно связано с законами о земле и землепользовании. В сагах же сведений о мельницах я не нашла.
В условиях кровной мести, междоусобиц, постоянных стычек и настоящих сражений по разным поводам все жилища укрепляли. Те, кто были в состоянии, возводили вокруг хутора целые укрепления, превращая двор в «крепость» (virke), а дом — в «замок» (hus). Обычно хозяином такой крепости был «видный и влиятельный человек», чаще всего король. В этом случае сооружали редут со рвом и стеной из необработанного камня, реже — вал.
Такие сооружения упоминаются во многих сагах. Крепость конунга Олава была окружена валом из камней, дерна и бревен, дополнительно укрепленных сверху частоколом из заостренных бревен. Кроме того, перед валом король велел вырыть ров. Внутри крепости «он основал торговый посад» и повелел «размечать участки для других дворов и давал их людям, чтобы те там строились», что являлось типичным вариантом организации городского поселения при замке или крепости[121]. Более простые укрепления создавали зажиточные хозяева для защиты от воинственных соседей, разбойников, находников из-за моря[122]; а сами разбойники сооружали крепости в качестве своего логова. Так, например, ставший разбойником Хёрд возвел подобное укрепление для себя и своей ватаги на острове. Хуторяне, ожидая нападения, укрепляли дом изнутри дополнительными внутренними стенами, с дверями на засовах, замками на дверях своих спален. Повышали прочность крыш, так что на них можно было организовать оборону, а также строили укрепления из бревен[123].
Для того чтобы пробить брешь в оборонительной стене или снести ее, нападающие, в свою очередь, пользовались таранами из бревен, разрушали стены и крыши камнями[124].
Не только бедняки и хозяева среднего достатка владели только одним гардом, но и многие зажиточные, состоятельные люди, гард которых был полной чашей. Тот же, кто владел двумя гардами, считался весьма богатым человеком. Некоторые семьи родовой знати и, разумеется, конунги владели несколькими, подчас многими богатыми гардами, в некоторых из них возводились большие дома. Однако каменные постройки известны в Норвегии только с XII в., и, например, упоминание в «Саге о Ньяле» о каменной палате с «прекрасным пологом и престолом»[125] является скорее всего позднейшей вставкой. Дружинники короля Олава спали в «большом доме», где находилось место и для «гостей» и имелась также обширная палата для решения разных дел (гл. LXI).
Очевидно, что бытовые удобства даже в жилищах элиты были весьма относительными. Когда в дом состоятельного и именитого хуторянина попала на временное проживание женщина из Ирландии, перевезшая с корабля свои сундуки и «ларчики», она потрясла хозяев постельными принадлежностями. Женщина достала из дорожного сундука «изысканное постельное белье: плотные английские простыни и шелковое покрывало с подкладкой, занавес в локоть шириной и шатер полога… Это все представляло собой огромное богатство, невиданное в тех местах», — заключает сага[126].
Как уже говорилось, гарды и строения в них различались в зависимости от уровня состоятельности владельца. В сагах преобладают рассказы о наиболее заметных людях и семьях, которые обычно относились к состоятельному или, чаще, богатому и правящему слою населения. Лишь изредка, походя, в сагах проскальзывает замечание об одиноко стоящей хижине в одну небольшую комнату, о населяющей ее супружеской паре, которая не имеет земли и живет за счет охоты и собирательства. Поскольку сведения о бедных хуторянах буквально единичны, полнее представить их быт практически невозможно.
Поджог дома, особенно вместе с его обитателями, карался по закону пожизненным изгнанием («Сага о Курином Торире») и конфискацией имущества. Впрочем, судебный процесс по такому поводу далеко не всегда возбуждался, и не только потому, что виновные в этом преступлении могли быть более могущественными людьми, нежели потерпевшие, но и потому, что скандинавы еще долго предпочитали кровную месть публичной судебной процедуре.
Бонд, его семья, род, домовая община
Каждый гард имел своего владельца — лично свободного и полноправного бонда (bndi, bandi — «живущий [на земле]»). И здесь надо сразу же отметить двоякое значение этого термина в сагах, да и позднее, в областных законах и в общем земском законодательстве XIII–XIV вв.
В своем первом значении бонд — это прежде всего хозяин своей семьи, всех насельников подворья, жилых и хозяйственных построек на нем и пахотной земли, либо наследственной — норвежского одаля или шведского арва, либо благоприобретенной, обычно купленной. Судя по сагам, он же распоряжался разделенными частями покоса и выгона, постройками на сеттере, на поле тинга, и на побережье, местом на торжище, скотом и всем движимым имуществом в гарде, своим кораблем или малым плавучим средством и их содержимым. Также он имел наследственную долю в общественных угодьях — альменнинге, из-за права на которые, их порчи или потравы между соседями нередко вспыхивала жестокая вражда.
Бонд — глава и хозяин гарда. Он разбирал семейные конфликты и распри на хуторе и отправлял некоторые языческие обряды, для чего у семьи были свои малые святилища: священные камни, деревья и источники. Он также был полноправным членом тинга, от местного до областного, а в Исландии и всеобщего (альтинга). Таким образом, саги свидетельствуют, что в эпоху викингов скандинавский бонд обладал полнотой правообязанностей свободного человека, который «сам обеспечивает» себя и свою семью[127]. Понятие «правообязанности» означало, что права свободного скандинава в эпоху викингов были одновременно его обязанностями: участие в ополчении и народном собрании, получение судебной защиты в отношении жизни, чести и имущества, участие в религиозных церемониях, пожертвованиях жрецам, податях вождям и др. В таком значении можно встретить обращение «бонд», адресованное даже очень богатому и родовитому хозяину (например, в «Саге о людях с Песчаного Берега» и ряде других саг)[128].
В своем втором значении бонд — поселянин, крестьянин, мужик-простолюдин, человек не родовитый и не облеченный властными полномочиями, в отличие от представителей родовой, а затем и служилой знати, т. е. тех семей, члены которых обычно, во-первых, были состоятельными либо благодаря полученному наследству, либо особым личным заслугам, а во-вторых, получали почетные и влиятельные посты. Иногда словом «бонд» обозначается арендатор гарда, видимо, тоже в смысле «мужик» и человек, самостоятельно ведущий свое хозяйство. Чаще всего в родовых сагах фигурируют бонды высших слоев, состоятельные или крепкие хозяева, особенно те, которые сами или их дети заслужили высокую репутацию, почетные общественные должности и/или посмертную славу, короче — «вошли в сагу». Такой бонд — человек немногословный, очень гордый и самолюбивый; он умелый, зажиточный и рачительный хозяин, одновременно прижимистый и щедрый, отличный воин и прекрасный мореход. Он способен на крепкую дружбу[129] и смертельную вражду, вспыльчив, обидчив и драчлив, любит сутяжничать, не жалеет ни чужой, ни своей крови.
Саги свидетельствуют, что подворья не только представителей элиты, но и хозяев со средним достатком нередко были переполнены людьми, которых там подчас собирались десятки. Однако подобная населенность создавалась отнюдь не только и вообще не столько за счет семьи хозяина.
Семьи, населявшие хутор бонда, судя по сагам, были разного состава. Как правило, это уже не были большие семьи, т. е. коллективы родственников, включающие невыделившихся женатых сыновей, сообща владевшие имуществом и трудившиеся, а также сооба потреблявшие продукты общего труда. Судя по сагам и законодательству XII–XIII вв., именно в эпоху викингов совершен решительный скачок от большой семьи — к малой, индивидуальной, которая стала преобладающей в XI–XIII вв. Обычно семью хозяина усадьбы составляли жена и дети, не состоящие в браке. Однако нередко встречаются и другие варианты: неразделенные, разросшиеся, неполные и сводные (сложные) семьи. Так, с известным Ньялем из его троих женатых сыновей совместно с отцом живут два («Сага о Ньяле», гл. XXIX)[130]. С богатым и могущественным владельцем гарда, окружным судьей и жрецом (годи) живет сестра с взрослыми сыновьями, которые «все очень заносчивы» («Сага о Названых Братьях»). В доме другого богатого человека проживает вдовая сестра с сыном[131]. В «Саге об Эгиле» два младших сына живут и «распоряжаются» в богатой наследной вотчине покойного отца, а два старших служат у конунга[132]. В других случаях два брата совместно владеют хутором, в котором живут. Еще в XIII в. хутором могли совместно владеть взрослые братья: в «Саге об исландцах» (гл. 132) «сыновья Арни держали хутор на Стуже»: два Гудмунда, Йон и Олав. Рассказывается о вдове, которая живет с взрослыми сыновьями[133]. Вдова живет с сыном, вместе они занимаются хозяйством, а при них — одинокая «старуха»[134]. В некоторых случаях с женатыми детьми живут престарелые родители, чаще — вдовая мать. К владельцам усадьбы частенько пристраивались бедные и одинокие родичи хозяина и/или хозяйки, иногда с детьми; их положение на хуторе нередко было приниженным. Так, у состоятельного хуторянина мог жить на положении работника неудачливый сын родной сестры. Во всяком случае, судя по сагам, старики и сироты, имевшие обеспеченную родню, не ходили с протянутой рукой. В богатых гардах частенько жили воспитанники либо приемыши, друзья хозяев, воспитатели их детей, охранники и т. д.
Хозяин отвечал за положение и поведение членов семьи, как, впрочем, и всех насельников своего гарда. Например, если с хозяйской семьей жила одинокая, разведенная или вдовая сестра хозяина, либо, что встречалось намного реже, его свояченица, хозяин гарда должен был следить за ее поведением, дабы она не ославила хутор, и поэтому старался побыстрее выдать ее замуж или переправить на жительство в другое место[135].
Перечисление вариантов можно продолжить, но очевидно, что состав семьи людей саги варьировал от малой до разросшейся малой и, реже, традиционной большой. Во всяком случае, в шведской усадьбе того времени, особенно в Средней Швеции, нередко совместно жили несколько поколений одной семьи или даже группа родичей. В сагах имеются сведения о том, что отец, достигнув старости, передает владение сыновьям, оставаясь на хуторе[136]. Торарин из Лососьей Долины («Сага о людях из Лососьей Долины», гл. X) жил у тестя Торстейна и помогал ему нести бремя старости. Воин и скальд Эгиль, потеряв сыновей, жил с дочерью, которая заботилась о нем, и т. д.
Согласно «Саге об исландцах» (гл. 6), в усадьбе на Свиной горе со своей родней проживала Халльдора дочь Туми, к которой посватался видный жених. Турид, мать Халльдоры, вместе с попечителем девушки и с проживавшей в усадьбе родней, а также другими «знатными родичами», живущими, видимо, отдельно, сочли намечающийся брак почетным и дали на него согласие. Молодые хорошо поладили. Муж Халльдоры Сигват «вписался» в семью жены и даже принял под свое управление «родовой годорд» (округ при капище) Стурлунгов, который ранее держал глава рода Стурла. Очевидно, что речь здесь идет о богатой наследнице, которой после смерти отца был избран попечитель, скорее всего из числа родичей, имевший голос при устройстве ее судьбы. Решение о ее браке принималось не только совместно живущими родичами, но и всей «знатной родней». Конечно, в данном случае, когда решается судьба потерявшей отца знатной и богатой наследницы и, что не менее важно, судьба большого наследства и общественных обязательств ее отца, слово родни имело большое значение, и родня от своей роли отнюдь не отказывалась. О том, сколь значимыми были родственные связи в кругу элиты, свидетельствуют и другие эпизоды этой саги, созданной уже в начале второй половины XIII в.: например, знатный человек просит родичей, вероятно более бедных, переехать к нему, чтобы жить в его имении и присматривать за хозяйством (гл. 13).
Судя по ранней редакции Эстгеталага (30-е гг. XIII в.), и агнаты, и когнаты, т. е. кровные родичи по отцу и матери, одинаково назывались «нидиар» (др. — исл. niar). Но бльшее значение имел отцовский род, роль которого преобладала и в рассматриваемое время, и в период классического Средневековья. Все имущественные права и обязательства отсчитывались исходя из мужского начала и по мужской линии. Род должен был насчитывать не менее четырех поколений по мужской линии. Обычно он обозначался термином этт (tt, tt, ср. готский термин aithts — «собственность»); реже встречается термин кин (kyn, kn, kind, kini, kindi и т. п.), а также упоминавшийся слэкт. Свойственники (свояки), т. е. люди, близкие по обеим линиям и ставшие близкими, благодаря брачным отношениям, одинаково называются в законе френдр (frndr, ед. ч. frndi, вероятно, от др. — герм. frj — «любить»), т. е. «любящие», «близкие»[137].
В свое время Тацит подчеркивал роль родовых отношений в среде северных германцев. Он писал о том, что воинские единицы обычно состояли из родичей; что верность роду у них была общим законом жизни, а неверность, предательство, злодеяние в отношении рода и родичей являлись несмываемым позором для виновного и, подобно трусости в бою, лишали его правоспособности. И что самое большое значение для человека имела похвала или хула со стороны родичей[138].
Судя по сагам, за минувшие столетия род потерял многие свои функции. Он перестал быть большой, совместно живущей группой кровных родственников, хозяйственной единицей и абсолютным владельцем общеродовой собственности. Он уже не формирует в обязательном порядке воинские единицы, не может обязать одного родича помогать другому материально или личным участием в его делах и т. д., хотя в практике общественных отношений обязательства родни вполне четко отражены. Основной социальной ячейкой общества становится малая или разросшаяся малая семья, с ее трудовыми усилиями, индивидуальной собственностью на основные средства труда и (не всегда) соседской организацией.






