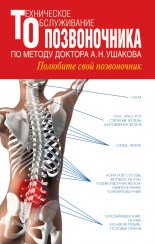Гибель Помпеи (сборник) Аксенов Василий

Распахнулась дверь полуподвала. Рыкая, вылез могучий Миша Мамочко, темный элемент. В полуподвале у нас была «малина», а сам молодой силач, как потом выяснилось, был главарем подпольной артели каких-то гоп-стопников, попрыгунчиков, какой-то банды вроде знаменитой «черной кошки». На фронте Миша был две недели и ранение получил, подобно Ахиллу, в пятку, но не погиб от этого, как древнегреческий герой, а, напротив, вернулся, спасся, и военкомат больше его не тревожил. Обычно он ходил прихрамывающий, молчаливый, с загадочной улыбкой, в хромовых «прохорях», с палочкой, бузил шумно, но редко и в полуподвале, не на глазах. Все его боялись невероятно, он был спокоен и снисходителен к соседям, и лишь одна у него была слабина – белокурая медичка Инна не давала ему покоя.
Сейчас он приступил к моей сестре, выпирая мускулами из шелковой майки, поддавая плечом, небрежно, вбок рыча:
– Пойдем, Инка…
– Да ну вас к черту, Мамочко! – хохотала Инка.
– Смотри, «летуны» твои разлетятся, а Мамочко останется, будь спок. Я тебя еще потрогаю своими ручками.
– Стыдитесь, Миша, сегодня война кончается, а вы… – воскликнул дядя Лазик.
– Война! Война! – вдруг заорал Мамочко кривым ртом. – Кому война, а кому мать родна!
– Позор! – воскликнула Нина Александровна.
– А вот я сейчас его ухватом! – крикнула тетя Зоя.
– Держись в рамках, Мамочко, – сказал Камил Баязитович.
– Дорожку не спеша старушка перешла, – запел Миша, – навстречу ей идет милиционер.
- Свисток не слушали,
- Закон нарушили,
- Платите, бабушка,
- Штраф три рубля…
Играя в такт большими белыми плечами и выставив впереди растопыренные пальцы, он двинулся на дядю Лазика, но в это время по всему дому из всех радиоточек медлительно прозвенели позывные московского радио, и разом застучали на улице пистолетные выстрелы, послышалось «ура».
Под окнами на мокром асфальте с поднятыми пистолетами стояли Инкины «летуны», три молодых наших красавца с тросточками, а одна рука на перевязи, а одна нога в гипсе, а четвертым был француз с костылем, выздоравливающий офицер из полка «Нормандия—Неман». Все четверо вопили «ура», палили в воздух, в серое, едва пробуждающееся небо и сияли сияющими глазами, молодыми глазами победившей молодежи.
– Инка, победа!
– Победа!
– Инка!
– Внимание! Говорит Москва! – наплывал из репродуктора левитановский раскат.
Француз плясал вокруг своего костыля. Победа необозримой танцплощадкой, феерическим дансингом сияла перед колченогими Инкиными мальчиками.
А мы, зашвырнув куда-то «махнушку» и не дослушав даже приказ, сыпанули по улице Карла Маркса к центру нашего города, к площади Свободы – Дамир (Даешь мировую революцию), Эльмира (Электрификация мира), Велира (Великий рабочий), Рафик Сагитов, Боря по кличке Пузо, Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я.
Мы бежали изо всех сил, и все рвалось перед нами, все открывалось с треском, с хлопаньем, мгновенно, на миг, как будто лопалось в разных местах беленое полотно, – первый луч солнца, одна голубая лужа среди множества темных, косичка, бантик, красный флаг, самолет, лошадь, моряк – ярко и навсегда.
Когда мы выбежали, улица была пустынна, а к площади мы подбегали уже в густой бегущей толпе, а на площади в лужах под окнами юридического института уже танцевали студентки, и подъезжали уже трамваи, обвешанные людьми, и на столбах висели уже мальчишки, и вывешивались лозунги на Доме офицеров, на заводе «Пишмаш», и за колючей проволокой со строительства оперного театра кричали и махали пилотками – вот чудо! – пленные мадьяры, и… и… мы все бежали, боясь куда-то опоздать, что-то упустить, и опомнились только на башне пленного «Тигра», с бессильно повисшим орудием, который вот уже года два стоял на площади среди других трофеев.
Появились самолеты, два самолетика «ПО-2». Они спустились так низко, что можно было видеть смеющиеся лица летчиков. Они пролетели прямо над трубами и рассыпали множество листовок: «С победой, товарищи!» Потом листовки эти стали бросать из окон Дома офицеров, с крыш, а бипланы целый день улетали и возвращались с новыми порциями листовок.
Мы сидели на грязном чудовище, которое кто-то где-то когда-то любовно ковал для того, чтобы всех нас убить, а теперь чудовище было понурым и жалким, со стыдливо опущенной пушкой, а мы сидели на нем для того, чтобы все видеть вокруг, а вокруг было…
Леонид Утесов:
- Барон фон дер Пшик
- Отведать русский шпиг
- Давно уж собирался и мечтал…
– Девочки, девочки, ловите старшего лейтенанта! Качать его, качать! Ой, батюшки, сил нет! Ой, умру!
Клавдия Шульженко:
- В запыленной пачке
- старых писем
- Мне случайно встретилось одно…
– Ребята, а где же Гитлер? Неужели утек? Его убили? Дудки! Его видели в Дублине переодетым. Подводная лодка Гитлера замечена возле острова Гельголанд. Убежал, зараза? Да нет, он отравился…
Марк Бернес:
- Рыбачка Соня как-то в мае,
- Направив к берегу баркас…
– Что же теперь будет? Ах, как будет славно! И карточек не будет? И чумары не будет? И толкучки не будет? А что же будет? Будет масло и сыр, вишневое варенье, и будет футбол. Бутусов опять будет ломать штанги, а я поступлю в университет, ах, как будет славно!
«Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Я солдат девятой роты, тридцать первого полка…», «На позицию девушка провожала бойца…», «Над светлой и чистой любовью моей фашистские псы надругались…», «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая чья-то рука…», «И вот он снова зазвучал в лесу прифронтовом…».
Вот идут наши герои, наши кумиры, и не в строю, не печатая шаг, а взявшись под руки, словно девушки, и смеясь, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, все рода войск, идут, бренча орденами в медалями. А вот – о боже! – моряк с гвардейской черно-оранжевой лентой, почти такой же фантастически прекрасный, как наш тихоокеанец дядя.
Прибежал потерявшийся было Пузо.
– Ребята, за мной, там подполковник всем мороженое дает!
С «Тигра» всех как ветром сдуло, и все – к подполковнику, который медленно двигался в толпе, толкая перед собой тележку. Тележка была закуплена им целиком по коммерческой цене, и он угощал всех ребят – всех, любого без разбора, – коричневым кислым мороженым, странным мороженым тех лет, сделанным из невероятно странного молока «суфле».
Я много бы дал за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг, тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слоном горделиво шествовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан.
Впереди на белом коне ехал сам Дуров в гусарском костюме, расшитом золотом. Ментик, кивер, сабля и ташка – все как полагается. Дуров держал в одной руке знамя, в другой – пылающую трубу. Далее следовал, поводя хоботом, слон. В огромном сердце слона, конечно, бушевал восторг, но он сдерживал себя, слонище, и деловито топал вслед за танцующим крупом лошади. На боках его висели фанерные щиты с надписью «Победа». Подскакивая, мы цапали африканца за бахромчатые уши, и в другое время он, конечно, пресек бы такое нахальство, но не в этот же день, и он дарил нам эти прикосновения так же, как подполковник мороженое.
Корабль пустыни шествовал далее с униформистом между двумя косматыми горбами, с такими же, как у слона, фанерными щитами на боках. Трудно, конечно, было ему смахнуть с морды гримасу вечного презрения, но все же в отвислых его губах таилась улыбка.
За верблюдом, вообразите, катила «эмка», на крыше которой сидел леопард. Хищник туповато и вяло поводил желтыми глазами, видимо, слабо разбираясь в обстановке, зато медведи внутри «эмки» вели себя шумно и даже разухабисто, крутили мордами, махали лапами, били друг друга по плечам.
А дальше бежали, бренча и топоча, три упряжки пони в бубенцах и лентах, а в разукрашенных колясках множество было набито всякого зверья, а также там сидели артисты с гармониками и дудками.
И вся эта немыслимая кавалькада прошла через площадь Свободы, потом по улице Лобачевского, мимо Черного озера, потом по Чернышевского к нашему белому кремлю, потом спустилась на улицу Баумана и докатилась до Кольца и снова вверх по улице Куйбышева к площади Свободы, и все это в серебряном пении фанфар, в мелькании самых ярких красок под абсолютно голубым небом, и так они топали, цокали, бренчали, трубили, словно отделяя этим своим шествием для всех ребят военные, прошлые годы от будущих – мирных.
Кажется, солнце держалось в этот день гораздо дольше, чем ему полагалось по календарю, но все же оно село, укрылось в далеких и таинственных западных районах города, и голые ветви деревьев резко обозначились на голубовато-зеленом небе, и лишь тогда мы вернулись в наш дом, пропахший сдобными пирогами, в скрипучий уютный ковчег, болтающийся среди весеннего моря.
К исходу ночи пироги были съедены, и в доме воцарилась блаженная, сытая, чуть-чуть урчащая тишина. Только лишь ходики работали сильно, напористо, даже ожесточенно.
Я лежал на своем диванчике и думал об этом дне и обо всем мире, в котором прошел этот день. Огромность мира в те годы тревожила меня, казалось невероятным существование чужих и далеких стран, совершенно равнодушных к нам и к нашей судьбе. Я думал о том, что вот этот-то уж день прожит всем миром одинаково, что в этот день у всего мира была только одна общая новость, и эти мысли успокаивали меня и наполняли ощущением некоей странной гармонии. Я закрыл глаза и растворился в этом блаженном состоянии…
…Вдруг я услышал шарканье чьих-то ног у нашего подъезда, тихий стук костяшками пальцев в дверь. Стук был коротким, но шарканье не прекращалось: кто-то тщательно вытирал ноги о крыльцо. Стук повторился.
Я натянул штаны, накинул телогрейку, тихо вышел из комнаты и спустился в подъезд. Там уже стояли Дамир, Велира и Севка Пастернак.
– Кто-то стучит, – боязливо сказала Велира.
– Кто там? – крикнул Дамир.
– Откройте, пожалуйста, – послышался за дверью глуховатый мужской голос.
В подъезд один за другим входили наши ребята. Дамир открыл дверь. На крыльце стояла какая-то сутулая фигура в черном, сильно поношенном пальто, в шляпе. Из-под широких обвислых брюк матово блестели головки новых калош.
– Вам кого? – сердито спросила Эльмира.
– Тише! – оборвал ее Севка. – Что ты, не понимаешь?
– Я, собственно, просто так, – пробормотал человечек. – Проходил мимо и решил постучать. Должно быть, нервы…
– Вы, наверно, по запаху, – любезным голосом сказала из-за наших спин тетя Зоя. В руках у нее был ухват. – На пирожки потянуло? Заходите, попотчуем.
– Нет, спасибо, что вы, я в самом деле ошибся, ваш дом пятьдесят пять, а мне нужно двадцать два. Сами понимаете, как похожи эти цифры. Просто посмотрел не с того ракурса, – бормотал человечек и продолжал осторожно отступать.
– Севка, Васька, Борька, заходите справа, – скомандовал Дамир.
Человечек резко повернулся и побежал. Мы бросились за ним. Мы бежали очень быстро, но никак не могли его догнать. Прямо перед нами мелькали его новенькие калоши, слышались прерывистые хрипы, вырывающиеся из его груди, но дотянуться, схватить за полу черное развевающееся пальто никому не удавалось.
Уже начинало светать, и в конце гулкой улицы небо было розовым, низко висели трамвайные провода, орали грачи в пустых садах.
– Простая ошибка, элементарная путаница! Думал, двадцать два, оказалось – пятьдесят пять! – дико заорал человек, резко свернул за угол, в туче брызг пролетел по лужам сквера и дунул вниз по Поддужной, к тускло светящейся ленте речки Казанки, за которой начинались уже поля и синели, розовели, зеленели маленькие озерки. Он бежал прямо к узкому дощатому Коровьему мостику.
– Неужели не догоним, неужели уйдет?! – крикнул я.
– Как же, уйдет! Там наши! Попался, голубчик! – закричала тетя Зоя.
На мосту действительно были наши – Инка и ее «летуны». Красавица сидела на перилах, свесив кудри, офицеры играли на гитарах, а француз пел никому из нас не известную песню:
- Как я хочу в вечерний час
- Кольцо Больших бульваров
- Обойти хотя бы раз…
– Ну вот, уже гонят! – воскликнула Инка. – Мальчишки, только не стреляйте – надо живьем!
Офицеры, раскрыв объятия, побежали к человечку, но тот вдруг оторвался от земли и тяжело полетел над рекой Казанкой, заваливаясь, ухая, стеная, рыча, то ли как сова, то ли как подстреленный бомбардировщик.
– Эх, где же мой «Як»! Где же мой «Илюшин»! Где же моя «Аэрокобра»! – в досаде закричали «летуны». По мосту загрохотали их сапоги и наши дырявые ботинки.
Человечек неуклюже приземлился на другом берегу и побежал по полям, по вязкой весенней земле.
Мы мчались за ним мимо озер под бледной луной и розоватой зарей, смешались ночь и день, черное пальто все трепыхалось перед нами, и мелькали калоши.
В одном из озер по пояс в воде стоял голый Миша Мамочко.
– Берлин брал, кровь мешками проливал! – заорал он. – Вся грудь в крови! – завопил он, нырнул и вынырнул. – Искусана клопами! – захохотал он. – Граждане, червонец за шутку!
На берегу другого озера сидел с удочкой Камил Баязитович. Увидев погоню, он вскочил.
– Так и знал, что клюнет! – закричал он. – Вот это щучка.
Однако человечек снова совершил полет над озером на распластанных вроде бы драповых, вроде бы бронированных крыльях и, вновь приземлившись, пустился в поля.
Впереди, на холме, у треноги фотоаппарата суетился дядя Лазик, а рядом стояла с поднятой кверху рукой юрисконсульт Пастернак.
– Готовьте магний, Нина Александровна! – покрикивал дядя Лазик. – Снимок для истории! Оп!
Вспыхнул магний, на мгновение все вокруг стало черным и белым.
– Готово!
Человечек бежал уже тяжело, калоши застревали в липкой земле, но он никак не хотел с ними расстаться.
И вот запели, зазвенели во всем чистом поле серебряные фанфары, и в розовом утреннем свете встали на горизонте конный гусар, и слон, и верблюд, и четыре медведя на крыше «эмки», и три упряжки игривых пони, и в колясках множество всякого другого зверья, и артисты с гармониками и дудками.
– Гу-у-у-у! – заголосил человечек. – Гу-гу-гу! Чучеро ру хиопластр обракадеро! Фучи – мелази, рикатуэр!
Взмахнув крыльями, он медленно поднялся в воздух, пролетел, нелепо кувыркаясь, малое расстояние и ухнул в какое-то зеленое озерцо.
Когда мы подбежали, озеро шло кругами. В глубине мгновенно промелькнули знакомая косая челка, усики и оскал, потом все пропало.
– Капут Адольфу, – сказал Дамир и вытер пот.
1967 г.
Любителям баскетбола
Посвящается Стасису Красаускасу
Борис любил аэродромы за их просторность, за крупные здания, за организованность и мощь, за полное, наконец, безразличие к нему, к его фигуре.
Всегда и везде Бориса сопровождали чрезмерное внимание окружающих, всегда он слышал вокруг то изумленный шепот, то лихие задиристые восклицания, веселые и наглые голоса, выражающие поддельный ужас и неподдельное восхищение редким явлением природы, но аэродромная братия привычна ко всему, она не удивится, даже если слон выскочит из самолета.
Город, куда они сейчас прилетели, тоже понравился ему: с воздуха, когда заходили на посадку, улицы казались просторными, дома – более-менее высокими, стадион тоже выглядел внушительно.
Пока шли от самолета к автобусу, Борису тоже было спокойно и даже приятно. Ботинки, как выяснилось сейчас, разносились и почти не жали, и после изнуряющей жары южного города, где они играли бесконечно длинный четвертьфинал, здесь, в этом северном городе, дышалось легко. Борис шел по аэродрому тихо, наклонив голову, поворачивая голую шею, лаская ее речным и приморским ветром, почти не обращая внимания на маячившие внизу пролысины, лысины, шевелюры, вмятины своих попутчиков. Будь его воля, он всегда бы жил на аэродромах, а именно на этом широком приморском аэродроме.
При выходе с аэродрома, конечно, началось. К автобусу, куда грузилась команда, сбежались таксисты, торговки подкатили ближе свои тележки, вывалилась толпа чужих пассажиров, окружили. Почему-то стояли довольно тихо, довольно тихо ахали, вопили в общем-то тихо.
– Какой рост у товарища? – спросил кто-то тренера.
– Отойдите, гражданин, – поморщился тренер.
– Какой рост у товарища? – повторил свой вопрос любопытный.
– Читай газеты, дядя, – сказал Коля Зубенко.
– Что, не можете сказать, какой рост у товарища? – возмутился любопытный. – В самом деле, какой рост у товарища?
– Два двадцать один, – сказал ему Шавлатов.
Юношески румяная и круглая голова Бориса в облачке привычной грусти плыла высоко над толпой. К нему не обращались. Может быть, думали, что он и говорить-то не умеет?
– Это правда, что он все время растет? – спросил Шавлатова какой-то эрудит.
– Растем помаленьку, – сказал Шавлатов. – Мы все растем помаленьку. А вы разве не растете, товарищ? Надо расти над собой.
– Боря, полезай, – сказал тренер.
«Сейчас про штаны спрашивают, – думал Борис, влезая в автобус. – Какой размер штанов. А сейчас про ботинки. Спокойная публика, вежливая».
Наконец все разместились. Борис кое-как устроился на заднем сиденье. Тронулись.
– У меня тут есть знакомый спортсмен, – сказал Шавлатов. – Она за здешний «Буревестник» года два назад играла. Ляхов, помнишь, черненькая такая, с фигуркой?
– Переписывались? – тихо спросил Ляхов.
– Конечно, переписывались. Все в порядке, – сказал Шавлатов.
– Подруга у нее есть? – еще тише спросил Ляхов.
– Конечно, есть. Почему же нет? – удивился Шавлатов.
– У красивых подруги всегда некрасивые, – еле слышно прошептал Ляхов. – Уж это я знаю, всегда так. Договариваешься, а потом гуляешь весь вечер с некрасивой. Хорошо еще, если умная попадется, а то ведь бывает, что и глупые попадаются.
– Ты Шавлатова не знаешь, – засмеялся Шавлатов. – У Шавлатова всегда все в ажуре. Мы и Борьке тут девушку подберем, тут девушки рослые и красивые. Хочешь, Борис, познакомиться с девушкой?
– Хочу, – неожиданно для себя сказал Борис, и весь автобус вдруг захохотал. Даже тренер улыбнулся, а водитель, вывернув шею, так и ехал с рыдающим от смеха и повернутым назад лицом. Только грустный Ляхов не смеялся.
Вечером после тренировки погуляли с Ляховым по городу. Зашли было в кинотеатр, но мест в последнем ряду не оказалось, пришлось выйти. Ляхов не покинул Бориса, был солидарен с ним, хотя сам имел рост обыкновенный – метр девяносто пять. Он даже вызвался зайти в кондитерский магазин купить тянучек, но перед самым входом сдрейфил, и Борис только облизнулся, глянув через витрину на тянучки. Зато мороженого съели по три порции.
Все время за ними плелась толпа любопытных мальчишек, подростков и взрослых. Кто-то тупо выкрикивал: «Дяденька, достань воробушка!» На него шикали, забегали вперед, вежливо просили автограф, а получив, со смехом отбегали и вновь присоединялись к свите.
– А мне он на ногу наступил, – хвастался какой-то юнец. – Кажись, сломана моя нога!
Он прыгал на одной ноге и дрыгал другой, якобы сломанной.
Борис обернулся и посмотрел на «пострадавшего». Этот дурашливый паренек был, должно быть, его ровесником, ему, должно быть, было уже 17–18, не меньше, а прыгал и кривлялся он, как маленький паяц.
– Ума-то маловато, – сказал ему Борис, густо покраснев.
Вечерняя газета со щитов оповещала горожан об открывающемся завтра баскетбольном полуфинале и о прибытии в город «двух юных гигантов» – Бориса Филимонова (221 см) и Юстинаса Валдониса (221 см), в чьих пока неопытных руках, может быть, уже сверкает наше будущее олимпийское золото.
Борис уже видел литовца утром в холле гостиницы. Вначале он увидел его спину и затылок, возвышающийся над толпой спортсменов, и ужаснулся, ибо привык смотреть на предметы с точки зрения обычных людей. Спина и затылок показались ему невероятно огромными, как будто бы принадлежали не человеку, а какому-то чудовищу, мамонту, что ли.
Потом он увидел литовскую команду в столовой и заметил, что Валдонис, так же, как и он, смущается своего непомерного аппетита, ежеминутно краснеет, руками и ногами двигает осторожно, как бы чего не сломать, заметил он также, что и Валдонис бросает на него быстрые робкие взгляды.
Борис подумал тогда, что хорошо было бы подружиться с Юстинасом, а еще лучше было бы учиться с ним в одном классе. Потом он вообразил, что все ребята и девочки в этом воображаемом классе такого же роста, как он и его друг Юстинас, – вот было бы здорово: и в баскет можно бы играть на равных, и даже в чехарду, волынить, как хочешь, и назначать девочкам свидания в парке, предлагать им дружбу, целоваться, что ли… Он даже хрюкнул от радости и чуть не подавился третьим эскалопом. Нет, решил он в следующий момент, такая дружба невозможна: ведь, если они будут вдвоем с Юстинасом ходить по улицам, – это будет просто цирк.
Борис играл за команду мастеров всего лишь три месяца. До этого он играл сначала за свой класс, потом за школу, потом за сборную района. Никакого влечения к баскетболу у него не было, увлекался он как раз рисованием, любил по вечерам сидеть дома, слушать, как мама стучит швейной машинкой, как отец что-то выпиливает лобзиком, и рисовать старинные корабли с распущенными парусами, но что же ему было делать со своим необычайным ростом, как не играть в баскетбол.
Однажды к ним в школу пришли тренер команды мастеров Герман Грозняк и прославленный игрок Шавлатов. Пришли они по Борисову душу.
Баскетбольная команда была гордостью города. Грозняк был личностью почтенной и уважаемой, директор сиял, сопровождая его. С этого и началось – на всех собраниях с захлебом, с закатыванием глаз: «Питомец нашей школы Борис Филимонов…» Как будто это именно он, директор, путем селекции, гибридизации, путем внедрения передовой педагогической науки вырастил эдакое чудо. Экзамены на аттестат прошли как по маслу.
Маленький щуплый Грозняк стал тренировать огромного Бориса, занимался с ним индивидуально, подключал к мастерам, учил финтам, проходам, игре у щита и прессингу, давал большие физические нагрузки, сгонял детскую пухлость. Борис беспрекословно подчинялся чернявому серьезному человеку, и вот три месяца назад Грозняк выпустил его на арену.
«Новая бомба Германа Грозняка!», «Юный питомец Грозняка вновь принес своей команде 30 очков!» – кричали по всей стране спортивные и молодежные газеты. Теперь уже Борис стал питомцем хитроумного тренера Грозняка. Его прочили в олимпийскую сборную.
Итак, они шли вдвоем с Ляховым по вечерним улицам незнакомого города. На перекрестке двух главных улиц, на шумной городской плешке, они остановились, и тут же из молодежного кафе к ним выскочил Шавлатов.
– Але, мальчики, все в ажуре! – закричал он. – Пошли, пошли! – и затащил их в кафе.
В кафе, в углу, вихлялись над коктейлями три девицы – одна черненькая, одна рыженькая и курносая блондинка.
– Значит, так, – сказал Шавлатов. – Черненькая – мой хороший друг еще по прошлогоднему первенству, с рыженькой повздыхает Ляхов, а курносый кадр для Борьки. Не тушуйся, Борька, – у нее метр восемьдесят, не меньше.
Девицы, как по команде, сделали квадратные глаза при виде Бориса.
Шавлатов мигом всех перезнакомил, заказал девицам еще по коктейлю, себе крюшон, а Ляхову и Борису тоже коктейли, но молочные – ничего; вот завтра припилим литовцев, тогда выпьем.
Девицы перешептывались, хихикали, а Борис сидел красный до ушей. Он вообще-то первый раз был в кафе, никогда ему и в голову не приходило зайти в молодежное кафе, где крутят бедрами ловкие паренечки среднего роста, а тут еще все на него глазели, со всех столиков на него пялились, и за стеклянной стеной на улице собралась целая толпа. Только курносая на него не смотрела.
После коктейлей отправились гулять в парк и разошлись парами по разным аллеям. Борис и опомниться не успел, как оказался наедине с курносой.
Они шли по темной аллее, над ними поскрипывали высокие сосны, где-то неподалеку играла музыка. Борис молчал, он был в неслыханном судорожном волнении, в смятении, в ознобе. Девица шла чуть впереди. Она действительно была высокой, примерно ему по грудь, и крепкой, ладной, эдакой спортивной кобылкой с выделяющимися икрами. Она тоже молчала отчужденно, а может быть, и враждебно, может быть, она злилась на подруг, поставивших ее в такое идиотское положение.
Они шли и шли по темной аллее, и Борис совсем уже пришел в отчаяние – он не видел никакого выхода из этой молчаливой прогулки, да и вообще он впервые гулял с девушкой в парке.
– Может быть, немного посидим? – наконец выдавил он. Девушка тут же резко повернула к скамье и села, запахнув плащ.
Борис осторожно присел рядом. Скамья угрожающе качнулась под его тяжестью.
– Сигареты у вас есть? – спросила девица.
– Я не курю, – ответил Борис. Ему стало жарко.
Девица плотнее запахнулась в плащ, положила ногу за ногу.
Плащ у девицы был короткий, а юбка и того короче, и бедро оголилось почти наполовину. Лицо же у девицы было намеренно каменным, замкнутым, что было в общем-то смешным при ее курносости.
Борис сцепил пальцы своих огромных рук, сжимал, разжимал, жалко улыбался.
– А вы… (о, боги, боги детства, пузатый слоник, когда я был маленьким)… вы, что же… (внезапная смелость, влияние морского ветра, долетевшего сюда из бескрайних лохматых просторов)… вы, значит, тоже… (ай-я-яй, как такого крокодила только мама уродила – или точнее – ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца)… вы… э… э… тоже, значит, уже… (о ужас, воробушка, воробушка)… как-то… (ужас, крушение, при повороте тела разбил чайный сервиз)… так сказать… (сколько вообще разбил посуды)… вы, значит, тоже… (ложный драйв с угла и два гигантских шага к щиту)… тоже в баскетбол играете?.. (бросок – два очка!).
– Ой, умру, – сказала девица в сторону и чуть повернулась к Борису. – Да нет, раньше играла, а сейчас поступила в училище живописи и ваяния и со спортом покончила, не до этого.
– Значит, вы художник?! – воскликнул Борис, восхищенный обилием слов, вылетевших из ее уст, и восхищенный уже самой особой художницы.
– Будущая, – сказала девица и кашлянула. – Курева, значит, нет?
– Знаете, это моя мечта – стать художником, – заговорил Борис, – я очень люблю рисовать, и находили вообще-то способности и…
– Серьезно? – девица заинтересованно задрала голову, взглянула Борису в далекое, высокое лицо, маячившее среди ранних звезд.
«А голова у него красивая, – может быть, подумала она вдруг, – только целовать его с лесенки надо».
Борис тоже повернулся к ней, но слишком неосторожно – скамейка разъехалась и рухнула, и оба они оказались на земле.
Взрыв адского хохота раздался из-за кустов, и выскочили кривляющиеся фигурки, заплясали вокруг, визжа, хрюкая, улюлюкая. Борис ушиб спину, завяз в декоративном кустарнике, он с трудом поднимался, а когда поднялся, увидел, что светлый плащ мелькает уже далеко – девица панически убегала, а вокруг приплясывали хохочущие фигурки и подбегали новые.
– Что за шум, а драки нет?
– Ой не могу, ой сдохну, ой, ребята, он тут с Галкой Виницкой обжимался! – верещал вертлявый паяц, и Борис узнал того, кому он сегодня на улице «ногу сломал».
– Не обжимался! Не ври! Подлец! – закричал Борис и бросился на него.
Паяц припустил по аллее, но Борис быстро его нагнал и схватил за шиворот.
– Зачем брешешь? Зачем подсматривал?
– Ой, дяденька, пусти, – скулил паренек, извиваясь и тараща глаза в неподдельном страхе.
– Какой я тебе дяденька? – пробормотал Борис, смущенный его страхом.
– Пусти меня, юный гигант, – умолял паренек. – Пусти, я у мамки один.
Борис отпустил его. Подбежали какие-то люди, возмущенно стали кричать на паренька, стыдить его за хулиганское поведение.
– Все понимаю, – сказал паренек. – Все понял, товарищи. Это будет для меня хороший жизненный урок.
Он сгорбился, поднял плечи и ушел, шаркая подошвами, покаянно шмыгая носом.
Борис тоже выбрался из толпы, свернул с аллеи и пошел по узкой тропинке, по склону холма, под которым текла ночная река, отражающая беспокойные огни порта.
Он остановился возле огромной сосны, прислонился к ее корявому боку, понюхал кору – пахло смолой, нагретым летним лесом. Сосна, многоярусная мачта, уходила высоко в небо, чуть покачивала вершиной, как бы пыталась повернуть звездное небо. Борис вдруг почувствовал наслаждение от своей малости перед этой сосной. Ведь что такое для этой сосны излишек его роста, каких-то жалких пятьдесят сантиметров, возвышающих его над средним человеком? А есть в мире вещи и более огромные, чем эта сосна. Например, горы. Эверест. Например, океаны. Например, вся Земля. Солнце. Гигантские звезды. Галактика. Наша галактика, одна из бесчисленного множества галактик. Господи, а вся вселенная! А… Дальше не надо.
Борис снял брюки, стащил через голову куртку тренировочного костюма, сшитого по специальному заказу трикотажной фабрикой родного города. Подпрыгнул несколько раз на месте, пружиня ноги.
– Почему гематома на спине? – резко спросил Грозняк.
– Поскользнулся на лестнице, – промямлил Борис.
– Иди разминайся, – сказал Грозняк.
Борис вышел на площадку – гул на трибунах сразу усилился. Он обернулся и увидел Грозняка, который смотрел ему вслед с застывшей странной улыбкой. Может быть, в этот момент он уже видел будущее Бориса, его превращение из розовощекого гиганта-мальчишки в жилистого боевого коня мировых баскетбольных ристалищ, может быть, он уже видел в этот момент усталую, пустую и равнодушную голову тридцатилетнего Бориса, покачивающуюся над разноязыкой толпой в мировых столицах, может быть, он в этот момент резко и болезненно завидовал ему, как завидовал всю жизнь баскетбольным асам, а может быть, он и жалел его.
– Давай, давай! – крикнул Грозняк, стряхивая мгновенное оцепенение.
Борис побежал к своим, которые уже разминались, крутили «восьмерку», годную в нынешние времена только лишь для разминки, и разом прыгали, когда мяч отскакивал от кольца после дальнего броска.
Напротив крутили стремительный хоровод литовцы. Борис сделал бросок со средней дистанции, попал и покосился на литовцев как раз в тот момент, когда Валдонис в прыжке – сверху, на манер Чемберлена, заколачивал мяч в корзину. «Ого, – подумал Борис, – вот это будет спарринг!»
Грозняк подошел к тренеру литовцев Кановичусу, пожал ему руку.
– Ну, удружил ты мне, Грегор, – сказал он, кивая на Валдониса.
– Ответный подарок, Гера… Всего лишь ответный подарок, – улыбнулся Кановичус.
– Твоему сколько лет?
– Восемнадцать.
– А моему еще не исполнилось. Не поверишь, корабли рисует, каравеллы там всякие, бригантины…
– А Юстас марки собирает.
– Да ведь пацаны же…
– Что думаешь об игре?
– Сегодня отдадим вам очка три, а в финале обыграем.
– Я тоже так думаю, – вздохнул Кановичус.
Разминка окончилась, а через минуту по свистку на площадку вышли стартовые пятерки – Шавлатов, Ляхов, Зубенко, Филимонов и Каджая, а с другой стороны – литовцы с замыкающим «столбом», Валдонисом.
Литовцы рявкнули свой «свейкс» и улыбнулись. Борису показалось, что улыбка Валдониса предназначена лично ему. Он тоже улыбнулся и в последний раз посмотрел на трибуны, где, он знал, сидят сейчас и его вчерашний обидчик, и курносая Галя Виницкая, и сотни других людей, вчера глазевших на него, как на слона. Потом он все вчерашнее забыл, и вообще забыл всю свою жизнь, вышел в центр, пригнулся, прыгнул, прыгнул чуть раньше Валдониса, почувствовал, как мяч плотно лег ему на ладонь, швырнул его с высоты бешено рванувшемуся Шавлатову, а тот сразу перебросил на выход реактивному Каджая, и мяч влетел в корзину литовцев.
Матч закончился почти так, как предсказывал Грозняк: литовцы выиграли, но не три очка, а всего лишь одно. Юный гигант Филимонов принес своей команде 15 очков, а юный гигант Валдонис – 16.
Они всю игру провели рядом – держали друг друга на прессинге, финтили, обманывали, прыгали у щитов, и когда они разом прыгали и зависали на мгновенье в воздухе, это было очень красиво, потому что исчезала диспропорция, и просто в воздухе висели два атлетически сложенных юноши.
Борис нарочно очень долго принимал душ, пока все не ушли. Когда в душевой затихли сердитые голоса товарищей, он оделся и вышел в парк. Сел на скамью под душистой липой, никого не стесняясь, вытянул ноги. Никогда он так не изматывался, как после этого спарринга с Валдонисом.
Конечно, его окружили. Он подписал десятка два автографов, потом болельщики отошли на приличное расстояние.
Мимо по аллее с группой подруг прошла смущенно хохочущая Галя Виницкая. Сердце заколотилось, взгляд отвлекся в небеса, в зеленые небеса с вечерними розовыми корабликами, потом опустился на скульптуру спортсменки, которая была ростом с него, у которой были большие потрескавшиеся гипсовые груди и совсем облупившийся, хотя все еще мощный живот.
Скамья качнулась и тяжело осела. Борис вздрогнул – рядом с ним сидел Валдонис, смущенно тер веснушчатую жеребячью физиономию.
– Привет, – сказал Борис.
– Привет, – сказал Валдонис.
Они посмотрели друг на друга, побагровели, посмущались, потом улыбнулись.
– У тебя книжки нет какой-нибудь почитать? – спросил Борис.
– У меня на литовском, – сказал Валдонис.
– Жалко, я литовского не знаю, – вздохнул Борис. – А у меня есть Дюма, да я его всего прочел. Ты любишь Дюма?
– Так, – кивнул литовец.
– Здорово сегодня поиграли, правда? – спросил Борис.
– Да, так, – подтвердил Валдонис.
Борисом овладело веселое возбуждение, желание болтать с этим парнем, рассказывать анекдоты, трепаться, веселое какое-то озорство.
– Пойдем по городу пошляемся? – предложил он.