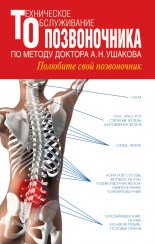Гибель Помпеи (сборник) Аксенов Василий

Старайтесь отвлечься от набережной с фланирующей толпой отдыхающих варваров, от фасада гостиницы, одетого в леса, по которым таскаются бухие маляры, не поглядывайте и на кафе, в огромном окне которого на втором этаже восседает знакомая римская компания.
В компании этой, разумеется, верховодили и платили за всех два-три грузина, провозглашавшие непрерывные тосты за Арабеллу.
– Ара-белла! – говорит грузин, держа свой бокал на весу над столом.
Все смотрят на бокал, словно на шарик гипнотизера.
– Ара-белла!
Забавно, что «ара» в грузинском языке частица отрицания, и, провозглашая нашу знаменитую Арабеллу, грузины как бы пьют за какую-то свою таинственную Не-беллу.
Арабелла за стеклом кафе встала и протянула мне стакан вина. Мы с ней были отдаленно знакомы, и вот теперь она с тихим приветом протянула мне то, чем была богата в этот момент, – свой напиток. Рука ее прошла сквозь стекло и, высунувшись по запястье, предлагала мне сейчас что-то хорошее.
Впоследствии, если зайдет речь, обязательно объясню, что с того ракурса, в котором я находился в тот момент, из той плоскости, которая меня в тот момент пересекала, я просто не мог увидеть ни Арабеллу, ни тем более стакана с вином.
Тем временем к окну кафе по лесам непринужденно приблизился один маляр, взял из руки стакан и бойко поклонился. Он отставил было уже мизинчик, чтобы благородно употребить благородный напиток, как вдруг прервал волшебную процедуру и заорал куда-то могучим голосом:
– Николай, ложь кирпич! Приказываю – ложь кирпич! Ложь кирпич взад, стрелять буду!
Стрелять ему было решительно нечем. Впоследствии это обстоятельство широко обсуждалось на набережной. Чего ж он кричит – стрелять буду, когда стрелять нечем. Орет, понимаете, стрелять буду, а чем ему стрелять. Вот народ – кричит стрелять буду без всякого огнестрельного оружия, что ты будешь делать, какие хвастуны.
Гуляющие посмотрели, кому это маляр так слишком громко кричит, и все увидели еще одного маляра в заляпанной спецовке, который, стоя вблизи на лесах, малярил балкон третьего этажа. Малярил за милую душу, вяло и грубо, сморкаясь в рукав, ничего не подозревая. Над ним, над этим вторым маляром, между тем на балконе стоял третий, который и целился кирпичом своему товарищу в темя.
Протянувшееся мгновение.
Раз) Первый маляр держал стакан хорошего вина. Второй маляр держал кирпич, целясь третьему в темя. Третий маляр держал кисть в слабой и пьяной руке.
Два) Второй маляр обрушил кирпич на голову третьему маляру. Третий маляр упал с лесов на асфальт и там раскинулся. Первый маляр выпил стакан вина.
Три) Первый с пустым стаканом в руке бросается куда-то – то ли жертву спасать, то ли хватать преступника. Второй со слепящей улыбкой, заливающей лицо, вторым кирпичом добивает третьего. Третий, дернувшись, переворачивается на спину и вновь раскидывается широко и свободно.
Растекается темная лужа.
Набережная взорвалась криками:
– Это он его за бабу, за бабу, за бабу свою!
В дверь на балконе ломились отважные. Убийца, залитый слепящей улыбкой, перелез через перила. Кувырком вниз полетело его тело, ударилось о балкон второго этажа и рухнуло мешком на асфальт рядом с жертвой. Тут же начала растекаться вторая темная лужа.
За бабу, за блядь, за парикмахершу Светку из ревности, как в опере Бизе, два хороших специалиста, среди бела дня, и не сильно выпимши даже.
Уравновешенно шумела толпа отдыхающих под надзором дружинников. Подъехала надлежащая машина. Соответствующий персонал погрузил трупы. Машина медленно тронулась.
Из парикмахерской на набережной выскочила виновница событий. В распахнутом белом халате разнузданной плотью мельтешил ярчайший полистер.
Говорят, что и деток у них было двое, употребляет кто-то прошедшее время, будто и детки сплыли у Светки вместе с папашами.
Парикмахерша цапала руками «Скорую помощь», рыжее чучело ее головы как будто катилось по крыше машины. Черные отпечатки пальцев. И такими руками они нас броют.
Впоследствии мне казалось, что именно с этого момента и началась гибель Помпеи. Будто бы этот фатальный инцидент и начал разруху курортного города со всеми его санаториями, ресторанами, скульптурами трудящихся и Исторического Великана. Будто маляр с кирпичом дал сигнал вулкану. Будто бы только тогда и появились завитушки дыма над скалистым отрогом, висящим в золотистом небе.
На самом деле, скорее уж, если и была между этими явлениями какая-нибудь связь, то обратная. Дымок появился много раньше. Его никто долгое время не замечал, потому что жители и гости Помпеи, как ни странно, мало наблюдали природу. Они наблюдали в основном друг друга, ибо только в человеческом коллективе видели источник своих наслаждений, или, как сейчас принято говорить, «кайфа».
Замечать дымок стали только тогда, когда он, собственно говоря, стал уже дымом, однако приезжие полагали, что это просто местная достопримечательность, а местные думали, что это просто там в горах происходят просто какие-то эксперименты просто-напросто наших вооруженных сил. Военная мощь нашей республики как бы исключала возможность стихийной беды.
Никому, конечно, и в голову не приходило искать связь между розоватым дымком в горах и волной странных поступков, захлестнувшей побережье. Вспышка страстей в малярном цехе была лишь одним эпизодом в череде многих.
Рассказывали, например, такое.
Якобы ранним утром на каком-то перекрестке был замечен инспектор дорожного надзора, который, сидя на крыше патрульной машины, брился перед огромным круглым зеркалом, установленным здесь для усиления безопасности движения, но отнюдь не для бритья. Будто бы в баре «Карфаген» дружинники-фарцовщики как-то вечером поколотили голландского туриста. Они, видите ли, слушали старинную музыку, а он, понимаете ли, мешал, то ли товар какой-то предлагал, то ли с девочкой просил познакомить. Этот факт в череде многих был, пожалуй, самым невероятным, учитывая особые отношения между голландцами и помпейской народной дружиной.
Ну, вот еще нечто. На танцах в клубе Деревоотделочного комбината какая-то пара разделась донага, продемонстрировала коитус и была не только не побита, но шумно одобрена танцующей молодежью.
Далее. Директор этого клуба, когда его вызвали на проработку в горком, явился туда с букетом горных маков. Замечательно, что букет был принят. В тот же самый горком позвонил как-то режиссер римской киногруппы, снимающей здесь фильм из заграничной жизни, и предложил превратить город в съемочную площадку, то есть практически реставрировать в Помпее капитализм.
Пенсионеру-активисту Карандашкину, торгующему на набережной билетами государственной лотереи, какие-то злоумышленники надели на голову цинковое ведро. Из ста тысяч билетов, отобранных негодяями у пенсионера, не выиграл ни один. Между тем Карандашкин направил открытое письмо ко всем честным людям планеты, а газета «Кузница здоровья» это письмо опубликовала. Завязалась нелепейшая полемика, остановленная только по прямому приказу идеологической комиссии.
Рекордом бессмысленной жестокости в те дни оказалось нападение каких-то бродяг на тигриный цирк. Огнетушителями они выгнали из клеток насмерть перепуганных зверей. Тигры эти уже в десятом поколении были цирковыми артистами и прыгали в обруч без всякой тренировки, просто по генетическому зову. Рассыпавшись по городу и столкнувшись со странными нравами помпеян и гостей курорта, они, естественно, одичали. Громоподобный рык этих несчастных тварей слышался в Помпее вплоть до ее последнего дня.
Происходили, впрочем, и какие-то маловразумительные акты добродетели. Как-то глухой ночью повара санатория «Родина» Матвея Тряпкина взяли за грудки какие-то трое и спросили – есть у тебя 50 рублей? Откуда у пьяного пищевика такая сумма? Налетчики обыскали бедолагу и, убедившись, что не врет, подарили ему полусотенную ассигнацию.
Какая связь существует между поступками людей и состоянием огненной внутриземной магмы – прямая или обратная, косвенная или непосредственная? Никто не знает, все запуталась. Розовая шапка над вулканом с каждым днем увеличивалась.
Ах, как мне работалось в те дни! Утром в пружинящих кроссовых туфлях я выходил из гостиницы и начинал бег по асфальтированному подъему из нижнего парка в верхний. В предрассветные эти минуты темно-синяя гряда на востоке обозначает свой край с предельной четкостью, потому что вот-вот из-за нее выскочит солнце, у меня и башка варила отлично – страницу за страницей я озирал свой опус «Резонанс на квазидискретном уровне»; и весь мой паровоз быстро, ловко и синхронно разогревался – молочная кислота из мышц уходила во внешнюю среду, помолодевший гемоглобин расправлял опавшие альвеолы, и эстетическая железа не дремала, а, напротив, просыпалась радостно и все с восторгом воспринимала – и кусты чайных роз, тайно и нежно зовущие в сумеречных углах под каменной кладкой, и сокровенное, слегка порочное шевеление набухшей персидской сирени, и восторженно наивный запах мокрой от росы глицинии. Какие строки мне тогда удавались, какие строки! «Система, склонная к распаду, не обладает, строго говоря, дискретным спектром энергий. Вылетающие из нее при распаде частицы уходят на бесконечность». Такие строки!
Я завтракал прямо за рабочим столом, съедал заготовленную заранее пару холодных яиц, пил растворимый кофе и читал свои фразы в окно своему Историческому Великану. Он, как обычно, щурил свои варварские глазки, странная смесь степного кочевника и швейцарского клерка, взирал на меня совершенно неопределенно, но мне казалось, что все-таки снисходительно одобрял: пиши, дескать, пиши, чего, мол, тебе не писать золотым-то «монбланом» по бумаге верже, пиши, но не забывай и о тех, кто свою писательскую страсть удовлетворял тюремным молочком и хлебным мякишем.
Бесчисленные изображения Исторического Великана делятся на два вида: величественный и человечный. Мой, упрятанный в цветущую помпейскую флору, не был ни тем, ни другим; какой-то особенный. Безымянный ваятель схватил его как бы в момент бессмысленного эмигрантского променада. Случались ведь, наверное, и у него в исторической жизни такие пустые дни: движение буксует, распадается на дурацкие фракции, долги у зеленщика и в мясной растут, однако брезжит, хоть малый, но луч света в темном царстве – издательство «Конпф» обещает аванс, а в Риме подстрелили полковника центурионов, пустяк, но все-таки приятно, во всяком случае можно спокойно прогуляться с соседом дантистом Грубером и показать ему волжской ладонью: да-да, герр Грубер, не поверите ли, вот такая архиокруглая грудь, эдакий увесистый арбузик… Этот мой ИВ как бы и не был великаном, просто слегка раздраженный, слегка нездоровый, немного недомытый, словоохотливый господин, сосед как сосед, нормальный ситизен. Я читал ему:
«…в результате релятивистских эффектов уровень с данными L и S расщепляется на ряд уровней с различным значением Y…»
Он выслушивал без особого восторга, но и без возмущения, как бы подлавливая паузу, чтобы вклиниться со своим арбузиком.
Однажды райским утром (расценивайте эпитет с точки зрения вышесказанного) я увидел на ладони Исторического Великана тонкостенный стакан с хорошим вином. На постаменте, свернувшись калачиком и положив голову на исторические ботинки, спала Арабелла. Мой взгляд ее разбудил.
– Доброе утро, – сказала она. – Вы знаете, что Помпее грозит гибель?
– Когда? – спросил я.
– Три дня вас устроит? – спросила она.
Я прикинул.
– Три дня? Это немало.
– Может быть, и меньше. Поторопитесь.
– А как вы здесь оказались, Арабелла?
– Случайно наткнулась в кустах на этого господина. Он поразил меня. Бедное заброшенное дитя истории! Он долго рассказывал мне об астраханских арбузах и, как всегда, ужасно преувеличивал. Однако я слушала его ночь напролет. Он ведь несчастный, так и не понятый никем, кроме своей бедной жены. Мы ведь с ним слегка родственники по половецкой аристократической линии. Увы, европейский наш ствол расщепился в слишком отдаленные века. Их сучья засохли, наши плодоносят до сих пор. Кто в этом виноват? Я предложила ему все, чем была богата. Видите, стакан на ладони? Видите, он благороден – не тронул, оставил мне до утра, как это мило, нет-нет, в частной жизни он определенно был не понят.
Она встала и потянулась. Белые брюки ее и блуза были в бронзоватой пыли – великан слегка линял.
Любимица Рима, мифическая Арабелла! Всякий раз, когда встречаешься с нею, думаешь, что это фокусы телевидения или новоизобретенная голография.
Обезьянкой она вскарабкалась вверх по историческому великану, ловко укрепляя босые ступни в изъянах скульптуры, достигла стакана.
– Доброе утро!
Закинутая голова. Большие глотки. Огромный мускул горла споро проталкивал настоявшуюся за ночь в звездном бродиле влагу.
– Это что же, по вражескому радио передали? – спросил я.
– О нет, я сама ему на ладонь поставила, – испугалась притворщица Арабелла. – Это мое вино, клянусь вам!
– Я не о вине.
– О чем же?
– О новости. О гибели Помпеи.
– Ах, об этом! – она весело болтала ногами, свисая с руки ИВ. – Да-да, то ли ангел пропел, то ли радио набрехало.
Я стал надевать свои кроссовки.
– Как вам пишется? – спросила Арабелла. – Прочтите пару строк из «Резонанса».
Я прочел.
– Браво! – сказала она.
– А как вам поется? – спросил я.
– Надоело, – засмеялась она. – Вам хорошо, сидишь, как червяк, и пишешь. Пение по телевидению – отчаянная скука!
– Однако публика… – начал было я.
– Знаю-знаю, – отмахнулась она. – Я пытаюсь найти другой путь, чтобы ободрить их к существованию. Вы, кажется, собираетесь бегать? Возьмите меня с собой.
Мы побежали вместе ровно и ритмично в винном облачке ее дыхания, но, повернув однажды голову, я не нашел ее рядом. Обернувшись, я увидел в удаляющейся с каждым шагом перспективе цистерну с пивом. Вокруг нее толпились маляры и киношники, Арабелла, протягивая вперед ладони, ободряла дремучий наш люд к дальнейшему существованию.
Вечером на Помпею стал падать пепел. Мутный лунный свет освещал гребень хребта, над которым поднималось мутное розовое свечение. Кое-где по лесистым склонам ползли уже змейки пожаров.
Иностранные радиостанции на все голоса предвещали гибель курорта. Столица наша мощно и спокойно опровергала клеветнические слухи.
В тот вечер я поставил точку в манускрипте и отправился в парикмахерскую. Что-то захотелось резко переменить во внешнем виде: то ли подбрить виски, то ли подкрутить усы – короче, ноги несли меня в парикмахерскую.
Представьте себе меня в тот вечер – огромного роста рыжий детина с огоньком в глазах. Благие порывы забыты. Забыты и красивые фразы из «Резонанса», начисто выветрились. Отчетливо понимая, что Помпея и на этот раз «засосала», бодро двигаюсь к центру «засоса» – в парикмахерскую. Хлопья пепла красиво парят, слетаются к свету ранних фонарей, опадают на толпу варваров, как всегда жаждущих «кайфа».
Прямо у набережной ошвартовался греческий лайнер. Там играет музыка. Все время повторяется новый шлягер «Любовная машина». Вокруг лайнера бурлит толпа. Фарцуют все кому не лень: и пионеры, и пенсионеры, и лабухи, и даже центурионы в своей форме, и даже, между нами говоря, центурионы в штатском. Кажется, даже конечный смысл фарцовки уже потерян, забыты принципы первичного обогащения, идет какой-то беспорядочный алчный обмен, охота за одеждой, напитками, разной японской мелочью, табаком.
Вот и парикмахерская: над входом держат венок дореволюционные наяды, слева от входа мемориальная доска в память о подпольных заседаниях помпейской ячейки нашей пасеки, справа мемориальная доска в память о пребывании «великого летописца эпохи сумерек общественного сознания». Остается вопросом, долго ли он здесь пребывал и что делал, пребывая: усы ли подкручивал, подбривал ли виски?
Впрочем, в эпоху сумерек здесь вроде бы и не было парикмахерской, здесь как будто бы как раз и помещался гигиенический дом терпимости. Конечно, может быть, и это брехня, городской миф с ухмылочкой: обыватель про летописцев обычно распространяет ехидную похабщину, а истину установить сейчас невозможно – архивы уничтожены, история полностью искажена пропагандой.
Итак, я вхожу в большой зал, отражаюсь сразу в двух десятках зеркал: внушительная картина – прибытие в парикмахерскую целой толпы огромных рыжих мужланов. Два десятка кресел, соответствующее количество мастериц – толстенькие, тоненькие, грудастенькие, жопастенькие, в помятых и испачканных халатах, все в разной степени пьяные. Полный комплект клиентов. Один буйно хохочет, дрыгая в кресле руками и ногами, другой обвисающим телом клонится долу, вяло водит над полом рукой, будто в поисках подводных сокровищ, третий вращается в кресле, обхватив бригадиршу цеха за ягодицы и напевая вальс «Робок – не – смел». Остальные более-менее бреются.
Каково настроение вошедшего рыжего гиганта? Всю бы эту шваль хлыстом из брадобрейного храма и разом плюхнуться во все двадцать кресел, все двадцать баб почему-то безумно нравятся. Постыднейшее, конечно, настроение.
Пристыженный, вижу – здесь, оказывается, и очередь еще отдыхает, мужланов пять-семь; чем я их лучше? Ничего не поделаешь, вот с этой пьяной швалью нам и жить, заикающееся содружество людей, отравленных мерзкими «портвейнами», рублевым пойлом с осадком химической слизи, так называемой «бормотухой». С такой швалью, как мы, не только Помпея, год-два – и сам Рим качнется, но вот с ними, с нами, нам и жить, с ними и гибель встречать, а эмиграция – это прогар, как внешняя, так и внутренняя.
Очередь покачивалась, пьяная и сырая, с бессмысленно улыбающимися глазами, с лицами, перепачканными вулканной сажей. Никто из присутствующих и не подозревал, что совсем недалеко, на другом берегу темного маслянистого моря, в «странах капитала» сотни парикмахеров проводят время в благостной тишине, в почтительном ожидании благородных клиентов.
Впрочем, везде, в каком-то смысле, такая же вонь, если не хуже, сказал я себе, присоединяясь к собратьям.
– Везде такая же вонь, если не хуже, – ободрил я вслух своих собратьев.
– У нас в металлургическом бассейне хуже, – сказал один улыбающийся.
– Чего смотришь? – спросил второй улыбающийся.
– А вот смотрю, – сказал третий улыбающийся.
– Он смотреть хотит, – сказал четвертый улыбающийся.
– Нехай смотрит, – сказал пятый улыбающийся.
– Хотишь, смотри, – сказал шестой улыбающийся.
– Смотри, мне без разницы, – сказал седьмой улыбающийся.
Рыжий гигант не без ужаса смотрел на пропортвеенную компанию. Один определенно выделялся из улыбающихся дегенератов: могучая лепка дурацкого старого лица, полковник почетного легиона в отставке. У этих, наследников цезаризма, хоть что-то в лице сохранилось, подумал я, незыблемость бездарной величественной эпохи, хоть к ним, что ли, пристать, к последним надолбам общества.
Громовой раскат медленно прокатился над Помпеей. Озарилось на миг исковерканное море. Качнулся пол в парикмахерской. Потрескался дореволюционный кафель.
Быть может, только и осталось, что присоединиться к цезаризму, подумал рыжий гигант. Единственные столпы, что, может быть, не подгнили. Он предложил полковнику сигарету «Мальборо».
– Вот по телевизору говорят, что заграница гниет, – сказал полковник, вдыхая голубой дымок. – На самом же деле у нас тут помойка, а у них экономические достижения. Причина.
– Какая? – спросил рыжий.
– Порядка нема, – охотно пояснил полковник. – Критиковали маршала Тараканкина, и это была правильная критика, согласен. Однако забыли, что маршал был голова. Как он указывал? Задерживать демобилизацию личного состава каждому на количество штрафных суток. Вот так.
– Почему тут сортира нет? – удивился один улыбающийся. – Товарищ мочится без наличия сортира.
– Все хочут писать, но молчат, – сказал другой улыбающийся.
– Приехал маршал Тараканкин на нашу триеру, – рассказывал полковник. – Демобилизация. Всех проводили с оркестром, а матроса Пушинкина оставили на сто пять суток, потому что и накопилось у него сто пять суток «губы» за три года службы. Все вернулись к созидательному труду, а матрос Пушинкин сто пять суток шатался без дела по всем отсекам триеры и совершенно обовшивел.
– Какая связь, простите, между этим фактом и экономическим отставанием? – спросил рыжий гигант.
– Забыли о порядке, – пояснил полковник. – К тому же кампания борьбы с космополитизмом нанесла урон нашей науке. Взгляните вокруг – нынешнюю колбасу коты не едят.
– Экий кисель у вас в голове, – рыжий гигант не без растерянности отступал из мнимо спасительных колоннад цезаризма.
Еще один удар. Порыв горячего ветра одним махом согнул все пальмы на набережной. Рухнула и раскололась одна из дореволюционных наяд. Со звоном обвалилась стеклянная дверь парикмахерской. Хлопья пепла и гадкий мусор общественного курорта влетели в салон. Грязные халатики облепили донельзя желанные туловища двадцати ужасных шлюх.
Мгновение, два – перед нами пустыня катастрофы: багровые сполохи, пальмы, согнутые железной метлой ветра, вспученное море с неуклюже сползающими в прорву военно-морскими силами – не на одной ли из этих триер служил бедолага Пушинкин? – брошенный на асфальт торс наяды. Запомни хоть это, если уж все забывается, запомни хоть это.
Компания молодежи с хохотом, с песенкой «Любовная машина» прошла, переступая через наяду, один лишь поставил на нее ногу, чтобы перешнуровать ботинок. Все нормально, течет мимо незапоминающаяся жизнь, стихийными бедствиями занимаются соответствующие организации, прогноз хороший, и Рим незыблем.
Вдруг разом вышли из салона семеро гладко выбритых и подстриженных граждан.
– Следующие, проходите! – прорычала бригадирша: радиосистема здесь, оказывается, еще функционировала.
Рыжий гигант упал в кресло, прямо в жадные женские руки. Как можно сохранять подобную неопрятность, служа по цеху общественной красоты? Пальцы с обломанными ногтями, с облупившимся маникюром, шустро шныряли по груди, животу и в паху рыжего клиента. Жадный большущий рот с размазанной помадой хохотал над ним. Титьки вываливались из разнузданного полистера, мокрый подол прилип к торчащим подвздошным костям, а все, что ниже, напоминало глубоководную агаву, известную своей страстью к подманиванию, засасыванию и проглатыванию невинных рыб. Так вот кому достался рыжий гигант – городскому позорищу Светке, вдове двух маляров.
– Так вот кому я досталась! – хохотал похабный рот. – Рыжему, рыжему, нахальному, бесстыжему! Пойдем-ка, рыжий, отсюда на фиг. Я тебя на пляже поброю! Забирай все это хозяйство! Я тебе на пляже по классу «люкс» заделаю!
– Позвольте, но сдается мне, что это супротив всяких правил, – пролепетал рыжий гигант, тем не менее распихивая по карманам пудру, кремы, резиновый пульверизатор с шипром и помогая Светке снимать со стены старинное зеркало в золоченом багете.
– Завтра же будешь уволена за блядство, Сенькина, – сказала бригадирша Шмыркина.
– Как бы ты сама не вылетела, Шмыркина! – заорала Светка. – У нас тут не частная лавочка, у нас местком! Сами блядуете за шторкой, а клиенты недовольные!
По потолку прошла кустистая трещина. Вулканный ветер кружил в салоне, поднимая самум обстриженных волос.
Две бабы быстро пролаяли друг дружке в лицо что-то совсем уже оскорбительное и невнятное.
Рыжий гигант потащил зеркало на пляж. Светка тащила за ним заляпанные простыни.
– Ой, мама родная, ну и клиент попался, ой да ой, – покрякивала Светка.
Рыжий гигант сжимал в ладонях ее мослы, но голову отворачивал, чтобы не видеть ужасного лица.
Серая галька лежала на пляже волнами, и во всех ее складках слышались покрякивания и повизгивания. Везде вершился грех, и на все скотство падал пепел.
В нашем случае грех усугублялся дурацким зеркалом. Оно стояло в головах совокупляющейся пары, и всякий раз, подняв голову, рыжий гигант мог видеть свое лицо, до странности невозмутимое.
За лицом моим с каждой минутой багрово просветлялось море – над Помпеей все ярче разгорался вулкан. Затем в зеркале появились две девки в обтягивающих джинсах. Они стояли, свесив лошадиные лица и покачиваясь, одна держала у другой руку на лобке, другая сжимала подруге грудь.
– Во, Галка, смотри, как работают кадры, – сказала одна, как бы икая в нашу сторону. – А мы с тобой еще кайфа ищем…
Тут они рухнули в какую-то ямку и заматюкались оттуда: ну, я пиздыкнулась, ну, я хуякнулась, ой, Галка, ой, Томка, смотри какое небо звездное, смотри звезда летит, летит звезда…
То, что они принимали за звезды, были раскаленными вулканными бомбами.
Началось мучительное, толчками, изнуряющее до мычания извержение.
– Ну, клиент, ты дал шороху, – высказалась Светка. – С тех пор, как Николай с Толей друг друга поубивали, такого не кушала.
Сажа была размазана по ее лицу, глаза благородно сияли.
Я смотрел на себя в зеркало – куда пропал рыжий гигант? Лысоватая голова оплывала, как свечка, тело раздувалось, как тесто из дурной муки.
Раскаленный камень свалился на пляж, подбросил вверх фонтан гальки, закрутился волчком и скатился в море, где и погас с шипением в облаке пара. Я встал и пошел прочь, с трудом переставляя свои слоновьи ноги. Пуговицы на рубашке оборвались, свисал немыслимо вдруг раздувшийся мохнатый черный живот.
Крыши домов вдоль набережной трещали под ударами валунов. Сыпались окна. Уцелевшие кое-где неоновые буквы читались абракадаброй. Внутри магазинчика с кокетливым названием «Сластена» бушевало могучее пламя. Рядом, однако, спокойно стояла собравшаяся еще утром очередь в соседний «Гастроном». Ждали подвоза фантастической буженины, хотя ни о каком подвозе и речи быть не могло: все перевалы над Помпеей были окутаны дымом, охвачены огнем.
Повсюду играли оркестры. «Любовная машина» гремела из подвалов, из-под тентов открытых ресторанов. Публика всех возрастов неистово танцевала. Неслыханная во времена цезаризма свобода движений, выпученные глаза, похотливые руки, жуткая помпейская трясучка. Социализм, подражающий капитализму, социалистичен до слез.
Из всех, кому в горящей Помпее было хорошо, мрачному толстяку со свисающими по бокам лысого лба грязными темными патлами было всех хуже. Слоноподобный надменный толстяк слабо и бессмысленно поворачивался в толпе, пока не увидел будку междугородного телефона. Из нее можно было сразу включиться в столичную телефонию, но, странное дело, она была пуста: никому, как видно, не было никакой нужды звонить в Рим. Толстяк зашел в телефонную будку.
– Вы знаете, что мы горим? – спросил он первого, кому удалось дозвониться, коллегу по институту.
– Старик, на ночь глядя философские вопросы! – игриво хохотнул коллега, нормальный, в принципе, мужик, который ничем по сути дела не отличался от меня – такой же лукавый раб поглотившей нас всех коммунальной системы.
– Да не в философском смысле слова, – сказал толстяк. – Помпея гибнет. Вулкан взбесился.
– Ну, это не телефонный разговор, – сердито произнес коллега.
Все, понятно, теперь меня в провокаторы записали. Я повесил трубку и увидел через стекло Арабеллу, которая, подтанцовывая и раскачивая ладонями, возглавляла развеселую компанию. Все там кружились, подтанцовывали. На плечах у Арабеллы мягким кольцом вокруг шеи лежала тихая травоядная змея.
– Эй, выходите! – крикнула мне Арабелла. – Что это вы там пухнете в телефонной будке? Господа, посмотрите, как этот типус распух!
Пара веселых грузин вытащила толстяка из телефонной будки и предложила ему бутылку великолепного вина.
– Где вы такое вино достаете? – удивился я. – Где вы вообще все такое хорошее находите? – простодушно спросил я. – Как это вообще вы, грузины, умудряетесь жить довольно чудесно среди всеобщего убожества?
– Нет проблем, – весело ответили грузины.
Раскаленный кусок скалы угодил в телефонную будку и мгновенно стер ее с лица земли. Лицо же земли разъехалось под нашими ногами шириной в полметра. Мы перепрыгнули через трещину и пошли по набережной вдоль алчущих кайфа очередей и веселящегося внутри горящих кафе люда.
Маленький умный мальчик юннат шел по пятам за Арабеллой и хныкал:
– Тетя, отдайте мне желтопузика. Я взял его на время для изучения из зоологического уголка.
– Дитя! – всплеснула руками Арабелла. – Неужто ты хочешь разлучить нас? Неужто ты не видишь, как нравится твоему желтопузику висеть у меня на шее? Дитя, мы любим друг друга! – она взяла головку желтопузика в свои ладони и поцеловала ее в уста. – Дитя, признаюсь, я и сама – основательный желтопузик, и если ты настоящий юный натуралист, ты должен изучать нас обоих.
Что-то вроде шаровой молнии пролетело над набережной и зависло над главной площадью Помпеи, над зданием горкома и над самой могучей и величественной скульптурой Исторического Великана.
– Мы все желтопузики! – восторженно закричала вся наша компания: магнетическая Арабелла!
То, что зависло вдали над площадью, висело недолго – шарахнуло и рассыпалось мириадом искр. Затем на миг возник фосфорический свет, озаривший главную площадь. Видно было, как падают статуи разных эпох: пограничник, трактористка, танкист, космонавт… и как начинает валиться основная, самая могучая статуя. Она так и застыла в памяти – в наклонном падающем положении, потому что фосфор погас, а грохот ее падения заглушил нарастающий гвалт Помпеи – оркестр, крики, смех и треск пожаров. Мелькнула мысль – а мой-то как там, мой личный ИВ, что с ним?
– Жертв нет! – вскричал тут один из арабелловской свиты. – Исключительное явление природы, товарищи! Извержение вулкана без человеческих жертв. Противовес нейтронной бомбе – материальные ценности уничтожаются, личности остаются! Я так и сообщил в Рим по «вертушке»: жертв нет, стихии противопоставлено мужество!
Всем своим видом человек этот, одетый в официальную пару и со значком нашей пасеки в петлице, должен был как бы олицетворять стабильность нашей всеобъемлющей администрации, но на лице у него дергался малый мускул, а из кармана пиджака торчала початая бутылка коньяку.
Арабелла одобрила его своей мягкой ладонью от щеки до щеки через аккуратную шевелюру.
– Бедное дитя, заброшенное среди огненной стихии! Еще утром вы царили в своем горкоме, а сейчас вы – одинок! Мы не оставим вас! Мужайтесь!
– Я мужаюсь, – секретарь доверчиво смотрел на Арабеллу. – Я так и передал, успел сказать по «вертушке»: стихии противопоставлено мужество.
– Тетя, отдайте желтопузика! – взмолился юннат. – Ему есть пора!
Приблизился некто с чертами утраченной тайной власти, с бутылочкой пепси-колы и стаканом.
– Твое пресмыкающееся, оно жрет пепси-колу? – спросил он юнната, глядя на него все еще пронизывающим взглядом.
– Оно не пробовало, – пробормотал юннат, – но я… лично я, товарищ полковник, ем пепси-колу с удовольствием.
Полковник в штатском, шеф местного отдела центурионов в штатском, стал наливать в стакан пузырящуюся пепси-колу и угощать юнната и змею. Мальчик жадно глотал чужеземный напиток, а то время как желтопузик лишь деликатно поклевывал коричневую влагу, свешиваясь с плеча Арабеллы. Компания наша разрасталась и превратилась уже в толпу. Шли мужчины и женщины, юноши и старики, прыгали дети и собаки, шмыгали кошки, тащились, словно овцы, тигры из местного цирка – и все это двигалось за любимицей всего нашего народа, метрополии и варварских областей, телевизионным миражом Арабеллой.
Некогда она пела выразительным голосом по чердакам и подвалам Рима и была известна лишь чердачно-подвальной элите, как вдруг явилась среди суконных рыл на ТиВи, странное существо с гипнотическим голосом, и весь наш дикий народ, уставший от своих завоеваний, не освистал ее, но возлюбил. Какое чудо внедрило ее в телесеть и не было ли это одним из первых симптомов нынешней тектонической бури?
Куда мы шли? Почему-то в гору, поближе к огоньку. По узким горным улочкам Помпеи мимо горящих домов мы поднимались ближе к пеклу, на Холм Славы. В домах взрывались самогонные аппараты, лопались трубки телевизоров, плавились зеркала, но жители почему-то как бы не замечали гибели имущества, все торопились поймать хоть какой-нибудь «кайф» и присоединиться к нам.
– А вы опять помолодели, дружище, – сказала мне Арабелла. – Где ваш мутный взгляд?
Я и впрямь чувствовал какую-то странную молодую легкость. Все легче и веселее я перепрыгивал через струи раскаленной лавы, растекающиеся по брусчатке. Однажды в каком-то осколке стекла среди десятков лиц мелькнуло и мое отражение – таким я, кажется, был лет двадцать пять назад, в студенческие времена.
Странные возрастные изменения происходили во всей процессии: юннат, например, в своих коротких штанишках напоминал теперь большущего зануду-доцента, а шеф тайной службы – дрочилу-гимназиста из тех, что вечно торчат в школьных туалетах.
– Остановитесь! – вскричал вдруг секретарь горкома. – Вот база спецснабжения!
Перед нами были тлеющие руины ничем не примечательного особняка. Рядом с ним ярко полыхал черный лимузин «Тибр».
– За пять минут до гибели горкома я отдал распоряжение Ананаскину произвести здесь полную инвентаризацию, – волнуясь, объяснял секретарь горкома. – О нет, Арабелла, уверяю, мне лично ничего не надо, просто любопытно, каковы результаты.
В «Тибре» взорвался бензобак – пастораль на фоне огненного урагана. У базы спецснабжения отвалилась дверь, и на крыльце появился Ананаскин, сгибающийся под тяжестью огромного копченого осетра.
– Вот все, что удалось спасти, – прохрипел он.
– Милый Ананаскин! – воскликнула Арабелла. – Скромный секретный снабженец, тихий распределитель по труду! Ты дрожишь, Ананаскин? Мужайся! Поцелуй желтопузика и присоединяйся к нам!
Охающий Ананаскин приложился к змеиным устам. Тут же кто-то пришел к нему на помощь, потом второй, потом третий добровольно подставил свои плечи под бревно осетровой туши.
Мы приблизились уже к вершине Холма Славы, где среди разрушенных барельефов трепетала ленточка Вечного Огня, такая трогательная в буйстве Огня Невечного.
– Не для нас рыбка плавала, не для нас ее и коптили, – кряхтел Ананаскин. – Человека ждали! Теперь уж чего темнить – самого проконсула! К счастью, не прилетел…
– Как это не прилетел? – сказал человечек из-за его спины. – Кто же тогда помогает вам в добровольной переноске осетрового бревна?
Человечек оказался тем, кого с трепетом уже вторую неделю ждала вся помпейская администрация, – проконсул из Рима. Оказалось, что самолет его сел прямо в лужу из магмы и влип, как муха; авто не подали, охрана по парикмахерским разбежалась. Теперь проконсул шел среди всех и старался не выделяться.
За ним под бревном шествовал пенсионер Карандашкин с цинковым ведром на голове. Замыкал четверку добровольцев мой гипсовый, с жалкими следами позолоты Исторический Великан из «Ореанды».
– По плечу ли вам наш осетр, товарищ? – вопросил Ананаскин.
– Именно такой труд высвобождает народы от ставших привычными форм эксплуатации, – высказался Исторический Великан.
– Куда идем-то? – спросил из ведра Карандашкин. – Где рыбу-то есть будем?
– Не понимаешь? – удивился грузинский танцующий артист. – Арабелла нам сейчас петь будет с холма!
– Во кайф! – гулко крикнул пенсионер.
– Во кайф! – откликнулась вся процессия.
«Да как же мне бросить их, этих любимых чучел? – с тихой улыбкой думала Арабелла. – Как мне лишить их себя? Что у них без меня-то останется? Сафо? Жорж Занд?» На вершине Холма мы все рассеялись. Горели вокруг сухие травы, плавился алебастр, рушились барельефы героических деяний. Внизу в грохоте своего джаза коллапсировала Помпея.
- Все разгораясь и грубея,
- Там пир идет, там речь груба…
- О, девочка моя, Помпея,
- Дитя царицы и раба… —
пропела Арабелла и чуть-чуть прокашлялась.
– Я давно не пела, но сейчас спою вам все от начала до конца, или от конца до начала, или из середины в обе стороны.
Вулкан ревел, как все радиоглушилки времен цезаризма и наших дней, вместе взятые, но слабый голос певицы был все-таки слышен.
– Чаво она поет? – спросил очумевший от невиданной за всю жизнь осетрины Карандашкин.
– Свое поет, не наше, – вяло объяснил проконсул, отдавая редкой рыбе привычную дань.
– Удивительная, нечеловеческая музыка, – задумчиво проскрипел Исторический Великан.
Потоки магмы, обтекая Холм Славы, низвергались на Помпею. Сверху казалось, что все уже кончено, но все новые и новые толпы поднимались на Холм. Шли наши трудящиеся и отдыхающие, ловцы современного кайфа, сторонники максимального удовлетворения своих постоянно растущих нужд. Все были уверены, что идет прямая трансляция с участием Арабеллы, и потому никто не думал о гибели Помпеи, ибо телевидение вместе с правительством знают, что делают, а чудес на свете не бывает.
Так с этой верой в неверие мы все и заснули на Холме Славы. Блаженно и бесповоротно мы забывали каждый свое. В моем, например, засыпающем разуме забывались строфы из «Резонанса», горделивого моего труда, призванного завоевать умы человечества, и думалась мысль о суете сует, которая тут же и забывалась.
Никто не очнулся и с началом дождя. Потоки воды низверглись с милосердных небес и утихомирили вулкан. Мы спали в клубах горячего пара, а потом под все усиливающимися порывами чистого северного ветра. Ветер разгонял пар, остужал оседающую лаву, но мы все спали.
Наступил новый прохладный и ясный день, когда мы все проснулись. Тысячи легких и чистых существ сидели на Холме Славы и не помнили ничего. Вокруг нас простирался ландшафт, незнакомая и спокойная география. Мы все смотрели друг на друга – автор «Резонанса», и ручные тигры, кошки, собаки, и маляры, киношники, музыканты, и Арабелла, и грузины, и Светка-парикмахерша, и ее бригадирша, и отставной полковник, и полковник тайного сыска, юннат, секретарь горкома, Карандашкин и Ананаскин, проконсул и лесбиянки, и Исторический Великан, и все вчерашние троглодиты материализма – мы все смотрели друг на друга, не узнавая никого и каждого любя. Тысячи глаз озирались вокруг с надеждой уловить цель нашего пробуждения.
Наконец мы увидели на верхушке Холма малый язычок огня и рядом с ним горячий каравай хлеба, голову сыра и кувшин воды. Это был наш завтрак. Потом мы увидели узкую тропу, которая петляла меж скал и поднималась к перевалу. Это был наш путь. Еще один миг – и на крутом отроге вулкана появилась белоснежная длинношерстная коза. Это был наш поводырь. Вот так случилось в Помпее в тот год, в начале весны. Впоследствии во время раскопок ученые удивлялись, что в разрушенных зданиях не было обнаружено никаких следов человеческих тел. В одном лишь здании, чем-то напоминающем школу, в лаве была найдена извилистая пустота, говорящая, возможно, о том, что когда-то она была заполнена тельцем небольшой безобидной змеи. Это позволило археологам сделать предположение, что жители Помпеи держали в домах ручных травоядных змей, именуемых «желтопузиками».
1979 г.
Круглые сутки нон-стоп
Впечатления, размышления, приключения
Начало
Зарекался ведь я писать «американские тетради», «путевые очерки», «листки из блокнота», или как там их еще называют… Ведь сколько помню себя, столько и читаю американские тетради, очерки и листки.
«…яркое солнце висит над теснинами Манхэттена, но невесело простым американцам…», «низкие мрачные тучи нависли над небоскребами Манхэттена, и невесело простым американцам…».
В самом деле, сколько всевозможных «Под властью доллара», «За океаном»! Что нового можно написать об этой стране?
Не пиши об Америке, говорил я себе. Приехал сюда читать лекции, ну и читай, учи студентов, сей разумное, доброе, вечное. Не буду писать об Америке – так было решено.