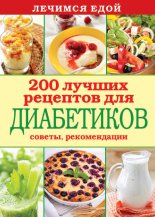Я люблю тебя, прощай Роджерсон Синтия

Сегодня мне стукнуло пятнадцать. Можно подумать, это что-то меняет. С днем рожденья, сто лет жизни! Это меня Мацек так поздравил. Дурачок.
Мои хотят устроить для меня вечеринку в следующую субботу. Мама с папой то есть. Прикидываются при мне, будто они друзья – водой не разольешь. Улыбаются как полоумные. У папы хватает ума сдерживаться, он даже вроде как сконфужен. Мама улыбается.
– Все что пожелаешь, сынок, – говорит он.
– Приглашай хоть всех друзей! – Это мама, а сама смотрит на меня внимательно и спрашивает, есть ли у меня друзья.
Ни фига не соображает. Само собой, я уже обзавелся кое-какими корешами. Понятия не имею, где они живут, и у нас дома они мне ни к чему. А то она испечет какой-нибудь кривобокий торт с украшением – с футбольным мячом там, а может, даже Шрека приляпает. С нее станется. Шариков везде понавешает, игры, чего доброго, затеет.
– Нет, спасибо, – говорю я. – Не нужно никакой вечеринки, ладно?
Ну, она вручает мне пятьдесят фунтов и новые джинсы в деньрожденской обертке, какие я хотел, и отчаливает домой, к нему. К Альпину. Своему козлу. Дико как-то произносить такое вслух. Мы с папой смотрим футбол. Мне, если честно, этот футбол по барабану. Но так уж у нас повелось, а потом – как я папе-то скажу? Он на футболе просто сдвинут.
Ну вот и сидим перед ящиком, папа распалился, надрывается, матерится, а я таскаю ему пиво, чтоб он чего-нибудь не пропустил.
Как мама ушла, он здорово изменился. Реально, лучше стал. Почти не орет и даже не пристает с уборкой. А вообще, если так подумать, мама тоже стала лучше. Хоть и такая же зануда, но больше не командует. Они теперь все время интересуются, как у меня дела, и покупают всякую пофигень. Вроде радоваться надо, а не радуюсь. Слишком все запуталось.
После матча, который я совсем и не смотрел, мы с папой достаем индийскую еду, которую еще надо разогревать. Она, по правде говоря, с душком, но я молчу. Здорово, что новая папина по дружка сегодня не притащилась. Да нет, она ничего, только это такой напряг, когда мы здесь втроем. Папа поет «С днем рожденья тебя!», а я замечаю, как он похудел и постарел. Хреново, однако…
Заглядываю на сайт к Джейку, и представляете – Роксана пишет ему «Привет!». С какой это стати она к нему зашла? У нее включена камера, и я вижу – она надела сережки с дельфинами. Дерьмовый же выдался у меня день рождения. Джейк – выдуманный персонаж, и камеры у него быть не может. Я-то вижу Роксану, а она видит только фотку Джейка.
«Красивые сережки», – пишу я, то есть Джейк пишет.
«Спасибо». – Она улыбается и трогает их. Она же так редко улыбается; чем это Джейк заслужил ее улыбку?
«Откуда?» – спрашиваю я и спохватываюсь, да поздно. Джейк никогда не спросил бы.
Она настораживается. Черт! И сама спрашивает:
«А что?»
«Да искал для сестры такие».
А здорово я выкрутился! Джейк именно так сказал бы. Я уже влез в его шкуру.
«Без понятия. Может, из “New Look”?[30] Подарил кто-то».
Вот те раз. Я даже забываю думать как Джейк, просто сижу и пялюсь на экран.
«Ты здесь?» – спрашивает она.
«New Look»? Черт меня побери, там же нет ничего дороже 50 пенсов!
«Джейк?»
Не помнит, значит, кто подарил?
Всего полдевятого. Сгоняю к Мацеку. Скажу, что мне уже пятнадцать. Может, он мне чего подарит. Он же меня еще не отблагодарил за рождественский подарок, а это хороший повод.
Какие-то ублюдки изгадили Мацеку фургон – написали баллончиками на белой стене «Сдохни, грязный поляк». Слова черные, с подтеками, но уже высохли. Может, работа Кайла и его кодлы? На прошлой неделе кто-то таким же манером исписал матом всю автобусную остановку, а до этого – почту. Я знаю, Мацек не всем нравится. Из-за того, что поляк. Но требовать, чтобы он сдох, – это уж чересчур. А я вот что сделаю: предложу ему закрасить эту пакость. Хм, дверь заперта.
И тут до меня долетает какой-то звук, как будто там, внутри, кто-то есть и ему больно. Если Мацек дома, чего ж тогда дверь заперта? Очень странно.
– Мацек! Ты в порядке? Это я, Сэм.
Нет ответа. Я уже собираюсь выламывать дверь и спасать Мацека, как вдруг слышу: в фургоне засмеялась женщина. А за ней и Мацек.
– Все хорошо, Сэм! – кричит. – Потом приходи!
Вот тебе и порвал с миссис Маклеод.
– Чтоб ты сдох! – говорю я.
Но он не может меня услышать. И вообще, я это не всерьез. В том смысле, что Мацеку, конечно, тридцать семь и все такое, но он, по-моему, больше мальчишка, чем я. Не морочила бы она ему голову. Ох уж эти женщины.
Аня
Что я за женщина такая? Мне рожать через месяц, а я о ребенке и не думаю. Я смотрюсь в зеркало после душа, втираю крем в кожу живота. Надеюсь, он все-таки объявится, этот пресловутый материнский инстинкт. Умом я, конечно, понимаю, что ребенок уже реально существует, но в душе я этого не чувствую. Я всегда – всю свою жизнь – наблюдала за происходящим с приличного расстояния, а сейчас отодвинулась еще дальше.
Так опозорить профессию семейного консультанта! Завтра же подашь заявление об уходе, приказываю я себе. Облачаюсь в блузу для беременной с глубоким вырезом – собственное декольте по-прежнему вызывает у меня самые теплые чувства – и твержу: Мацека дома нет, он сейчас на работе, возится со своими пиццами. Но сажусь в машину и… проезжаю мимо его фургона. В голове – одна мысль, одно страстное желание, и поэтому я, неожиданно для самой себя, останавливаюсь и усаживаюсь на лавку перед фургоном.
Блузка по-новому обтягивает мою новую грудь. Откидываюсь назад, на мгновение прикрываю глаза, подставляя лицо немощным еще лучам весеннего солнца. Мне его так не хватает. С наслаждением ощущаю солнечную ласку и отпускаю мысли на все четыре стороны. Но это и не мысли даже. Шаги. Это он. Не открываю глаз. Все так просто, когда он здесь. Все прочее – ложь, все прочее – тяжкий труд.
– Ты скучаешь по Польше? – одеваясь, спрашиваю я Мацека чуть позже.
– Конечно. – Он не одевается, просто лежит. И пахнет от него… как от мужчины, который только что занимался сексом.
– А по тете? По кузенам и друзьям?
– Да, скучаю иногда. И по еде скучаю. И по трамваям, и по улицам, и по кабачкам.
Обидно. Я должна была бы заменить ему всех и все.
– По временам года скучаю еще.
– У нас же есть времена года, – сварливо возражаю я, натягивая джинсы. Эластичный верх обхватывает весь живот до самой груди. Ни дать ни взять – миссис Шалтай-Болтай.
– Ваши времена года нехорошие. Не такие, как в Польше.
– Да?
– И скучаю говорить на польском.
– Да?
– Иди сюда, Аня. Перестань быть грустной.
Мы постоянно твердим друг другу, какие мы оба необыкновенные любовники. Но, по правде говоря, любовники мы самые заурядные. Лаская друг друга, мы говорим: я тебя люблю.
На следующий день мы снова встречаемся.
– Мацек, мы должны это прекратить. И на этот раз – по-настоящему. Прекратить и распрощаться. – Здесь, в кафе «Теско», эти слова кажутся чересчур мелодраматичными. Нас окружает какофония людских голосов, шарканья ног, скрипа тележек с товарами.
– Аня, – он тянется к моим рукам под столом, – я хочу, чтобы у тебя всегда было счастье. Счастье! – Мацек произносит «счастье» как два отдельных слова, и каждое до краев наполнено нежностью.
– К следующему месяцу уже ребенок родится, Мацек.
– Это я знаю, – говорит он со своей умной, печальной улыбкой. – Это такая вещь, какую не скроешь.
– Я не понимаю, как во всем этом найдется место и для ребенка. Нет для него места.
– Есть место! И смотри: он, а может быть, она уже его занимает.
Ребенок все это время пляшет как заводной.
– Это совсем другое, Мацек, и ты это прекрасно знаешь. Совсем другое!
– Хорошо, – говорит он, склонив голову набок. Его шляпа лежит на столе между нами. Мне вспоминается первая наша встреча здесь. Вон за тем столиком. – Мы можем прекратиться. Опять.
– Так будет лучше, Мацек. Ты привыкнешь и успокоишься. Да?
Он со вздохом пожимает плечами. Безо всякой жалости к самому себе. У Мацека почти женские черты лица, настолько, насколько мужское лицо может походить на женское, оставаясь при этом мужественным. Так хочется погладить его по щекам, по лбу, откинуть назад волосы, пощекотать языком ухо.
– Нет, я не спокойный. Думаешь, я спокойный, если снова не вижу тебя?
– Но что же нам делать, Мацек?
– Уезжать. Тебе и мне.
– И куда же?
– Куда угодно. В Польшу.
– А ребенок?
– Я уже люблю его. А потом мы заведем еще.
Я невольно улыбаюсь.
– Еще двадцать пять ребенков! – Он тоже улыбается.
Руки Мацека нашли под столом мои руки. Они наполняют меня теплом. Наши руки, горячие и влажные, угнездились под моим животом, который покоится у меня на коленях. Чувствую, как заливаюсь краской – в людном месте держаться за руки с мужчиной, не с мужем! Все-таки не такая уж я храбрая женщина. Я – очень толстая и очень влюбленная женщина.
– И что же мы станем делать в Польше, Мацек? Я ведь даже не говорю по-польски.
Он пожимает плечами.
– Что мы будем делать?
– Что и везде. Будем жить, – говорит он.
Что с нами станется? Не представляю.
Какое странное чувство – неизвестность. Однажды, давным-давно, возвращаясь откуда-то домой, я села не на тот поезд. Платформа правильная, но ошиблась временем. И поняла это на первой же остановке, которая оказалась совсем не той, что я ждала. Я не знала, куда идет поезд. В вагоне я была одна, спросить не у кого, а остановить поезд я не могла. Ситуация вышла из-под контроля, и это было даже весело.
Но конечно, позже, у себя дома, в ванне, я понимаю: все это вздор. Выбор всегда есть. У всех. Чувство истинного освобождения от ответственности – преходяще. Когда явился кондуктор и спросил у меня билет, я просто-напросто сказала ему, что ошиблась поездом, а он объяснил, что делать. И я благополучно добралась домой.
Что не зависит от нашего выбора
1. Природные катастрофы, погода, землетрясения.
2. Рукотворные катастрофы, войны, автомобильные аварии.
3. Возможность иногда заблудиться, сесть не на тот поезд.
4. Действия других людей – вора, благотворителя.
5. Семья. Мы не выбираем родителей, братьев/ сестер, детей. Они такие, какие есть.
6. Тот, в кого влюбляемся.
7. Незапланированная беременность.
8. Болезни. Рак не ждет, чтобы его позвали. Инсульт – тоже.
9. Выигрыш в лотерее. Не часто, во всяком случае.
Что зависит от нашего выбора
1. Какую одежду носить.
2. Что есть и что пить.
3. Где жить и как жить. Неряшливо или аккуратно.
4. Употреблять ли алкоголь, наркотики.
5. Как вести себя с людьми. С людьми, которых любишь, и с людьми, которых не любишь.
6. Как реагировать на неподвластные вам испытания. Вроде пожаров и влюбленности.
7. Какие имена давать своим детям.
Да, вам не по силам выбрать само испытание, но как на него реагировать – это вы выбрать можете.
Роза
Я выбираю для Сэма пасхальное яйцо с Бартом Симпсоном. А так как это распродажа «два по цене одного», беру еще одно, для Альпина, хотя кто его знает, любит он шоколад или нет. Кладу в свою корзинку камамбер, овсяные лепешки, красное вино, пармскую ветчину и французский багет. Как я, бывало, завидовала женщинам с таким набором в корзинках.
Чувствую ли я, что до сих пор замужем за Гарри? Да, чувствую. Такова, видать, моя доля – сделаться одной из тех бедолаг, что не способны раз и навсегда порвать с отцами своих детей. Ага, вот и он, собственной персоной, в очереди стоит. Мужчина, возле которого я просыпалась каждое утро (как правило – с глубоким равнодушием) и которого продолжаю считать своей собственностью. Даром что у меня есть мой счастливый Альпин, а у Гарри – его грудастая Рыжуха. Даром что я его терпеть не могу. Не по моей части составлять всякие перечни, но возьмись я за это дело, уверена: перечень того, что меня бесит в Гарри, был бы такой длины – конца не увидать. Лентяй, эгоист, воображала, недоумок, подлая душонка. Эгоист – это я уже сказала?
– Здравствуй, – церемонно произносит Гарри.
– Здравствуй, – так же холодно отвечаю я. – Как дела?
– Нормально, а у тебя?
– Хорошо. – И добавляю: – Погода отличная. Прямо весна. – Мне вдруг ужасно хочется, чтобы он по мне скучал. Черт! Если б не та грудастая девка…
– Точно. Но говорят, снег еще будет.
– Да, я тоже слышала. Как там Сэм, в порядке?
– Само собой.
– Я волнуюсь.
– Не стоит.
И мы расходимся: я отправляюсь в свой чистенький коттедж к Альпину, а Гарри – в наш старый загаженный дом на Камден-стрит. В точности как две собаки из книжки Ф.Д. Истмана, которую Сэм обожал в детстве, – «Беги, пес, беги!». Собака-девочка там все пристает к псу-мальчику, нравится ли ему ее новая шляпка, а тот все твердит: нет, да нет. А потом они машут друг другу лапами и катят на своих великах в разные стороны. Ублюдок!
Но подъезжаю к своему белому коттеджу с нарциссами под окном – и душу отпускает. Может, теплый ветерок тому виной, а может, выстиранная одежда Альпина, что полощется на веревке во дворе. Он приготовил потрясающую лазанью. Я не стала говорить, что у нас в школе означает «день лазаньи». Вечер удивительно светлый, после ужина мы идем прогуляться – вдоль реки, через старый мост и вверх по течению. Хочется глянуть на колокольчики, о которых в Эвантоне все только и говорят, если они, конечно, распустились. Да вот же они! Нет, невозможно описать их, не впадая в пошлость. Иногда я жалею, что я не писатель. Тогда я смогла бы рассказать о засыпанных колокольчиками лесах и не выглядела бы при этом полной дурой.
По дороге домой Альпин вдруг говорит:
– Сара звонила.
Ничто, вот ровным счетом ничто этого не предвещало, даже лазанья. Шагаю как ни в чем не бывало.
– Да? Что сказала?
– Хочет, чтобы я вернулся домой.
– Простила тебя? – Я отпускаю его руку и чуть отстраняюсь.
– Ей нужно, чтобы я вернулся.
– Ну а ты что?
Хотя ответ мне известен. Сейчас я точно знаю, что толкает людей на самоубийство. И на убийство.
Дома Альпин разжигает камин. Я говорю – не возись, мол, ни к чему, а он все равно разжигает. И откупоривает бутылку дорогого портвейна. Я к таким напиткам совершенно равнодушна, однако пью. Альпин неплохой мужик. Но любить его опасно. Теперь я это понимаю.
– Не сердись, Роза.
– Я и не собираюсь, – сердито отзываюсь я. – Когда едешь?
– Скоро.
– Может, завтра утром?
– Неплохая мысль. Отвезешь меня на станцию?
– Нет.
– Я так и думал. Прости. Дурацкая идея.
Немного погодя я, изрядно пьяная, забираюсь в постель, к нему под бок, – во-первых, другого спального места у нас нет, а во-вторых, несмотря ни на что, я еще надеюсь. «Что у нас имеется? – думаю я. – Имеется Роза, пятидесяти лет, довольно толстая, видавшая виды, несколько обрюзгшая. Что же она делает? Забирается в пьяном виде в постель к любовнику, который ее отверг. На спор – она еще сама на него полезет. Ненавижу!»
– Роза, дорогая, зачем? Не надо.
– А я хочу.
– Я тебя недостоин.
– Что верно, то верно.
– Черт. Я самый везучий человек на свете!
– Как это тебе удается оставаться чертовски счастливым при любых обстоятельствах?
– Сам не знаю. Низкий уровень IQ?
И тут – потому что я больше никогда его не увижу, потому что пьяна, потому что мне это действительно важно – я спрашиваю:
– Что мне теперь делать?
Ненавижу себя лютой ненавистью, потому что в голосе предательски звенят слезы, черт бы их подрал!
– Роза!
Он притягивает меня к себе, кладет ладони на мою голову, которая оказалась на его сказочно великолепной груди, гладит. И не представляет, как это на меня действует. Теперь слезы льются в три ручья.
– Роза, милая. Все будет хорошо. Будешь делать то же, что всегда.
– Это что?
– Будешь жить, как жила раньше… – Он словно рассказывает сказку. – Будешь расчесывать волосы, нарядно одеваться. Ходить на работу, с друзьями встречаться. Гулять, читать книги. В кино будешь ходить и в пивные, а летом, быть может, поедешь на Майорку. Будешь пить дорогое вино и радоваться, что нет с тобой рядом этого вечно счастливого парня.
Утром он встает, а я остаюсь в постели. Он приносит мне чаю, а я к нему не притрагиваюсь. И наблюдаю, как он собирается. Много времени на это не уходит. Сумка с вещами у него совсем маленькая. Как будто он и не намеревался задерживаться надолго.
– Прости, Роза. Честное слово, я не хотел причинить тебе боль.
– Ну да.
На прощанье он норовит поцеловать меня в губы, но я увертываюсь, и поцелуй приходится в щеку. Тогда он вздыхает, будто это я бросила его:
– Постарайся не держать на меня зла.
– Постарайся не быть такой задницей, – огрызаюсь я.
Мацек
Я все время стараюсь согреться. У меня дома, в фургоне, до сих пор холодно, хотя уже больше не зима. И все время пахнет газом. Иду к мистеру Маккензи и снова говорю ему.
– Закрути баллон потуже. Понятно? Большой оранжевый баллон около фургона. Крышку крепко завинти. – Он говорит очень громко, как будто я глухой, и еще руками показывает. Вот так. И смотрит сердито, как будто он делал какое-то очень важное дело, а я ему мешаю.
– Да, – говорю я. – Спасибо.
Сейчас я не знаю, скучаю я по Ане или не скучаю. Это правда. Я приехал в Шотландию, чтобы перестать быть грустным. Но это как жирное пятно, которое стараешься замазать. Бесполезно. Всякий раз пятно возвращается. Моя тоска – это жирное пятно. А я сам – кусочек пепперони.
Прихожу на работу, а Сэм сейчас же говорит:
– Черт побери, Мацек, ты бледный как смерть! Что стряслось?
Я смеюсь. Сэм, он такой.
– Ничего, – лгу я. – Ничего не стряслось.
– Ну да, как же. В чем дело, старина? Скажи.
Наша пиццерия еще закрыта. Мы режем лук, перец. Трем сыр.
– Ничего, Сэм, правда. Я устал.
– Ты из-за нее? Она опять тебя бросила? Вот стерва.
– Мы оба знаем, Аня и я, это невозможно.
– Ежу понятно. Какого черта она вообще полезла к тебе в постель. Жадная корова.
– Не надо так про Аню, Сэм. Это моя идея, не Ани идея. С самого началу.
– Все равно. Зуб даю, у нее видок не такой затраханный, как у тебя.
– Надеюсь, нет. Я не хочу, чтобы она была затраханной.
– Разве что тобой, верно?
– Сэм! Ты прекратишься или нет?
– А ты прекрати нюни распускать. Ну, не выгорело. Подумаешь! Это ж всего-навсего баба. Плюнь. Перевари.
– Да. Пожалуйста, я бы хотел, чтобы это было легко переварить, как ты говоришь. Но ты мне расскажи про твою подружку. Как она поживает? Уже влюбилась в тебя?
– Ага! По уши влюбилась. Держи карман шире.
– Ох, Сэм. Что случилось с этой польской девочкой? Такая вроде хорошая.
– Не-а. Просто нормальная. Да мне по барабану. Ну ее к чертям собачьим.
Немного погодя, когда я делаю большую пиццу с пепперони для полицейской женщины, Сэм вдруг говорит:
– Мацек! Я понял! Тебе надо домой.
– Но лавка закрывается только в девять.
– В Польшу, дурачина! Ты не обижайся, но житье у тебя здесь паскудное. На фиг тебе сдалась эта Шотландия?
Я вспоминаю Марью. И тетку Агату. Потом вспоминаю маленький зеленый зал в моем любимом кафе, столики, покрытые скатертями, и ясно, как этот кусок пепперони, вижу за одним столиком себя – как я сижу и пью водку с вишнями.
Сэм
Где Мацек? У нас в школе была такая драчка! Ему будет интересно. Куда он подевался? Я должен ему все рассказать.
На перемене все просто слонялись по двору, а Эван Мунро из Страта возьми да и вызови на драку Кайла, который, по большому счету, порядочная скотина, вроде моего Джейка, если так подумать. К этому давно шло. Кайл с первого класса Эвану проходу не давал – обзывал педиком, мразью и все такое. А я как раз навострил лыжи на Главную улицу, чего-нибудь пожрать, и вдруг слышу:
– Дерутся! Кайл и Эван Мунро из Страта!
Вот бедолага – никогда его не зовут просто Эван, или даже Эван Мунро, такая у него прорва тезок.
Я, конечно, сразу туда. Как все. У Эвана за спиной – его кореша. Все, само собой, из Страта. А за Кайлом – только Ли и Малколм.
Сейчас будет жарко.
Эван отдает куртку приятелю. Кайл стаскивает свитер. Я снимаю свой свитер, и все остальные тоже. Ну, думаем, настоящая схватка! Раньше-то в Дингуолле такого не бывало, но чем черт не шутит. Секунд тридцать Эван и Кайл обзывают друг друга гомиками и паскудами. Потом шипят:
– Мать твою!..
– Твою мать!
И началось. Кулаками, дураки, размахивают, толку чуть, крови и того меньше. Кайл вдруг как даст Эвану в нос, тот брык с катушек и скорчился на траве. Кайл озверел совсем, давай месить его ногами, Эван только пах прикрывает да матерится. Тут дружки Эвана принялись оттаскивать от него Кайла, тогда и Ли с Малколмом вроде очухались.
На все про все секунд сорок ушло, не больше. И тут подваливает наш физкультурник, мистер Тейлор, такой весь из себя невозмутимый, и заявляет:
– Довольно, мальчики.
Ему даже не пришлось руки из карманов вынимать.
Кайл и Эван расцепляются и встают.
– Не я первый начал, – бурчит Эван.
– И не я, – сопит Кайл.
Дурдом. Ей-богу.
Где же Мацек?
Может, послушался моего совета и умотал в свою Польшу? Дурдом!
Аня