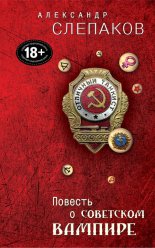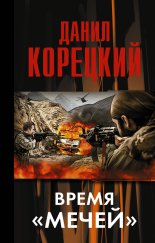Левый автобус и другие веселые рассказы Гончарова Марианна

Перед глазами плыл обманный желтый туман. В зеркале отразилась угрюмая отекшая физиономия с недельной щетиной. Ноги шли куда хотели. Правая тянула обратно на диван, левая – на кухню. Память медленно возвращалась.
Значит, так. Тогда была пятница. К нему домой пришел кум. Со своим кумом. Принесли. Культурно. Тост сказали. Ну, давай, мол, Ленчик… Пошло хорошо, но мало. Кум сгонял. Принес. Тост. Ну, мол… Мало…
Короче. Сейчас надо выяснить, какой сегодня день. И хорошо бы число. И месяц… И год…
Ленчик вяло подвалил к входной двери. На улице стояла жара. Собачья будка во дворе была пуста. Цепь валялась на земле.
Так. Со временем года ясно. Не зима. И где-то приблизительно… после Пасхи. Точно после Пасхи! Потому что если пили с кумом, то, значит, не пост. Потому что кум, если пост, ни-ни… Интеллигентный он человек. Завклубом. «Гамлета» ставит.
Откуда-то были слышны выстрелы и крики. О! Охотничий сезон открылся. Значит, точно после Пасхи. Скоро снег.
Неверные ноги Ленчика договорились, объединились и понесли в центр, к магазину. Ну, во-первых, там жена, завмаг. Мария. Мария? Не… Лена… А во-вторых, ну это… туман же… И вообще, в себя вернуться. Биографию вспомнить свою… А то одни обрывки: жена, черт, зовут-то ее как… И сын в армии. И еще номер телефона в голове застрял. А! О! О!!! Сельсовет! Во память! Понял?! Понял?! Ничем не вышибешь!
Ленчик взбодрился и пошагал в центр.
В селе было подозрительно тихо. Ленчик вышел из-за угла и обомлел. В глазах потемнело. Аккурат у старой чайной на блестящем новеньком мотоцикле восседал огромный… фашист. В эсэсовской черной шинели и каске. Оккупант жрал яблоко. А в коляске… А в коляске мотоцикла сидела его, Ленчикова, овчарка Найда! Почуяв хозяина, Найда зашлась в радостном лае. Фашист настороженно закрутил башкой по сторонам. Ленчик прытко заскочил за угол и замер, но собака не унималась.
– Вот же сволочь немецкая! – шептал Ленчик, удирая от страшного видения. – «Возьме-ем щеночка», – вспомнил он жену… Марию… или как там ее… Взяли на свою голову! Продаст сейчас!
Ленчик лозами добежал до сельсовета. Над старым, еще довоенным зданием на легком ветру полоскался красный флаг с черной свастикой.
– Е-о-о… – простонал Ленчик, от ужаса забыв весь свой словарный матерный запас.
Картина была страшная. Рядом с сельсоветом в толпе пленных, окруженной немецкими солдатами, стояла его жена… Ма… Ма… Марусечка… Не… Ну, короче, взяли ее немцы, жену его! И магазин, стало быть, закрыт…
– Е-о-о-о… – затосковал Ленчик.
В его памяти опять всплыл сельсоветовский номер телефона. Огородами он промчался обратно домой, где на столе стоял выделенный его жене как завмагу аппарат, и дрожащим пальцем с третьего раза набрал номер председателя сельсовета. Ему ответил знакомый голос:
– Слушаю!
– Это… Это… с-с-с-сельсовет? – захлебываясь, шепотом спросил Ленчик, прикрывая рукой трубку и озираясь.
– Да, – недоуменно подтвердил голос.
– А это кто? П-п-председатель?
– Председатель, – уже раздраженно ответила трубка.
– Наш… председатель? Или чей?! – со слезой в голосе тоненько провыл Ленчик.
– Прекратите хулиганить! – рявкнула трубка.
– Это… Это я… Ленчик… Тьфу! Сторож я… У нас в селе… – Голос Ленчика окреп. – У нас же… У нас – немцы!!! – выпалил он разом.
– А-а… Это ты, Мурашко?! – грозно спросила трубка.
– Я, – на всякий случай кротко согласился Ленчик, хотя не был уверен, что носит именно эту фамилию.
– И что, Мурашко, – ехидно поинтересовалась трубка, – ты давно пьешь?
– Я-а? Да я… Никогда… Я… – залопотал Ленчик.
– Хорошо, что жена твоя, Раиса Петровна, сообразительная, ключ от сельсовета нашла, нам принесла. У нас же тут кино снимают! Кино! Про войну! Понял? Подпольщик. Так что, Мурашко, приходи завтра, поговорим, как ты сельсовет без охраны оставил.
С тех пор Ленчик нельзя сказать что ни-ни… Но уж когда выпивает, перед тем как «взять», достает бумажку и записывает: «Сейчас – осень. Я – Мурашко. Жена – Раиса. Гитлер капут!»
Схватка
Зюня Горецкий был хитер. Но Зюнин тесть Серапион был в тысячу раз хитрее. Даже еще больше. Он был хитрый, как инквизитор. Зюня тут недавно читал в журнале, как инквизиторы людям не в глаза смотрели, а наоборот – в переносицу! Ты-то думаешь, он такой искренний, душевный, тебе в зеркало души. Ан нет! Вот так и Зюнин тесть Серапион. Усталым голоском – уезжаю, говорит. В кои веки путевку горящую в Ялту предложили.
– А машина, Серапион?! Я ж ее сам чиню. И красил недавно. А? Машину-то оставь мне, – просит Зюня. – Машина же нужна. Нюсю, жену, на дачу возить и вообще. Да мало ли… Когда машина есть.
А Серапион промеж Зюниных глаз уставился и отвечает уклончиво:
– Я ее в гараж поставил, чтоб не заржавела. А ключи я тебе, Зюня, отдам. Когда уезжать буду. А сейчас полежу. Что-то полежать мне охота.
Полежал. А ночью и удрал! Проснулся Зюня – и нет моей кисочки. Ни вещичек его, ни записочки. А тем более ключей от гаража и автомобиля. Весь дом перерыли – нету. Хорошо, Нюся Зюнина знала, в каком санатории Серапион отдыхать будет. От ратных дел. Дали телеграмму. Срочную. «Где ключи, Серапион?» А тот, ну подлец! Обратно им телеграмму, что такой гражданин Серапион Михайлович Марусик тут совсем и не проживает вовсе. Нет, ну видели?! Дурочку включил Серапион. Он не проживает, голландец летучий!
Милиционер у Зюни был знакомый. Говорит, а мы его по своим каналам. Зюня по спецканалу: батя, ключи где? А то совсем уже! Тут Серапион и объявился. Пришло от него: мол, не скажу, машина моя. А то хуже будет! Не дам, и все!
Ах ты происк жадный! Но Зюня же тоже хитрый. Спокойно идет на телеграф и дает еще одну телеграмму: «Батя, в Черновцах ливни. Твою машину залило. Чтоб знал!»
Вот тут запаниковал Серапион. Но не до конца. Дает еще одну телеграмму: «Вызывайте Прозапаса. Пусть подтвердит, что залило».
Прозапас – Серапионов друг. Троллейбусный контролер. И не пьет! Правильно Серапион все рассчитал. Но то место в жизни еще есть всегда. Зюня ночью стал ведра с водой таскать и поливать Серапионов гараж со всех сторон. Даже на крышу залез и оттуда лил для убедительности.
Наутро пришел Прозапас. И что занятно, совсем не удивился, что годовой уровень осадков выпал за одну ночь на отдельно взятый гараж. Ну и правильно! Его послали проверить гараж Серапиона? Так он и проверил. Подтвердил. А на другие гаражи он и не смотрел. Был потрясен разрушениями, нанесенными стихией. А уж соседи жалели! Так жалели! Зюня еле дождался, чтоб все удивляться перестали и ушли. Тогда он мигом на телеграф – и молнию: «Прозапас подтверждает. Соседи тоже. Особенно баба Тося Перемыкайлиха».
Сдался Серапион. Знал, что перехитрил его Зюня. Доказать не мог. Ладно, написал, иди к Кравцам, скажи: «Серапион сказал, вы знаете, что делать».
Зюня поехал. Далеко, по жаре, на Клокучку. Там собаки его чуть не съели. Пришел к Кравцам, сказал пароль. Кравчиха сняла с гвоздика ключи и отдала. Так просто. После всего. Сняла с гвоздика и отдала. Еще и зевнула. На погоду, наверное.
Ехал Зюня назад и думал: где ж ты, моя жизнь молодая спортивная? И еще думал. Что пора свою машину покупать. Красную. И чтоб тестю не давать. И так ему эта мысль понравилась, что двухчасовая дорога домой короткой показалась. Шел он к гаражу. И не спешил. А куда спешить? Машина-то вот она, под руками. Еще с соседями поговорил. А потом так, вроде нехотя, гараж открыл. А там… Ах ты!!! А вот тебе, Зюня, компот с помидорами, два мешка. Привет от Серапиона! Гараж – пустой!!! А на стене мелом: «Ну, я поехал! А тебе, Зюнька, машину не дам! Понял? Так что давай! Ехай автобусом!»
Мужские слезы
Если не торопиться и все сначала, то позвоните в приемную дирекции Черновицкой макаронной фабрики. И ответит вам голос нежный, вкрадчивый, обволакивающий, сладкий. Секс-по-телефону рядом не лежал, не валялся. «Ал-л-ле-у… Черновицкое-акционерное-предприятие-по-производству-макаронных-изделий-слу-у-у-ша-ет!» И все сразу бегут туда. Посмотреть – кто! Кто она, гейша, гетера с голосом многообещающим? Кто?!
А там Гутта Сергеевна… Такая женщина… Красавица, конечно… Но… Статую Свободы видели когда-нибудь? По телевизору? Забудьте. А бокс? Нет, не женский. Смотрите? Вот! Она как Кличко! Причем оба. Вот такая. Но сентиментальна. Как крокодил. Чуть что, глаза ее огромные голубые слезами наполняются. Особенно когда музыку «Эммануэль» слушает. Или песню Иглесиаса: мол, я тебе просто звоню, чтоб сказать: «Ай лав ю». Гутта подпевает и ревмя ревет. Но при этом Гутта из породы женщин бойцовых. Две в одной.
Бывают же дамы… Подарки судьбы. Но кто вам сказал, что Гутта – подарок? Нет. Потому что счастливой быть не умеет. Совсем. Спрашивается, разве может Гутта быть счастливой, если муж ее вместо обещанной шубы покупает кузов для автомобиля!
А и действительно, к чему Гутте шуба? Ну да, обещал. Ну да, примеряла. И что? Она же в этой шубе как йети, снежный человек. А кузов… это же кузов!
А Гутта, хотя на работе и сладкоголоса, дома может вопить, как буревестник. Черной молнии подобный.
– Куда? На что я надену этот твой кузов?! – верещит Гутта.
Тут она права. На что бы ни надела она этот кузов, везде он будет мал. Тесен в груди, плечах, бедрах, коленях.
Ну что, поняли, отчего слезы? Правильно. Подозрительность.
Все, оказывается, очень просто и понятно. Муж Миша к Гутте интерес потерял. Мрачен, угрюм стал… В молодости он Гутту, хоть и как два Кличко, на руках носил. И щедр был, как султан. Подарки дарил. Проигрыватель «Рига», вазу напольную керамическую, портрет Есенина… И такой однажды момент был… Такой романтичный… Гутта, когда рассказывает подругам, всегда плачет от избытка чувств. Как-то пришла Гутта к Мише, на улицу Стасенко, 38, где он с мамой жил. А мама уехала в санаторий. А Миша подхватил ее, Гутту, на руки – и понес! Нес, нес… Сквозь одну дверь пронес. Сквозь другую… Стремительно так… И все под музыку. «Реквием» Моцарта. Мишка же музыку очень любит. И вот уж спальня… Последние двери. И не рассчитал Миша от счастья или еще из-за чего-то там – и бахнул он Гутту головой об косяк. Вот. Как романтично!
А сейчас что? По вечерам задерживаться стал, хитрит… Но Гутта тоже… Чего сидеть просто так, огорчаться. Решила поймать с поличным. Пару раз облавы делала. Как полагается. Со свидетелями… С понятыми… Не поймала. Но все равно надежды не потеряла. Стала по ночам бодрствовать. К Мишиному шепоту во сне прислушиваться, в карманах его записки с номерами телефонов искать. Улик не было. Но покоя тоже.
И тут подруга рассказала. Мол, приехала в город целительница одна. Из-под Фастова. И так она неподдельно мудра, что вчера взяла и учение написала. Даже два. О духовном росте женщины с избыточным весом. Ну чтоб страсть мужу вернуть. Все прямо про тебя с Мишей. Так вот, есть, Гутта, в горах Карпатских водопад, маленький, неприметный. «Чоловічі сльози» называется. Вот туда тебе надо трижды мужа своего окунуть с головой. Трижды. И он очистится. И увидит тебя, Гутта, как заново. Но хватает этого окунания, Гутта, всего на год. И через год его снова надо туда волочь и окунать. И стоит это озарение целительницы из-под Фастова, Гутта, сорок два доллара. Лично ей. А если не заплатишь, то не подействует…
Уговорить мужа оказалось очень легко. Отдохнуть в горах – что может быть лучше для рыболова Миши. Тем более на машине с новым кузовом.
Остановились они на ночь, где целительница велела. Гутта вечером пошепталась с хозяйкой. Та отнеслась с пониманием, поскольку в ее хате мужчины вообще не держались, и провела утром Гутту и Мишу к водопаду, щебеча: «Форель, форель…» Конечно, хоть и страшно было Гутте, но мужественно следовала она сценарию, целительницей разработанному. И ухнула она с берега прямо в водопад, крича: «Миша! Миша!» Ну и он за ней, спасать.
Риск, понятно, был страшный. Для кого? Для Миши, конечно. Гутта в том водопаде, как кит на мелководье. Которого Гринпис спасал. А Мише тяжко. Потому как количества вытесненной телом Гутты воды как раз хватило бы, чтобы Мишку утопить. Три раза он выныривал из потока, но до Гутты так и не доплыл. Чуть не погиб, болезный. Но Гутта, мужественная, сильная, большая и красивая Гутта, рассекая коленями течение коварной горной реки, добралась до него, нащупала ногою и выволокла сомлевшего на берег. Вот так.
А на следующий год не поехала Гутта с мужем в Карпаты. А зачем? Мишка теперь ей по гроб жизни обязан – Гутта его из водопада вытащила. Хоть и не Ниагара, но много мужиков, говорят, в том водопаде утопло. Потому и называется он в народе «Чоловічі (то есть в переводе с украинского – мужские) сльози».
Алмаз души моей
Своей любимой племяннице Уле я честно пообещала, что имена участников этой истории будут изменены, а сами события беззастенчиво перевраны и перенесены в другой город, в другую страну, в другое время года и…
А вообще… Все нижеследующее, чтоб вы знали, чистейшая правда. (Хоть и вымысел.)
Все, туману напустила. Можно начинать.
Племянница Уля потребовала: срочно приезжай, буду суженого показывать, он через неделю прилетает, поможешь подготовиться. И маму, то есть мою сестру Лину, возьмешь на себя. Проведешь среди нее работу, что все люди братья, а цвет кожи и национальность не причина, чтоб не выходить замуж.
Это заявление меня несколько насторожило, но я племяннице Уле не могу отказать, я люблю ее просто слепо и безотчетно, потакаю ей и балую. Она в моей сознательной жизни – первый родной младенец, душистый, тепленький, ненаглядный, толстый и желанный. И только через год после ее рождения у меня самой уже родился сын. Но я уже была готова ко всяким неожиданностям и все умела, потому что меня научила Уля.
И как ей после этого отказать? И я поехала к сестре.
Интересный малайский язык, оказывается! Очень звучный и какой-то характерный. Например, знаете, как будет мужчина по-малайски? Ой, красиво! Лаки-лаки. Очень. А женщина? Да-да… Пы-рын-пу-а. Слышали? А множественное число у них, у малайцев, образуется с помощью удвоения основы. Значит, мужчины – лаки-лаки, лаки-лаки. Еще красивее, правда? А женщины? Н-да… Пырынпуа-пырынпуа… Женщина – она и в Куала-Лумпуре женщина, то есть пырынпуа…
Вот-вот, к этому я и клоню. К нам домой просить Улькиной руки и сердца должен был прилететь дипломат лаки-лаки из Куала-Лумпура, государство Малайзия. Словом, как Лина недовольно выразилась, басурман. И встречать этого лаки-лаки должны были мы, три несколько растерянные пырынпуа-пырынпуа…
Но, во-первых, я вам тут уже рассказывала, что когда Улька просит – я хоть звезду с неба! А во-вторых – мы ж патриоты. Мы же гостей встречать умеем.
Пишем ему ответ достойный: добро пожаловать, господин Интан, дорогой, будем рады тебя у нас видеть, какие будут пожелания, что кушать любишь и чем? Может, серебром на серебре захочет, волновались мы.
Звонит нам по телефону неожиданно. Мир вашему дому! Это Интан. И чешет по-русски, молодец такой, хоть и басурман. Пожелания будут такие: компас. И все? И все. А еще семнадцать матрошьки, три самоварки и два балабайки в подарок для всей родни. (Мамочки, сколько у него родни-то, Улька!!!) Что люблю кушать? Рис люблю кушать, овощи, баранина кушать. Все люблю кушать. Чем? Рукой. Правой. Чуть-чуть буду кушать. Но много. Потом вслед записку по электронке посылает: да, чтоб не забыть, приеду с домашним любимцем. Бунга называется. Оставить некому.
Нет, ну видели? Матрошьки для родни давай покупай, а свою или своего этого Бунгу с собой тянет. Хорошо еще, если кот или мышь, а вдруг хамелеон, или удав, или игуана? Да нам вообще-то все равно: у нас такой дома зверь живет, который сжирает, сжевывает и надкусывает все живое и неживое ниже табуретки, так что не завидую я этому Бунге, кем бы он ни был. У моей племянницы Ульки – кот, наш общий любимчик и баловень: гремучая помесь. Тигра с тигром. Слышали такое? Его нашей Ульке на какой-то выставке подарили. И он Ульку безумно полюбил. И когда она приходит домой, он несется со всех лап и вопит: «Уллла! Уллла!» А мяукать не умеет совсем. Он весь в рыжих и черных полосках и хоть и маленький еще – семь месяцев, – но такой длинный, что достает усами все, что на столе лежит, без всяких усилий. А когда утром завтракать выходит из-за угла, то его задние лапы и хвост как раз к обеду и доходят до миски. Его Мироном зовут, нашего кота. Он ничего не боится, разве только высоты. И никого, кроме своей хозяйки Ульки, не признает. Улька – его все. А Мирон – Улькино все. Не считая Интана, конечно. Интан, как говорит Улька, закатывая свои серые лучистые глаза, прижимая руки к груди, Интан – ее душа, ее сердце, ее жизнь. Понятно вам? Н-да…
В назначенный день поехали мы в аэропорт. Вышел он – круглолицый, симпатичный, улыбчивый, черноволосый, ладный, в обнимку с большим горшком. В горшке – цветок-красавец. «Это я, Интан! А это Бунга», – представил Интан свой горшок с фикусом экзотическим. Мы облегченно заулыбались, расслабились. Ну вот как хорошо: и не хамелеон, и не варан, и не игуана… Всего лишь фикус…
Хотя, забегая вперед, скажу: фикус этот фиолетовый оказался не таким безобидным и тихим, как ожидалось. И, поселившись в нашем веселом теплом доме, он повел себя напористо и не очень деликатно. По ночам шуршал листьями, пищал всем микроскопическим, что его населяло, а потом стал нахально разрастаться во все стороны и пустил корни в подоконник. Так бедолаге у нас понравилось, что он не хотел покидать наш гостеприимный дом и намеревался остаться на ПМЖ.
Ну вот, Интан вышел к нам, легко и радостно ступая, милый, простой и элегантный лаки-лаки, в своей заокеанской курточке, с ослепительной улыбкой. И взгляд его теплел и влажнел, когда он на нашу Ульку смотрел. Нам он очень понравился, и мы совсем растаяли. Три дурочки. Пырынпуа-пырынпуа! И совсем забыли о бдительности. И пока мы знакомились с Интаном и его горшком с Бунгой, дорогой кофр, только снятый с багажной ленты и беспечно оставленный в сторонке без присмотра, тихо и беспардонно увели. Увели вместе со всеми причиндалами: полудюжиной рубашек и носовых платков, пижамами, костюмами для прогулок и токсидо. Вот этот вот токсидо, который наш Интан описывал в милиции, называя головокружительные бренды и цены, нас просто в тупик поставил. Нет, ну зачем ему у нас дома вечерний костюм – токсидо?!
Приехали мы домой несколько обескураженные. Переодели бедного Интанчика нашего во что попало, но фантазийно: в джинсовый безразмерный комбинезон и майку с надписью «А вы здесь все молодцы!». Интан колебался, переодеваясь, и спрашивал, кто такие молодцы и не противоречит ли эта сентенция его культуре, его национальной гордости, его сексуальной ориентации и его религии. Он совсем успокоился, когда я ему ответила, что «А вы все здесь молодцы» означает почти то же самое, что и «Слава великому советскому народу!». Только в новой, более современной интерпретации. Интан успокоился сразу, потому что частенько слышал этот удалой лозунг, стоя на гостевой трибуне на Красной площади рядом со своим папой-дипломатом, – так он нам объяснил за завтраком. И тут уже я приступила к тому, зачем приехала: стала беззастенчиво выяснять, из какой семьи наш Интан.
Оказалось, что мама Интана нигде никогда не работала. И училась только для того, чтобы вставать на рассвете с радостной улыбкой, наряжаться в малайские одежды с золотой тесьмой, отдавать распоряжения прислуге и воспитателям своих детей и прогуливаться по саду, любуясь цветами и слушая певчих птиц. «Ну ничего себе! – переглянулись мы. – А папа, Интан? Чем папа занимается?» – «А папа, – рассказывал Интан, – а папа Мустафа после выхода на пенсию с дипломатической работы вернулся в старинный семейный бизнес – дрессировку обезьян для сбора кокосовых орехов». Отлавливал он их каким-то дедовским испытанным способом: играл на жадности обезьян, когда они в узкую щель просовывали руку, набирали полную горсть зерна и не хотели разжать кулачок, чтобы вынуть руку обратно. Так и сидели, бедняги, с рукой в привязанной тыкве, ожидая своей участи. Но в воспитании обезьян бывший дипломат использовал высокие малайские технологии: он шлепал их по попе и сажал, крепко привязывая, в угол.
Эта история нас несколько смутила, потому что в данном конкретном случае мы были на стороне свободного обезьяньего племени, а папаша Мустафа все же выступал как эксплуататор и тиран. Хоть и бывший дипломат.
А в остальном все оказалось просто замечательно. Интан с огромным энтузиазмом постепенно вливался в нашу семью: мыл посуду, бегал в соседний магазин за «минералькой», а вечером готовил настоящий малайский плов и заваривал зеленый малайский чай по особому рецепту. Колдуя над плитой, он упоенно напевал, мастерски подбирая и рифмуя строчки из разных песен:
- Мине кажется порою…
- Что вы больны не миною…
Он с удовольствием смотрел по телевизору старые комедии и восторженно хохотал, охотно вступал с нами в беседы, ласково поглаживая нашего Мирончика, который немедленно проникся к Интану доверием и целыми днями ошивался у его ног, клянчил вкусные куски и тотчас забирался к нему на живот, когда Интан хоть на мгновение присаживался. А уж спал Мирон практически в обнимку с Интаном на его подушке, против чего, как мы поняли, Интан совсем не возражал.
И в еде наш гость оказался непривередлив. Лина как мажордом громко объявляла (а с иностранцами надо громко, они тогда лучше нас понимают, можно даже прямо в ухо орать) – громко объявляла название еды перед трапезой. «Национальное русское блюдо – блины с паюсной икрой!» Интан уплетал с удовольствием, нахваливая: мол, какое тут у вас качественное питание! Или – «национальное украинское блюдо – борщ красный со сметаной!». Интан – с радостью за обе щеки. Или – «национальное блюдо всех времен и народов, а также всех поколений нашей семьи – рыба фаршированная!». Короче, Интан с аппетитом ел все, что дадут. И ловко пользовался столовыми приборами; но вот плов, им же и приготовленный, с бараниной и барбарисом, ел только рукой, правой, да так ловко и аппетитно, что мы тоже побросали наши столовые приборы и стали есть руками. Интан кушал интеллигентно, деликатно, кончиками тонких смуглых пальцев потомственного дипломата и охотника на обезьян, и свысока поглядывал на нас, перемазавшихся с непривычки, как на басурманов каких-нибудь… А я, облизывая руку до локтя, успокаивала всех и обнадеживала Интана: ничего-ничего, Интан, дорогой, мы научимся, не боги горшки обжигали.
Было легко и весело. Правда, о своих намерениях Интан почему-то ничего не говорил, никаких заявлений не делал.
Прошло несколько дней, а в пятницу Интан вышел из ванной сосредоточенный, отстраненный. Все, подумали мы, сейчас будет предложение Ульке делать, и запаниковали, потому что не знали, что ему отвечать, соглашаться или нет. И не знали, что нам Улька закатит, если мы ему в Улькиной руке откажем. А он помолчал и попросил компас. Компас?! Да, компас. «Ой! Началось…» – подумали мы, но Уля нас успокоила, что это еще не началось и что он сейчас в своей комнате восток искать будет и постелит коврик, чтобы творить намаз. Надо, чтоб ему никто не мешал и чтоб тихо. И не трогать его сейчас, не задавать вопросов, не приобнимать, не похлопывать по плечу – словом, не нарушать состояние чистоты и собранности. Мы тут немножко оскорбились, что наше дружелюбие как-то может ему помешать и что он до сих пор молчит и о своих намерениях ни гугу… Но… закон гостеприимства, куда денешься. Гость есть гость.
В детстве у нас с сестрой было распределение обязанностей. У меня была близорукость, но зато тонкий и острый слух, а сестре медведь ухо чуть задел, зато видела она прекрасно. Поэтому в детстве мы иногда подглядывали и подслушивали в паре, чтоб потом составить полную картину события. В квартире сестры стоит замечательный шкаф-купе. Если зайти в него со стороны прихожей, то можно подглядывать (Линке) и подслушивать (мне) все, что происходит в комнате для гостей. Нет, мне как раз важнее не то, что читатель сейчас подумает о моем воспитании или о нравах нашей семьи… Мне как раз важнее на тот момент была судьба нашего ребенка. Поэтому рассказываю все без утайки. Потому что это важно.
Ну вот. Мы с сестрой тихонько залезли в шкаф. Попрепирались там беззвучно, устраиваясь. Интанчик наш с компасом по комнате потоптался, нашел восток, уселся на коврик, вздохнул глубоко – и как пошел петь! Да так красиво и нежно!.. И все головой об пол: бух! бух! А главное: восток-то оказался именно в том направлении, где мы втроем – шкаф, Лина и я. Как-то нам стало неловко. А Интан закончил петь и что-то стал шептать себе в ладошки. И через слово: «Улачка», «Улачка», «Улачка». А потом вдруг все наши имена стал произносить нараспев: и «госпожа Лина», и «госпожа Марьяна». А уж когда Интан зашептал: «Мирошька, Мирошька…» – мы с Линкой так смутились, просто ужас, вылезли тихонько и незаметно из шкафа, пристыженные и, несмотря на темноту в шкафу, очень просветленные, переглянулись, красные от стыда, договорились об этом никому не рассказывать (только вам) и полюбили Интана совсем как родного. А через некоторое время к ужину вышел Интанчик наш – тихий, умиротворенный, и взгляд его был устремлен куда-то сквозь нас в их общее с Улечкой и Мирончиком будущее.
– Садись ужинать, сынок, – нежно пригласила моя обычно строгая и сдержанная сестра Лина.
И мы с Улькой с удивлением на нее уставились.
– Спасибо, матушька, – ответил Интан благодарно и тепло.
И мы с Улькой с удивлением уставились друг на друга. Интан посопел, поводил ножом по скатерти и вот-вот-вот… но почему-то опять промолчал. Долго молчал. Мы тоже молчали, в себя приходили… Сынок… Матушька… Н-да… Но главное, главное где?..
Так он и не сказал ничего до самого отъезда. Мы даже как-то облегченно переглядывались с сестрой: может, пронесет, и малайский дипломат, учитывая то, что мы совсем не умеем есть руками плов, а с удовольствием уминаем вилками фаршированную рыбу, передумал, и наша Улька достанется какому-нибудь отечественному претенденту. В то утро, когда Интан должен был улетать, началась безумная лихая весна. Она так откровенно разбушевалась за окном, что мы распахнули балконную дверь. Воздух потеплел и повлажнел, закапало с крыш, запели соседские коты. Мирошка, почуяв тайный шальной зов, страшно заинтересовался и осторожно вышел на балкон полюбоваться нашими красотами: лужами, гаражами и тополем одиноким под окном. Пока Интан собирал свои матрошьки и балабайки для родни, пока отдирали Бунгу от подоконника, в этой суете мы не сразу услышали отчаянное «Улла! Улла!». А когда услышали, не поверили своим глазам. Мирошка, видимо обороняясь от котов с соседних балконов, от страха вскарабкался на высоченный тополь, окруженный огромной и глубокой лужей, и голосил там из последних своих котячьих сил: «Улла! Улла! Улл-а-а-а! Ой! Улла-а-а-а-а!!!» А тополь – высоченный и гладкий. А нам – в аэропорт…
Но не успели мы опомниться и даже задуматься, что же нам делать и не вызвать ли пожарную машину, не успела Улька отчаянно зарыдать, как наш Интан уже карабкался по почти гладкому стволу спасать Мирончика. Карабкался он, ловко извиваясь, наш дипломат, – видимо, сказывались навыки, напрямую связанные с традиционным семейным бизнесом… Он долез почти до вершины, тонкой и ненадежной, куда, от страха уже ничего не соображая, вскарабкался кот. Одной рукой Интан сцапал Мирона, испуганного, дрожащего, запихнул его за отворот своей элегантной курточки и, поглаживая по спине, ловко спустился вниз, едва держась за ствол другой рукой…
Мы восхищенно встретили обоих на земле, повторяя: «Ой, Интан, спасибо, Интан! Ох, Интан! Ах, Интан!..» И Лина вдруг спросила:
– Интан, дорогой, а что твое имя, такое красивое, означает – Интан?
Запыхавшийся Интан поднял на Лину свои печальные миндалевидные очи, подумал, стоя в обнимку с ошалевшим котом под тополем в луже у гаражей, и вдруг сказал, как выдохнул:
– Матушька Лина, дай мине ладошьку и сэрце твоей дочери Улачка, пожалста! А токсидо и кольцо, чтоб предложение делать, у мине в аэропорту украли. Я обещаю, Улачка будет счастливой. Лето, осень и весна – здесь будем жить и работать, зима – там, в Малайзия… Хорошо будет. Всем. А имя мое означает «алмаз». Интан – это алмаз…
Утренняя прогулка
Хорошие стихи пишутся утром. А как писать утром, когда Дину – покормить и в школу, а Генку не кормить, хитростью дотащить до садика, отцепить от себя, зацепить за воспитательницу и удрать под оглушительный Генкин ор. После таких испытаний любой гений надевает драную шаль, стоптанные шлепанцы, сворачивается калачиком где-то в пятках и помирает. До следующего утра.
Если б не Генка, стихи можно писать везде: в очереди, в автобусе, да где придется. И когда у Генки новая игрушка или просто хорошее настроение, тогда рождается… Вот сегодня, например: и погода, и Генка – ангел, тьфу-тьфу-тьфу! Внутри закипело, стукнуло мягко в затылок… «Ограды твои в мое сердце впились…»
Так и брел Зигмунд, большой человек с доверчивым лицом. Такие лица раздражают обычно продавцов, номенклатуру и жен. И наоборот, нравятся всем другим людям по эту сторону. Таких, как Зигмунд, часто просят помочь, подержать, поднести. Вот и сейчас кто-то потрогал его за рукав:
– Молодой человек, переведите меня через улицу, я плохо вижу.
Зигмунд, одержимый оградами, даже не посмотрел на Маленькую Старую Даму. Продолжая бормотать, он привычно уместил крохотную сухую ладошку в своей большой уютной лапе и побрел через дорогу, не видя красного света, не слыша визга тормозов и не чувствуя, что Маленькая Старая Дама бьется в его руке, как увядший букет, и попискивает от страха.
Ограды… Ограды… Он, конечно, забыл, что держит кого-то за руку уже на второй секунде совместного марша. Маленькая Старая Дама попыталась вывернуть ладошку из его руки на другой стороне улицы, но он крепко и удобно подхватил ее, и так они пошагали дальше по каким-то делам. По делам Зигмунда. Он топал, медленно переваливаясь с ноги на ногу, большими шагами, что-то бормоча. А Маленькая Старая Дама тихонько семенила рядом. Время от времени они останавливались, и Зигмунд говорил, вздыхая:
– Во-от…
Маленькая Старая Дама сочувственно кивала.
– Смотри, лошадка! – вдруг дергал он ее за руку.
– Да-да… – понимающе кивала Маленькая Старая Дама.
Иногда Зигмунд аккуратно перекладывал ее лапку себе под локоть, крепко прижимая к боку, прикуривал, затем снова брал за руку, и путешествие продолжалось.
У магазина спортивных товаров долго стояли, рассматривали лыжи, приценивались, вздыхали, что дорого.
– А, например, я работала в театре. А потом в музее… – решила напомнить о себе Маленькая Старая Дама.
Но Зигмунд, рассеянно кивнув, не услышал. Он вдохновенно шептал про ограды.
Маленькой Старой Даме сначала было страшно. А потом ничего. Даже интересно. Такое приключение на старости лет. Идут, ведут беседу. Красивая пара. Люди оборачиваются. Какая у нее, у одинокой старухи, светская жизнь? В магазин, в поликлинику, в аптеку и в окно смотреть. А тут юный красивый человек, похожий на молодого Вахтангова, водит ее по городу. Показывает лошадку… лыжи… Стихи читает. Про ограды… Талантливый… С креном в… в… в гениальность. Вот пришли куда-то… Ага! Редакция.
Зигмунд с трудом открыл тяжелую дверь на пружине и быстро втянул вовнутрь Маленькую Старую Даму. Чтоб ее не прищемило. Редактор внимательно оглядел подозрительную пару и, указывая дужкой очков на листки у себя на столе, сказал:
– Хорошие стихи, мы их берем.
– Как берете?! – удивился Зигмунд.
– Так ведь хорошие стихи, – повторил редактор, обращаясь к Маленькой Старой Даме, – берем.
Зигмунд мчался по улице, переполненный счастьем.
– Как вас величать, молодой человек? – вдруг услышал он откуда-то сбоку сухой тихий голосок.
– Зигмунд, – кротко ответил он пожилой даме, которая почему-то держала его за руку.
– А по батюшке? – снова спросила старушка в ветхой одежде и в шляпке с облезлым крылышком.
– Павлович, – удивленно сообщил Зигмунд.
– Ну вот и мой дом, Зигмунд Павлович. Благодарю вас за прогулку. – Старушка склонила аккуратную головку и неторопливо пошла к своему подъезду.
«Странная какая-то дама», – недоумевал Зигмунд. Но недолго. Вскоре он уже забыл свою спутницу и продолжал брести и бормотать:
– Ограды… ограды… ограды…
Быстринские ведьмы
Раиска и Мура Козырь не поделили Агосьянца, научного сотрудника Быстринского НИИ. С Раискиной стороны претендовать на Агосьянца было нечестно. В позапрошлом году она оторвала кибернетика Гроссмайера, ни с кем не делясь, целым куском. Еще и в загс поволокла, зарегистрировать захват. Так зачем Раиске Агосьянц? А натура такая, не может пройти мимо свободного мужчины. И главное, чем хочет взять? Не интересная, не умная, интеллект – на уровне щиколоток. Замужем!!! Но хитрая, холера. Чаю поднесет. С мятой. Бдительность усыпить, Агосьянц – он же рассеянный. То монитор ему протрет тряпочкой специальной. То сигареткой угостит – у Гроссмайера тырит. Мелькает рядом приветливо, духами благоухает. Тоже мне ландыш серебристый! Колдунья, одно слово. О душе пора задуматься. Но где ей! Одни инстинкты. Сложные. Агосьянц в шахматы играл за честь лаборатории. Раиска, змея такая:
– Ах, Аркадий Петрович, что вы все за честь лаборатории, за честь института… А кто за мою честь сыграет?
Поняли? Шутки шутит. Разговоры разговаривает.
А Мура Козырь, ведьма такая… Смотрит люто, знаете, как рысь, только пойманная, из клетки. И шепчет что-то под нос, шепчет. Проклятья, наверное. Гарри Поттер тоже еще!
А тут Агосьянца на руководство лабораторией призвали, как самого даровитого и перспективного. Раиска вообще взбесилась. Руководитель лаборатории – это ж как гармонист в деревне, сразу девичий рейтинг понятен. Если по леву руку от гармониста – значит, первая в десятке. Так и с Агосьянцем. Если стол впритык к его столу – мега-звезда лаборатории. В понедельник должно было решиться, чей стол к столу Агосьянца станет. А следовательно…
Мура Козырь бороться умела. Пять лет назад ни с того ни с сего стала победительницей конкурса «Мисс Сбербанк»! Она тогда в сберкассе работала. Были девушки лучше ее. Даже гораздо. И песню «Погода в доме» душевнее пели, и деньги быстрее считали. А про фигуру уж и говорить нечего. С такой фигурой, как у Муры Козырь, надо петрушку продавать, а не представлять Сбербанк Ленинского района. А она взяла и всех победила. А потому что заклинания разные знает. Наизусть. От бабки своей. Бабка до сих пор жива, хоть ей уже больше ста. Помимо того, открыла малое предприятие «Бюро долгосрочного прогнозирования». На картах гадает. На гуще кофейной. А когда у Агосьянца проблемы с глазами начались, что Мура Козырь посоветовала? Замогильным голосом провыла, что зрение улучшится, если Агосьянц съест печень двухлетнего орла. Сырую. Причем орла он, Агосьянц, должен догнать и замочить сам. А потом вырррвать печень и сожрать, рыча и ухмыляясь окровавленными губами. И сразу, сразу зрение улучшится! Нет, ну вы представляете нашего Агосьянца? Щуплого, близорукого, неуклюжего Агосьянца, который даже на паркете спотыкается. А не то что в поле или в горах. И вот наш героический Агосьянц, чтобы улучшить зрение, должен мотаться по долинам и по взгорьям – ловить орла. У каждого пойманного вежливо спрашивать о возрасте. А орлы-то как недоумевать будут, только можно себе представить… Вот такие советы давала Мура Козырь. Конечно, она к понедельнику подготовилась.
И немудрено, что солнце в то утро встало не для Раиски. Она пришла в институт с огромным прыщом на носу. Злая. Обиженная. Красивая, как тролль. С такой физиономией у нее сразу рейтинг понизился. Хорошо, что у них в лаборатории Валентина есть. Еще один специалист. По нетрадиционному. Она сразу идентифицировала:
– Порча!
И все взоры куда? На Муру Козырь, конечно. А та наоборот – явилась, как будто девушка в церковный хор. Такая тихая, нежная, нарядная… Ресницы долу. Принцесса Будур. И вот лицемерка: ах! бедная Раиска, бедная Раиска… Советы дает, чем нос мазать…
Раиска не искала легких путей. Нет чтоб заплакать, пойти домой Гроссмайеру суп варить и себя жалеть в зеркале. Она сняла со стола тяжеленное старинное пресс-папье в виде спящего льва и тихо пошла на Муру Козырь, глядя ей в глаза, как утопленник. С фурункулом на носу. Нет, вы не подумайте. В Раискины планы не входило преднамеренное убийство. Непреднамеренное тоже не входило. Попугать хотела. Там, «Скок-ка я зар-рэзал, скок-ка пэрэрэзал…» А получилось наоборот. Лапа спящего льва еще в позапрошлом году треснула, когда Валентина, специалист по нетрадиционному, гвоздь в Раискин стул забивала. Потому что Раиска тогда не хотела делиться Гроссмайером. И вот сегодня этот кусок лапы взял и откололся. И не просто упал. А Муре Козырь по макушке, где, к счастью всех присутствующих, было много локонов в специальной, свежей прическе, для Агосьянца заготовленной. Мура Козырь осталась жива. Но унижена и оскорблена. Она тоже не искала легких путей. А налепила на локоны марлевую повязку (ой! партизанка Мура Козырь), хотя ничего у нее там и не было, накрасила губы и с криком «Уби-и-или!» прямым ходом в суд помчалась. Писать заявление, что сотрудница быстринской лаборатории Раиска убила ее, Муру Козырь, в голову с помощью спящего льва.
Следователь в суде оказалась терпеливой и подробно расспросила Муру Козырь, как ее убили. Мура Козырь показала в лицах с комментариями. Отошла к двери, артистично разбежалась, совершила тройной прыжок, размахнулась, как метатель молота:
– Умри, зараза!
– Больно? – тихонько поинтересовалась следователь, убирая со стола пресс-папье в виде Эйфелевой башни. Которым при желании можно было не только пристукнуть, но и, например, заколоть-зарезать. Так, приватно спросила. Из любопытства. Очень уж убитая Мура Козырь выглядела живой. Объясняя, что заявление написано в состоянии аффекта, следователь пригласила истицу прийти на следующий день, захватив с собой Раиску и спящего льва. Если это не опасно.
В поликлинике, куда грамотная Мура Козырь прибежала снимать побои, сказали, что следов ранения в локонах нету.
– Допустим, зажило, – предположила Мура Козырь, – а как быть с душевной раной?
Врач, в отличие от судьи, был нетерпелив и Муру Козырь послал. Снимать побои к психиатру. Мура Козырь пообещала проклясть неприветливого доктора до седьмого колена и побежала назад в лабораторию, чтобы не пропустить Агосьянца, наябедничать и поторжествовать.
Раиска тоже времени даром не теряла. Пока Мура Козырь привлекала внимание общественности, Раиска аккуратно расколотила спящего льва на мелкие кусочки, а мелкие кусочки в пыль. Сначала думала улику проглотить, но потом вышла во двор и развеяла львиный прах на институтской клумбе.
– Суши сухари, уголовница! – ласково предложила Раиске Мура Козырь, энергично двигая свой стол к столу Агосьянца.
– А ты докажи сначала! – парировала Раиска, продвигая свое рабочее место к столу заведующего.
Столы столкнулись, как два корабля, заскрипели непрочные ножки. Лаборанты делали ставки. В основном на Раиску. Раиска была толще. А значит, сильнее. Она поднатужилась и пропихнула свой стол на вожделенное место. Мура Козырь изменила тактику и направила свой болид прямо в Раискино пышное основание. Как раз тогда, когда Раиска должна была быть сплющена, в лабораторию вошел Васильич, председатель профкома института. С удивлением осматривая поле боя из-под очков, объявил:
– Сдаем денежки! Агосьянцу на свадебный подарок.
– А кто женится? – не поверила взмыленная Раиска.
– Как кто? Агосьянц.
Ну, Пушкина вы читали. Гоголя опять же. Что повторяться. Даже если эти фразы все равно пришли на ум. Эти две ведьмы даже не поинтересовались, на ком женился Агосьянц, так были потрясены. Раиска показала Муре Козырь язык и помчалась под крыло к своему Гроссмайеру. А Мура Козырь, конечно, затосковала. Развернуть такие боевые действия! И безрезультатно. Льва только жалко. Пострадал невинно.
А женился Агосьянц на мне – Зиночке из второго отдела. Если по секрету – я его приворожила. Ага! Делается это так. Ночью в конце июня – в начале июля режется ветка дуба…
Левый автобус
Однажды мы с мужем были в Умани (мы там в знаменитом парке гуляли) и опоздали на обратный поезд. Случилось это по моей вине, потому что я все время путаю. Ну и пошли мы искать, чем бы уехать домой.
Муж мой шагал решительно, а я трусила сзади и скулила, что это я виновата, я виновата. И что я больше никогда не буду. Хотя сразу скажу: слово свое я не сдержала и потом еще много раз в жизни все путала.
На Уманском автобусном вокзале объявление висело, что в связи с указом от такого-то числа и с целью борьбы против чего-то или за что-то все ночные автобусные рейсы отменяются. Вот такой ужас. Но муж мой находчивый Аркадий Кузьмич воскликнул, что рейсы, может быть, и отменяются, да люди все равно как-то едут. И повел меня к микроавтобусу с витиеватой надписью по-немецки «Кнурен ден маген?». Дальше было стерто. «Кнурен ден маген» означает «бурчание в животе». «Кнурен ден маген?» – кокетливо вопрошал автобус. И это был знак. Я очень верю в знаки. И вижу их на каждом шагу. И тут я поняла, что и дальше все пойдет интересно.
Рыцарь ночных дорог водитель микроавтобуса Миша содрал с нас, по мнению мужа моего осведомленного Аркадия Кузьмича, по пять номиналов за билет. И пока к нашему левому транспорту подтягивался народ, я подсела в кабину к Мише выяснить для себя, почему такие интимные подробности человеческого здоровья, как бурчание в животе, выписаны ярко-оранжевой люминесцентной краской на всеобщее обозрение.
Оказалось, что автобус, который служил раньше в каком-то медицинском учреждении, Миша пригнал из Германии, но в Германию автомобиль тоже был перегнан – то ли из Бельгии, то ли из Голландии. Я всплеснула от радости ладонями и тут же окрестила наш левый транспорт Летучим Голландцем.
Миша очень нервничал, оглядывался, дергался, всматривался в темноту. Еще бы. Его сейчас мог повязать кто угодно – хоть налоговая, хоть уголовный розыск, хоть дорожная милиция, хоть бандиты. И в порыве признался он, что когда нервничает, то, бывает, громко поет, чтобы успокоиться. Я чуть не бросилась его обнимать – потому что сама я пою даже когда не нервничаю. Но остановило меня то, что Миша сказал, понизив голос, что когда боится, то бредит матом. Сдержанно, но многоступенчато.
– А тут священник сел, – досадливо и уныло добавил он к своим признаниям.
Я оглянулась на священника, лишившего Мишу своим присутствием свободы слова, и прошептала водителю: мол, давай, матерись сейчас, батюшка дремлет.
– А матушка? – по-шпионски поинтересовался Миша, не поворачивая головы.
Я снова оглянулась. Батюшка, румяный и круглый как булка с изюмом, большим стогом съехал на спинку и спал, а матушка, изможденная, сухая, ладошкой отгоняла от батюшкиного лица последнего осеннего комара, планировавшего над аппетитным батюшкиным носом. Кстати, этот комар потом всю дорогу нами питался. И никто его поймать так и не смог.
В микроавтобус села пышная красавица в блестящей кофте, с множеством котомок и узлов и с миниатюрным мальчиком лет трех. Они так были непохожи, мать и сын, что подумалось: это как раз тот случай, о котором писал Михаил Светлов, что за неимением королей маленьких принцев рожает простой народ. Такой он был нежный, тепличный и красивый, этот мальчик Илюша, хрупкий как стебелек. И такая лучезарная была у него улыбка, такая чистая и доверчивая, что я просто растаяла от блаженства и возблагодарила судьбу за то, что все путаю. Потому что опоздать на поезд стоило только ради сияющего личика этого ангела.
Как только автобус тронулся, Илюша уютно свернулся в объятиях своей большой матери и засопел доверчиво и сладко, как медвежонок в берлоге. Мать Медведица нависла над ним огромными плечами и сотворила Илюше теплую крышу.
Еще в автобусе с нами домой поехали девушка с юношей – сладкая парочка, вероятно студенты, все в джинсе, коже и металле, две бойкие молодушки с баулами да дядька криминального вида.
Я так устала за день, так умаялась от красоты Софиевского парка, что задремала на плече надежного моего мужа Аркадия Кузьмича. А потом оказалось, когда я проснулась, что мы уже два часа плутаем по Умани и никак не можем выехать из города. Водитель Миша виртуозно бредил и оправдывался, что не знает города, не знает, как выехать, и что вообще он впервые ведет автобус, раньше он работал на мусороуборочной машине в Винницком комбинате коммунального хозяйства, и что в этот город попал потому, что вез сюда из Винницы группу хасидов на какой-то их форум.
– Но, товарищи пассажиры, – обратился Миша к нам, оторопевшим, испуганным в ночи, в его автобусе с бурчащим животом, – раз я хасидов вез, то вас и подавно отвезу, – тоном сказочника пообещал он, – отвезу я вас туда, куда вы и собирались, гарантирую.
Миша бил себя в грудь, иногда впадая в свой характерный бред. И знаете, он был такой убедительный, что все ему поверили. И никто не вышел из автобуса. Потому что просто некуда было.
Начался мелкий дождик, и наш Летучий Голландец приехал назад на автовокзал, и мы там стали ждать хоть кого-нибудь, кто может нам показать, как выехать на трассу. Батюшка стал молиться, чтоб Всевышний послал нам кого-нибудь. Всевышний услышал и послал тех, кто был сейчас не занят сном, работой, любовью, воровством, разбоем… Он послал цыганский табор. Шумные горластые цыгане стали ломиться к нам в салон, бить в дверь ногами, стучать в окна.
Миша испугался, громко запел:
– В Ватикане прошел мелкий дожжи-ик… – и рывком снялся с места.
Страх вывез нас на главную киевскую трассу. Все успокоились и снова задремали. Но счастье наше длилось недолго. Голландец стал замедлять ход. Муж мой раздражительный Аркадий Кузьмич начал ворчать:
– Все из-за тебя! Из-за тебя!
А я ему ответила, что надо было в автобус подсадить какую-нибудь цыганку, Шмель Мохнатую. Тогда бы ему было все равно, куда ехать, с ее юбками и плясками.
Наш спор прервал Миша. Он остановил автобус и опять обратился к пассажирам: мол, граждане, нет ли среди вас водителей с хорошим зрением, потому что он не успевает знаки читать, из-за тумана, и не привык он еще к автобусу, и надо еще следить, чтобы дорожная инспекция нас не сцапала. Ну, конечно, в кабину штурманом пошел муж мой глазастый Аркадий Кузьмич. Он стал громко читать все знаки.
А туман становился все гуще. И уже не видно было ни зги. И становилось страшно. По этому поводу запаниковал батюшка. Судя по всему, он вот-вот собирался объявить общеавтобусный молебен.
Аркаша командовал Мише:
– Внимание: ограничение семьдесят километров! Сплошная осевая! Обгон запрещен! Крутой поворот! Населенный пункт!
Миша на каждую Аркашину команду тихо бредил. И тут Аркадий Кузьмич, муж мой решительный, скомандовал:
– Идем по осевой! Лево руля!
Миша повернул. Аркадий опять скомандовал:
– Лево руля!
Миша снова повернул.
Аркашку как заклинило:
– Лево руля! Лево руля! Лево руля! Лево руля!
Миша все поворачивал и поворачивал. Все насторожились, Миша громко запел:
– Туман я-а-ром! Ту-уман долыною!..
И тут муж мой догадливый Аркадий Кузьмич хорошо присмотрелся и понял, что мы, оказывается, уже пятый раз объезжаем по кольцу стеклянную будку ГАИ. Мирно катаемся по кругу, словно мотыльки вокруг огня.
Мы все вывалились из автобуса и через стекло увидели, как два озябших сержанта едят что-то горячее из сковородки, запивая чем-то из чашек. И так аппетитно, что мы все, глядящие снизу на эту уютную картину, захотели есть и в тепло, и если не домой, то хотя бы к этим уютно сидящим милиционерам.
Миша нырнул в туман, побегал по кольцу, почитал знаки, потер руки, загнал нас всех обратно по местам, – и мы опять вздохнули облегченно. Поехали.
Спокойно прошли полчаса. Снова наш Голландец встал как вкопанный.
– Бензин! – констатировал Миша и отчаянно забредил.
И муж мой находчивый Аркадий Кузьмич понял, что, если не возьмет ситуацию в свои руки, мы домой не доедем. А будем скитаться по дорогам страны в своем Летучем Голландце, то там, то тут таинственно появляясь и исчезая. Одежда наша обветшает и оборвется. Илюша подрастет. И мы по очереди будем обучать его в дороге. Кто чему сможет. Я – английскому и музыкальной грамоте, батюшка – слову Божьему, Аркадий Кузьмич, муж мой талантливый, – математике, изобразительному искусству и начальной военной подготовке.
– Так, – сказал командным голосом муж мой инициативный Аркадий Кузьмич, – у тебя канистры есть?
Миша кивнул и выдал нам десять канистр, чтобы взять бензин на сейчас и на потом. И глубокой ночью во главе с мужем моим бесстрашным Аркадием Кузьмичом мы – батюшка, матушка, я, сладкая парочка, молодушки и дядька криминального вида – выступили в темноте на тропу охоты за бензином. У каждого в руке была пустая канистра. Мы шли организованно, колонной по одному, строго в затылок, в поисках обещанной дорожным знаком заправки. Миша и Большая Медведица со спящим Илюшей остались стеречь автобус.
Живописная группа из Летучего Голландца так потрясла сонного заправщика, что он еще долго стоял и глядел нам вслед, когда мы бесшумно и собранно уходили в непроглядную мглу один за другим с заполненными канистрами. Он смотрел нам вслед, размышляя, сон ли это, глюки ли и не стоит ли ему с этого момента начать новую жизнь.
Канистры были тяжелые. Мы останавливались отдыхать. И на одном из привалов студенты – сладкая парочка, о чем-то пошептавшись, объявили нам, что так в нормальной жизни не бывает, что, скорей всего, в нашей поездке замешано телевидение и это все – реалити-шоу. Все загалдели – мол, и правда, давайте проверим, поищем камеры. Их обычно цепляют на окна и под крышу…
Когда мы вернулись к автобусу и когда Миша, распевая песню про девочку-сиротку, заправил бак, муж мой предприимчивый Аркадий Кузьмич, перемигнувшись со всеми, кто в походе за бензином принимал участие, сказал Мише как бы невзначай, что вот, уронил, понимаешь, ключ от дома, теперь найти не могу. Включи, Миша, свет. Ничего не подозревавший Миша ополоумел, когда увидел, как все пассажиры ретиво кинулись искать Аркашин ключ, но не на полу, как ожидал включивший в салоне свет Миша, а на окнах, панелях и на потолке, тщательно ощупывая обшивку автобуса. Нет. Камер реалити-шоу не было нигде, и мы двинулись дальше.
Несколько часов ехали совсем без приключений. Правда, в ожидании оных никто, кроме маленького Илюши, не спал. Томительная тягостная тишина обещала что-то неприятное.
Первой не выдержала Большая Медведица. Она вдруг заголосила, что все поняла: нас всех выкрали, нас везут в рабство, нас закроют в подвале, и мы будем делать подпольную водку, и у нас заберут паспорта! А у нее ребенок, ангел Илюша! И надо звонить в милицию! У кого есть мобильный телефон?!
Мобильные телефоны были почти у всех. Мы схватились за них, как ковбои за кольты.
Больше всех этой истерики Большой Медведицы испугался криминальный мужичок. Он тоже заверещал-забился, что он, Бабученко Николай Петрович, не для того выходил на свободу с чистой совестью, чтоб опять попасть в тюрьму. И Большая Медведица так горько расплакалась, как будто плакала последний раз в жизни.