Язык русской эмигрантской прессы (1919-1939) Зеленин Александр
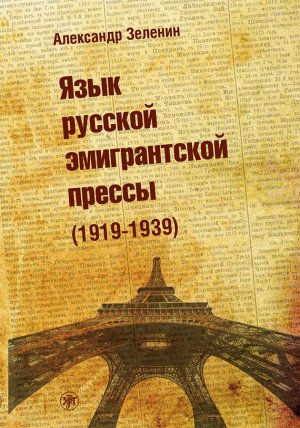
Книга издана при поддержке федеральной целевой программы «Культура России –2007» (программа «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)
© Зеленин А. (текст), 2007
© ООО Центр «Златоуст», 2007
Введение
Изучение феномена русской эмиграции разных волн в отечественной науке переживает бурный подъем. Открытие темы для российских ученых в начале 90-х г. проходило в несколько романтизированной атмосфере, обусловленной стремлением и даже страстным желанием многих людей (ученые здесь не составляли исключения) поиска новых путей развития постсоветской России. Русская эмиграция с сохраненным ею опытом прежних поколений на обломках рухнувшей советской идеологии и политики в постперестроечной смуте представлялась одной из третейских судей в идеологически и политически расколотой России, как один из потенциальных помощников и даже наставников в будущем переустройстве страны. На этом этапе общественный и исследовательский интерес фокусировался на миссионерской роли русской эмиграции в сохранении русских культурных традиций, утраченных или подточенных в советское время морально-нравственных качеств, религиозно-духовных основ.
Многочисленные статьи и заметки в публицистике, историко-культурные штудии, посвященные эмиграции, скоро дали ростки в смежных областях гуманитарного знания: социологии, истории, философии, культурологии, этнографии, литературоведении, лингвистике. Сформировалась целая отрасль исследований, направленная на изучение жизни эмиграции в ее разных преломлениях, активно издавалось и комментировалось педагогическое, философское, литературное, экономико-теоретическое, православно-религиозное наследие эмигрантов. В этом весьма разветвленном по темам и направлениям поле общественного интереса к эмиграции с начала 90-х г. громче и увереннее стал звучать и лингвистический «голос»: как же говорят и пишут эмигранты и в чем отличие «их» русского языка от русского языка в СССР/России?
1. Эмиграция: историко-культурный фон
Само понятие «эмиграция» в современной науке интерпретируется весьма разнообразно и даже расплывчато, что вообще свойственно научным терминам, попавшим в фокус общественного внимания: (1) как вынужденное или добровольное переселение из одной страны в другую, (2) как некоторая совокупность проживающих в той или иной стране лиц, (3) как уходящее корнями в историю явление, (4) как способ сохранить культурные, языковые традиции за пределами этнической территории. Отношение государства к эмиграции в разные исторические периоды могло значительно варьироваться. Так, в царской России эмиграция была запрещена, она квалифицировалась как противозаконная и нелегальная (это, кстати, одна из важнейших причин, почему так неохотно беженцы из России называли себя эмигрантами), но временный выезд за границу в дореволюционной России входил в круг свобод индивида.
Если обратиться к истории России и к теме выездов, миграций русских[1] за границу, то такие перемещения начались давно: так, в Византийской империи с XI в., а в Болгарии с XII–XIII вв. были выходцы с восточнославянских земель. В XVIII в. некоторые русские дворяне предпочитали проживать в Италии, Франции. В XIX в. начались вынужденные выезды из России лиц по революционным убеждениям (революционеры-демократы останавливались обычно в странах Западной Европы). К середине того же века выросло количество подданных Российской империи, отправлявшихся за границу на длительное время: учеба, курорты (ездили «на воды»), развлечения, путешествия (зажиточные дворяне, купцы), творчество (художники, писатели). Другая часть выезжающих отправлялась в поисках лучшей доли – так, к концу XIX в. ежегодно российские границы пересекало от 30 до 50 тыс. человек [Муромцева & Перхавко 1999]. В конце XIX – начале XX в. выросло число уезжающих по религиозным и национальным мотивам (евреи, поляки, народы Кавказа). Многих, особенно тех, чей отъезд был обусловлен религиозными причинами или поисками работы, привлекала Северная Америка, прежде всего США и Канада: в последние два десятилетия XIX в. из России уехало примерно 1 млн. 140 тыс. человек, в первые 15 лет XX в. – еще около 1 млн. 100 тыс., т. е. в общей сложности примерно за 50 лет выехало 2,5 млн. россиян [Тишков 2000: 54]. Новый Свет притягивал отъезжавших как магнит, как золотое и сказочное Эльдорадо. Так, в США в период с 1820 по 1917 гг. приехало 3,3 млн. иммигрантов, но русские[2] среди них составляли не более 5 %, причем большая часть их была занята в сельском хозяйстве; в частности, в 1920 г. на фермах работало примерно 33 тыс. русских [Нитобург 2002]. Однако все-таки такого человеческого «выброса», такого массового исхода граждан бывшей Российской империи, как после 1917 г., отечественная история не знала. Именно эту группу чаще всего именуют политической, военной, «белой» эмиграцией.
В чем заключается коренная разница между выехавшими в XIX в. и после 1917 г.? В том, что ранняя миграция обычно не была основана на идеологических основаниях (за исключением довольно немногочисленных и маргинальных для российского общества XIX в. революционеров самых разных политических «мастей»). Каковы же основные социальные, идентификационные, образовательные, социумные критерии, применимые к такого типа неполитическим переселенцам?
Во-первых, миграция носила в основном трудовой характер, имела перед собой ясные и конкретные экономическо-хозяйственные цели, пребывание экономических переселенцев в стране проживания было сопряжено с борьбой за существование и выживание.
Во-вторых, довольно низкий образовательный уровень; люди, занятые интеллектуальными сферами деятельности, в такой миграции, как правило, отсутствовали.
В-третьих, трудовая миграция была привязана к России прочными экономическими (эмигранты регулярно высылали своим родственникам, оставшимся в России, деньги), родственными, духовными связями (общая религия; для русских это русская версия православия, у которого в то время не было региональных ответвлений и тем более не было конфронтации с московским патриархатом, если не брать в расчет некоторые староверческие, молоканские группы или последователей учения Льва Толстого).
В-четвертых, миграция никогда не занималась саморефлексией, и у нее даже не возникало такого намерения и потребности в этом, не было необходимости оформить свое пребывание за границей как социально-политическую оппозицию, осознать себя как некий сплоченный (на тех или иных культурно-религиозных, этнических и др. основаниях) монолит, особый или обособленный от своей родины.
Все перечисленные признаки являются конституирующими (если поменять их модальность на противоположную) для признания эмиграции после 1917 г. как именно политико-идеологической. Абсолютное большинство групп переселенцев из России до 1917 г. можно назвать мигрантами, но после 1917 г. – уже эмигрантами, которые и стали формировать русскую (российскую) диаспору в XX в. Наличие в составе выехавших из России большого числа интеллектуальной элиты, высшей военной верхушки, аристократии, вынужденно оставивших свою страну, во многом объясняет то гораздо более острое и напряженно-болезненное чувство покинутой, утраченной, потерянной родины, чем тоску, переживания трудовых мигрантов, ностальгирующих, очевидно, все-таки меньше и без такого сгущенного морально-психологического надрыва. Вынужденным беженцам нужно было осмыслить и свое местоположение в раскладе политических сил, и свою позицию по отношению к бывшей родине, и причины своего бегства, и необходимость сохранить «Россию вне России». Перед эмигрантами стояли и вставали отчасти схожие с мигрантами проблемы (трудоустройство, заработок на жизнь), но вместе с тем задачи такого масштаба и ранга, которые не сопоставимы по трудности и культурной значимости с вполне прагматическими намерениями людей, поставивших себе целью экономически выжить и материально преуспеть. С понятиями диаспоры и миграции соприкасается обширное, принятое скорее в публицистике, нежел в научном дискурсе, понятие «русское зарубежье». Оно не сводимо ни к этноязыковому понятию русской эмиграции, ни к социокультурному феномену русская диаспора. Зарубежные россияне – многонациональное сообщество, говорящее в основном в своей среде преимущественно на русском языке.
1.1. Волны русской эмиграции
По уже выработанной и установившейся в эмигрантологии[3] традиции эмигрантские потоки XX в. в зависимости от социально-политических мотивов, их вызвавших, делятся на 4 периода, или так называемые «волны» [Назаров 1992; Фрейнкман-Хрусталева & Новиков 1995; Грановская 1995; Караулов 1995; ЯРЗ 2001; Пфандль 2002; и др.]. Мы полагаем, что в настоящее время можно говорить о пяти волнах русского (не в этническом аспекте термина) массового переселения.
Первая волна (1917–1939) – послереволюционная, вызванная в первую очередь политическими причинами (смена общественного строя, разногласия внутри победившего социал-демократического лагеря, поражение белых армий). Центры расселения эмигрантов – западноевропейские страны, страны Центральной и Южной Европы (Чехословакия, Болгария, Сербия, Турция), Юго-Восточная Азия (Маньчжурия, Харбин, Шанхай).[4]
Вторая волна (1939 – середина и конец 1940-х г.) – военная; в это понятие включают как военнопленных, попавших в немецкий плен и оставшихся в послевоенное время за границей, так и русских, перешедших на сторону фашистов в годы Великой Отечественной войны (напр., армия генерала Власова, русские полицаи), а также дезертиров. Центры расселения – Германия, Австрия, Англия, Канада, Австралия, США, Швеция.
Третья волна (примерно 1965–1985) – так называемая диссидентская (насильственная высылка с лишением советского гражданства антисоветски или просто либерально настроенных интеллигентов, борцов за свободу слова и личности) или еврейская (разрешенный выезд евреев из СССР). Центры расселения – США, Израиль, Франция, Австрия.
Четвертая волна (с конца 1980-х до середины 1990-х г.) – этническая: легальный выезд из страны, связанный с эпохой либеральных политических свобод, а также нарастанием политической нестабильности накануне распада СССР и экономического фактора; покинули страну прежде всего евреи (в Израиле переселенцев из России называют алия), немцы, финны (ингерманландцы, карелы), поляки, греки. Центры расселения – Германия, Израиль, США, Канада, Греция, Финляндия, Польша. Репатрианты получили возможность вернуться в прежние места проживания или на родину своих предков.
Пятая волна (с середины 1990-х г.) – экономическая или интеллектуальная (brain drain «утечка мозгов»). Эта «волна» не упоминается в приведенной выше литературе по эмигрантологии, однако ее отличие от предыдущей очевидно, поэтому охарактеризуем ее чуть подробнее. Действительно, если в начале 90-х годов эмиграция в страны дальнего зарубежья носила в целом ярко выраженный этнический или репатриационный характер, то во второй половине 90-х она постепенно теряет эту специфическую черту, и на первый план отъезда за границу выходят экономические факторы. Значительно расширилась и география расселения россиян (не только этнических русских, но и представителей других национальностей): как развитые страны, так и развивающиеся (Бразилия, Мексика, Турция). Почти все (или многие) уезжающие за рубеж хотят сохранить российское гражданство и паспорт. Они (с разной степенью регулярности в первую очередь из-за финансовых трудностей) ездят в Россию. Некоторые имеют даже свой бизнес, другие пытаются организовать с Россией деловое сотрудничество в самых различных сферах. Чаще всего едут высококвалифицированные специалисты, уже прошедшие первую школу труда в рыночной экономике (Карьера. 1998. № 7), хотя есть и те, кто стремится уехать по чисто материальным мотивам (возможность получения жилья, более высокие доходы, даже если принять во внимание только пособие по безработице, достаточно высокая социальная защищенность (в некоторых странах) и т. п.). Кроме того, после экономического кризиса в России в 1998 г. было довольно много таких людей, кто готов был добровольно понизить свой материальный достаток и социальный статус с целью избежать социально-психологического напряжения, дискомфорта, проживая в России. Разумеется, ими двигали иные мотивы отъезда, чем так называемыми «колбасниками». Социальный статус, профессиональная дифференцированность (от студентов, желающих заработать на курортах в теплых странах до высококвалифицированных специалистов), психологические установки у выезжающих из России людей, объединяемых в пятую волну, очень разнородны, но тем не менее они значительно разнятся от условий эмиграции первых четырех волн. Некоторые вообще отказываются признать последнюю волну как эмиграцию; вот, в частности, мнение П. Вайля: «Сейчас, по моему глубокому убеждению, понятие эмиграции как культурного феномена во всех отношениях вообще уничтожается, нивелируется. Какая разница, какая эмиграция, если можно взад-вперед ездить?» (Новое время. 2001. 4 нояб. № 2921).
Эта социополитическая, социокультурная классификация четырех (э)миграционных потоков из России в XX в., в принципе, принята в эмигрантологии (наличие пятой волны – дискуссионный вопрос: это еще политическая эмиграция или уже трудовая миграция?). Пожалуй, менее всего споров среди и специалистов, и самих эмигрантов вызывает первая волна эмиграции ввиду совершенно особых условий ее появления и массовости вынужденного выезда. Обладала ли эмиграция первой волны какими-то специфическими особенностями в сравнении с другими? Н. А. Струве в своей книге, подводящей итог его размышлений о феномене русской эмиграции, пытается нарисовать перед читателем общий портрет эмиграции первой волны с четырех позиций: социологической, географической, статистической и феноменологической [Struve 1996]. Эмиграцию первой волны как некий единый социокультурный феномен формирует набор признаков.
Признаки, интегрирующие эмигрантское сообщество на основе отрицания (негации):
• отрицание, неприятие советского строя;
• отторжение культурно-моральных ценностей нового общества.
Признаки, интегрирующие эмигрантов на основе позитивных критериев:
• социально-психологическое единство (близость или сходство морально-нравственных ценностей, заложенных в процессе воспитания, наличие так называемой «общей апперцепционной базы»: эмоционально-психические реакции, фонд общих знаний, обусловленных единой средой проживания, и др.);
• религия (как правило, православие; было возможно объединение и по другим конфессиям: иудаизм, мусульманство; атеизм являлся скорее чертой «левых» движений и партий, достаточно немногочисленных и в процентном отношении значительно уступавших эмигрантам, принадлежащим к той или иной вере);
• языковое единство (русский язык (а также и другие языки) как основной транслятор культурной, исторической памяти, один из важнейших инструментов поддержания и сохранения «русскости» в борьбе с денационализацией и т. п.).
Признаки, интегрирующие эмигрантов на организационно-структурном уровне:
• деятельность в эмиграции Земгора – Земско-городского комитета помощи русским беженцам за границей,[5] роль которого в деле материальной и психоэмоциональной поддержки эмигрантов невозможно переоценить;
• наличие многочисленных партий, групп, печатных органов, объединяющих эмигрантов по идейно-политическим, культурным и др. устремлениям и склонностям.
Эти черты во многом предопределили и следующий важный дифференциальный признак первой волны эмиграции – нежелание (или слабое желание) интегрироваться в экономику, политику, культуру, перенимать образ жизни и поведенческие стереотипы, принятые в странах пребывания, или тем более менять гражданство (натурализоваться). Неслучайно эмиграция так много сил тратила на борьбу с денационализацией, видя в ней реальную опасность утраты в молодежи или наименее стойких духовно и морально людях страстного желания вернуться на родину; эти люди готовы выбрать заграничную жизнь в качестве альтернативного (постоянного) варианта жизнеустройства. Были, конечно, и другие примеры – довольно быстрого приспособления к иной культуре и вживания в жизнь и быт. Чем ближе была культура, язык, быт, эмоционально-психический склад страны пребывания русскому языку, культуре, психоэмоциональному поведению эмигрантов, тем выше была возможность и вероятность денационализации и натурализации, в первую очередь это касалось славянских стран: Чехословакии, Югославии, Болгарии; напротив – в странах, чуждых и по культуре, и по поведенческо-бытовым реакциям людей, эта опасность была существенно ниже.
1.2. Основные эмигрантские центры
Расселение русских после бегства из России осуществлялось в странах и регионах, приютивших беженцев, весьма неравномерно, что имело под собой исторические, культурные, религиозные основания. Уже длительное время вектор эмиграции (не только русской) был направлен в Европу, превосходя по своей значимости и интенсивности миграцию людей в Африку, Дальний Восток, Латинскую и Северную Америку. Однако даже в пределах Европы миграционные волны затрагивали в основном Западную Европу: Францию, Бельгию, Англию, Швейцарию. Русские беженцы также предпочитали для своей временной остановки (большинство верило в быструю смерть большевистского режима) или на более длительный период пребывания вне России страны Западной Европы. Миграционные перемещения в XIX в. уже сформировали фокусированные потоки движения, эмиграция после 1917 г. в основном растеклась по уже проложенным направлениям. На территории Западной Европы отчетливо выделяется четыре наиболее значимых, важных зоны русского диаспорного сосредоточения:
• западноевропейские государства: Германия, Франция;
• славянские страны: Сербия, Болгария, Чехословакия;
• приграничные государства, некоторые из них раньше являлись частью Российской империи: Польша, Финляндия, Румыния, прибалтийские страны;
• Юго-Восточная Азия (прежде всего Китай).
Проживание русских в этих зонах было обусловлено политическими мотивами (режимами, существовавшими в этих странах), культурными (наличием и сохранением старых связей), национальными (обретение некоторыми странами независимости могло сопровождаться ростом антирусских настроений), религиозными (мусульманские регионы мало привлекали русских беженцев). Многотысячная русская военная эмиграция поначалу оседала в балканских странах, проникнув туда через «константинопольские ворота»; деятели науки стремились попасть в развитые страны: Францию, Германию, Чехословакию, где они могли применить свои знания. Культурная элита видела места своего пребывания и проживания в Берлине, Париже, Лондоне как космополитических городах; российские промышленники и предприниматели уезжали в те страны, где у них или уже имелись свои капиталы, или существовали благоприятные для развития и ведения бизнеса условия: в США, Канаду (через Европу). В начале 1920-х гг. наибольшее количество русских беженцев было зарегистрировано в Германии (на 1924 г. – от 250 тыс. до 300 тыс. человек), во Франции (в 1925–1926 гг. – примерно 400 тыс. – 450 тыс. человек). В 1923–1925 гг. вектор русского переселения поменял свое направление и переместил «столицу» русской эмиграции из Берлина в Париж.
Наиболее трудным было положение русских беженцев в приграничных государствах, где в начале 1920-х г. значительно ужесточилась внутренняя политика в отношении иностранцев; эти действия находились в одном русле с проводившимся в этих странах националистическим притеснением национальных и культурных меньшинств. Эти меры коснулись прежде всего русских эмигрантов, так как правительства стран еще помнили недавнее имперское российское прошлое и опасались возвращения имперской политики в будущем, если в России снова водворится царистский (монархический) режим. Разумеется, такая дискриминационная политика государств заставляла многих русских эмигрантов или ассимилироваться, маскироваться (или, по крайней мере, скрывать свою национальность), или переезжать в другие, более дружественные государства.
Самое теплое к себе отношение русские эмигранты встречали в Чехословакии, Болгарии, Сербии, где правительства действительно выделяли огромные (для бюджета этих стран) деньги на поддержание эмигрантов не только в обеспечении их повседневного быта, но и на культурные и учебные программы. Так, в Праге уже в 1923 году (16 октября) был официально открыт Русский народный университет, целью которого декларировалось оказание помощи русским студентам, обучавшимся в чехословацких высших учебных заведениях, а также ознакомление граждан Чехии и Словакии с русской культурой, историей, искусством в форме лекций, концертов, литературных вечеров не только в столице (Праге), но и в провинции [Косик 2000; Аксенова & Досталь 2001; Chinyaeva 2001]. Социальный состав русской эмиграции в Чехии и Словакии в 1920-е годы определялся преобладанием рабочих, ремесленников, крестьян. В начале 1930-х годов произошло некоторое смещение фокуса эмигрантов: появились выпускники пражских высших учебных заведений – инженеры, агрономы, банковские работники, торговцы, специалисты со средним техническим образованием. Структура занятости русских была в принципе той же, что и в других странах: около 90 % беженцев занималось физической работой и только 7–10 % – умственной (преподавание, театр, музыка) [Harbul’ova 2001].
В Турции и на Балканах оказалось огромное количество царских военнослужащих после неудачных военных действий против Красной армии на Дону и в Крыму. Несмотря на трудные условия, генерал Врангель сумел осуществить практически невозможное: эвакуацию 75 тыс. офицеров, казаков, рядовых и 60 тыс. спасенных беженцев на 126 судах. Таким образом, в Турции оказалось около 140 тыс. русских эмигрантов; основное место расселения русских – местечко Галлиполи, ставшее не просто и не только военным лагерем, но частью российского государства. Врангель всеми силами пытался сохранить организационную структуру русской армии и ее боеспособность, полагаясь на помощь Антанты [Пивовар & al. 1994; Замятин 2002]. Однако ограниченные финансовые ресурсы, деморализация военных, необходимость кормить и содержать огромное количество мирных беженцев заставили Врангеля в 1921–1922 гг. осуществить еще одну эвакуацию: на этот раз уже в славянские страны – Болгарию и Сербию. Но не все военные покинули Турцию. Так, еще в 40-е гг. в Стамбуле жили тысячи русских эмигрантов и их потомков. Правда, уже в 20–30-е гг. началась сильная ассимиляция с турками, «отуречивание». Вот фрагмент воспоминаний одного из «русских турков»: «Бывший офицер Веньямин Лишкевич переделался в Вехби Лачина, Алексей Плотников стал Асланом Демиртажем. Да и я [автор воспоминаний. – А. З.] был Попковым, а в 1937 г., когда появилась возможность принять турецкое гражданство, стал Паккером. Принуждения никакого не было, но если решил здесь остаться навсегда, лучше не слишком выделяться. Однако православие и я, и моя жена сохранили – это для нас был вопрос принципа. В общем, все по присказке, которую эмигранты в 20-е и 30-е гг. любили повторять: “Я не турок, я не грек, а я русский человек”[6]» [Смирнов А. Армия Врангеля: жизнь после смерти // Русский курьер. 2004. № 114. 4 июня].
Уже во время Гражданской войны в России 1918–1922 гг. и особенно после нее началась массовая эмиграция частей «белого» движения в Китай. Согласно китайской статистике, к концу 20-х гг. в Шанхае проживало около 25 тыс. русских эмигрантов. В Харбине их было в четыре раза больше – около 100 тыс.; в так называемой полосе отчуждения КВЖД[7] – еще 100 тыс. [Юнхуа 2002]. Компактные поселения русских существовали в Китае и раньше. Именно поэтому Харбин, в частности, уже изначально существенно отличался от других центров русского зарубежья (Берлин, Прага, Белград, Париж), которые сконцентрировали много русских политических беженцев. Русская диаспора в Китае оказалась одним из самых крупных, устойчивых и долговрменных средоточий русской эмиграции. Она просуществовала полвека – вплоть до конца Второй мировой войны, когда советские войска вступили на территорию Маньчжурии, которая с 1931 г. находилась под японской оккупацией. В силу конкретно-исторических причин основная масса русских эмигрантских изданий выходила в городах Шанхае и Харбине. Политический спектр был весьма пестрым: одна часть поддерживала белое движение, надеясь на его скорую победу, другая симпатизировала советской власти [Юнхуа 2002].
Отношение к русской диаспоре в Китае со стороны многих русских беженцев в Европе было противоречивым: с одной стороны, у «европейских русских» сложилось ошибочное мнение о якобы меньших психологических и экономических трудностях, испытываемых русскими беженцами в Китае, что порой вызывало зависть, раздражение, не разделяемые, однако, представителями восточной русской диаспоры. С другой – «европейские русские» склонны были принижать «восточных русских», относиться к ним несколько свысока. Вот как об этом вспоминает Михаил Николаев, старейший житель русского Шанхая, офицер Русского волонтерского корпуса,[8] в своей жизни поменявший несколько стран пребывания: «Если рассматривать всю русскую эмиграцию в целом, то считается почему-то, что мы, приехавшие в Китай, ниже по положению тех, кто оказался в Европе. Нам часто говорят: вы приехали на все готовенькое, вам было хорошо, легче, чем нам. А ведь это неправда. Мы в Китае и в Австралии, а позднее – в США все начинали с нуля. Трижды! Все – с нуля. И не погибли! Вопреки всему – выжили!» [М. Николаев. Жизнь на китайской земле // Первое сентября. 2004. № 5].
1.3. Сколько их было?
1917 г. расколол российское общество на два противостоящих лагеря: сторонников коммунистов, большевиков и тех, кто или не принял социалистическую революцию вообще, или принял, но с известной осторожностью. Накал политических и военных страстей привел к массовой эмиграции не только русских, но и представителей других народов и национальностей. Сколько же подданных бывшей царской России выехало за рубеж? Точных данных до сих пор нет. Трудность заключается в квалификации самого понятия «эмигрант», «эмиграция» применительно к тому времени. Ведь помимо политической эмиграции, часть покинувших Советскую Россию составляли люди, уехавшие не по политическим мотивам, а, например, на работу в Европу, Турцию, Америку, Китай, Австралию. Кроме того, из Европы не вернулось много бывших военнопленных, попавших в немецкий или австрийский плен во время Первой мировой войны. Еще до начала Первой мировой войны из России уехало примерно 2,5 млн. человек [Тишков 2000: 56]. В 1918–1922 гг. огромный размах получила политическая («белая») эмиграция; ее численность, по оценкам В. А. Тишкова, составляет примерно 1,5–2 млн. человек. С. И. Карцевский полагал, что в начале 1920-х г. находилось «более… двух миллионов эмигрантов, покинувших советскую Россию, а также бывшие военнопленные, часть из которых до сих пор еще находится интернированной в концентрационных лагерях» [Карцевский 2000: 245]. Именно об этой группе вынужденных беглецов чаще всего и говорят как о собственно эмиграции.
Пожалуй, максимальную цифру первой волны эмиграции называл И. А. Бунин в речи «Миссия русской эмиграции», произнесенной в Париже 16 февраля 1924 г.; в ней он восклицал: «Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов…» Очевидно, эта оценка Бунина могла быть гиперболическим преувеличением, его слова – скорее риторико-патетический прием, привлекающий внимание правительств зарубежных стран к судьбе русских беженцев.
Современные исследователи единодушно считают цифры в рапорте Нансена (920 тыс. человек) явно заниженными. Так, Б. Хазанов приводит цифру 1,16 миллиона, но при этом сомневается в ней и полагает, что ее нужно поднять, так как в работах Ленина есть указание на то, что скорее всего численность эмигрантов от 1,5 до 2 млн. [Хазанов 1999]. Другие исследователи: Ю. И. Емельянов, Ю. А. Поляков, С. Максудов, В. М. Кабузан – полагают, что выехало примерно (или даже чуть больше) 2,5 млн. человек [Емельянов 2003: 110; Поляков 1986: 117–119; Максудов 1989: 202; Кабузан 1996: 220], однако эту планку чуть опускает М. Г. Вандалковская: от 2 до 2,5 млн. [Вандалковская 2004]. Очевидно, точных данных нет, и они едва ли будут получены в будущем, так как надо учитывать процессы ассимиляции (растворения в массе населения страны-приюта), и реэмиграции (возвращения на родину). Учет этих данных в то время, понятно, никто не вел. Как бы то ни было, даже несмотря на значительный разброс цифр, ясно одно: количество выехавших из России огромно, это была не просто эмиграция, это был своеобразный исход (неслучайно сами эмигранты сравнивали свое беженство со страданиями евреев, описанных в Библии, и сами именовали свое вынужденное бегство этим библеизмом). Барон Б. Э. Нольде[9] грустно замечал: это не «эмиграция русских», это «эмиграция России».
1.4. Политическая палитра
Политическая палитра эмиграции была весьма пестрой. Многие эмигранты или сохранили свою партийно-политическую принадлежность, выбранную еще до революции 1917 г., или поменяли политические пристрастия, или сформировали новые партийно-политические движения, блоки и группы. Политически активная часть интеллектуальной, преподавательской, военной элиты, прежде участвовавшая в обсуждении и решении государственных задач, в эмиграции в какой-то мере по инерции, в какой-то мере в надежде на скорейшее возвращение на родину, а в какой-то степени и в протестном противоборстве с большевиками продолжала живо обсуждать многие вопросы жизни прежней и современной, большевистской, России. Отличие, однако, было в том, что эти темы государственного устройства страны приобрели иные конфигурации и очертания – не реальные, а скорее виртуальные. Это чаще всего приводило не к объединению эмигрантов, а, напротив, к раздроблению на мелкие партии и группочки – у каждой из них было свое видение прошлого и перспективы будущего. Даже общая идея, которая должна была выступить цементирующим стержнем эмиграции – непримиримость к советскому строю («в этой непримиримости – вся сущность политической эмиграции», – так характеризовал духовно-политические интенции эмиграции виднейший русский и эмигрантский историк П. Н. Милюков) – не спасала от дробления эмигрантских сил, частенько пускавшихся в выяснение отношений, приобретавших порой характер склок. Нескрываемая горечь сквозит в словах известного эмигрантского историографа М. Раева: «политическая жизнь эмиграции состояла из бесконечных пререканий, порождаемых использованием непроверенной информации, беспомощностью, озлоблением, тоской по прошлому…» [Раев 1994: 20] Это одна из реальных, пусть и не самых лучших, сторон эмигрантского политического пространства. Другой же стороной была многопартийность и плюрализм – это действительно невиданное ранее в царской России сосуществование различных политико-партийных программ, зачастую находящихся друг к другу в непримиримых позициях. Пожалуй, только в период после Февральской буржуазной революции 1917 г. в России было такое политическое многоцветье, которое, по мнению либералов и социал-демократов, и следовало бы развивать и, которое, по мнению монархистов, погубило в конце концов Россию.
Однако самым массовым в правом политическом спектре было, конечно, монархическое движение, насчитывавшее, по подсчетам П. Б. Струве, 85 % всей «белой» эмиграции. Сторонники и защитники монархического режима создали по всей Европе разветвленную сеть организационных ячеек, а уже в 1922 году образовали координационный Высший монархический совет. В движении монархистов обнаружилось два течения: русские монархисты (вдохновитель и руководитель – граф. А. Игнатьев) и монархисты немецкой ориентации[10] (руководитель – полковник Б. Агапов). Последнее течение представляло скорее элитарный политический клуб, куда могли входить только представители высших сословий, в отличие от объединений русских монархистов, более разнородных по своему социальному составу: представители высшей аристократии, дипломаты, офицеры белых армий Врангеля, Юденича, Деникина, Миллера, а также так называемые «монархисты поневоле»: «поскольку крушение монархии для русских означало и крушение России, многие образованные русские, не бывшие монархистами, стали монархистами из русского патриотизма» [Струве 1921: 7 – цит. по: Емельянов 2003: 111].
Попытки монархистов объединить эмиграцию правого толка на основополагающих для себя идеях монархии, православия и сохранении прежних принципов частной собственности на землю успеха не имели. Выход из политико-идеологического тупика некоторые монархистски настроенные круги увидели в зарождавшемся фашизме как реакции на социалистические движения в Европе. Итальянская версия фашизма, несомненно, привлекала правых как одна из возможных антибольшевистских сил (Антанте свергнуть большевизм военным путем не удалось). Эмигранты смотрели на фашизм не как на идеал будущего управления Россией (они все-таки оставались убежденными монархистами), а как на инструмент борьбы против советского режима [Окороков 2002]. Молодежь, видя неспособность «старых» монархистов договориться между собой, усмотрела в этом духовную смерть старого монархизма и стала проявлять заинтересованное сочувствие к фашизму как к молодой, энергичной, волевой силе. Например, сильной и влиятельной группой в русской эмиграции на Дальнем Востоке являлась Русская фашистская партия, сформированная под началом К. В. Родзаевского в 1931 г. из двух групп: монархической группировки великого князя Николая Николаевича и так называемого Богоявленского братства [Емельянов 2003: 135]. В 1933 г., особенно после прихода к власти Гитлера, Родзаевский предпринял новые шаги по сплочению русских фашистских рядов, предложив объединиться с Всероссийской фашистской организацией в США (вдохновитель и руководитель – А. Вонсяцкий). Уже в 1934 г. в результате переговоров была создана Всероссийская фашистская партия (со штабом в Харбине). Итак, волевое начало фашизма, соединившееся с явно усилившимися в эмиграции духовными славянофильскими тенденциями (в первую очередь его модернизированной версии – евразийства) и подготовило питательную почву для появления младоросского движения, стремившегося соединить несоединимое: «легитимного царя» (по их мнению, исторически выверенной и единственной для России модели правления) с признанием Советов, свободных от большевиков (как необходимостью учета современных реалий). Отсюда их лозунг – «Царь и Советы», а инструмент осуществления политики – «национальная русская революция или мировая завируха» [Косик 2000; Емельянов 2003]. Впрочем, надежды на фашизм и его поддержка в конце 1930-х годов пошли явно на убыль. Поворотным пунктом для профашистски настроенных русских эмигрантов стало заключение советско-германского договора в августе 1939 г. (так называемый пакт Молотова – Риббентропа). Один из лидеров фашистского движения в эмиграции генерал Туркул покинул Берлин, откуда он вел работу по сплочению фашистских сил русской эмиграции, и перебрался в Рим. С этого момента и сочувствие к фашизму, и особенно вера в него как средство свержения большевизма во многих эмигрантских кругах не просто пошатнулись, а практически рухнули. Более того, эмигрантам во Франции, Англии, США даже пришлось отмежевываться от фашизма, поскольку Германия стала не просто политическим, но – что важнее – военным (с началом Второй мировой войны, развязанной фашизмом 1 сентября 1939 г.) противником. В прессе и общественном мнении усилились антирусские настроения, которые эмигранты испытывали на себе не только в морально-психологическом, но даже в физическом смысле: в Париже были зафиксированы случаи нападения на русских эмигрантов за их поддержку Гитлера [Назаров 1992: 281]. Часть эмигрантов, уже не выказывая открыто своей поддержки фашизму, все-таки надеялась, что советско-германский пакт – это просто тактический ход Гитлера.
Социал-демократическое движение в эмиграции представлено было немногочисленными, но активными, действенными группами – в первую очередь это относится к меньшевикам. После 1921 г. – Кронштадтского восстания, жестоко подавленного большевиками и окрещенного ими контрреволюционным мятежом, – начался исход из России меньшевиков и эсеров, судьба которых в Советской России изменилась радикальным образом: ссылки, тюрьмы, лагеря… Парадокс меньшевистского движения в эмиграции, однако, заключался в том, что меньшевистская партия, в силу идейных соображений, решила не принимать в свои ряды новых членов, ограничив количество партийцев только старыми, вступившими в партию еще в России, революционерами. В результате такого жесткого ценза в меньшевистской группе в Берлине в 1933 г. насчитывалось, в частности, только 70 человек (причем включая супругов и даже детей).
Пусть и немногочисленным, но весьма специфическим контингентом русской эмиграции в 20–30-е гг. стали так называемые невозвращенцы – сотрудники советских учреждений, работавшие за границей и впоследствии отказавшиеся вернуться в СССР; к лету 1928 г. число невозвращенцев насчитывало 123 человека (из них 18 – члены ВКП(б)), к лету 1930 г. – 277 человек (из них 34 – коммунисты) [Генис 2000]. Если соотнести эти цифры с общим количеством работников внешнеторгового аппарата (2290 служащих, среди них 301 коммунист и 449 членов зарубежных компартий), то, следовательно, невозвращенцем оказывался практически каждый десятый или девятый. Первая волна невозвращенчества приходится на конец 20-х гг… Часть этих людей решила остаться за границей после свертывания нэпа, разрешавшего предпринимательскую деятельность, и начавшихся политико-экономических ограничений в СССР; другая часть представляла «идейных» перебежчиков, использовавших свое пребывание за рубежом в качестве лазейки, чтобы ускользнуть за границу. Невозвращенцы как люди активные и энергичные не сидели сложа руки и публично разоблачали советскую власть, сотрудничая, в частности, в журнале «Борьба» (существовал с 15 апреля 1930 г. по 1 марта 1932 г.; всего вышло 22 номера); в этом журнале часто публиковались статьи, воззвания и декларации бывших членов РСДРП и ВКП(б), бежавших из Советской России. Правда, белая эмиграция не принимала невозвращенцев в свои ряды, даже если критика советского сталинского режима у них бывала более целенаправленной и не менее язвительной, чем у эмиграции «белых» политических тонов; известное исключение составляли младороссы, сотрудничавшие с невозвращенцами в рамках своей программы по дискредитации и свержению советского режима. «Невозвращенчество принимает характер эпидемии. Почти не проходит дня, чтобы ряды “третьей эмиграции” не увеличивались новыми пришельцами. Бегут не только заподозренные в “уклонах” и “разложении”, но и… стопроцентные коммунисты!» [Генис 2000: 61].
Вторая волна притока невозвращенцев началась по второй половине 30-х гг. и была связана со сталинскими репрессиями, страх перед которыми вынуждал советских граждан, работавших в советских торговых организациях или оказавшихся в зарубежных командировках (технические работники, инженеры, моряки), искать убежища на Западе. Именно из речевой практики невозвращенцев, владевших советским «новоязом» и употреблявших его в речи и печатной продукции, другая часть эмиграции («белой») заимствовала некоторые советизмы и инкрустировала их в свой речевой обиход преимущественно с характеризующей целью и гораздо реже – в собственно номинативном значении. В частности, и сам термин невозвращенец – советизм,[11] проникший в эмигрантский язык:
Судьба невозвращенца Наумова [название заметки]
…покушавшийся на самоубийство в Беле Подляшской б[ывший] сотрудник парижского торгпредства Наумов продолжает находиться в Бельско-Подляшской городской больнице (Руль. 1930. 20 июня. № 2906).
Младороссы видят в [Дмитриевском. – А. З.] наиболее яркого и талантливого из «невозвращенцев», деятельность которого в эмиграции наносит наибольший ущерб сталинской верхушке. Мы не знаем, будем ли мы всегда единомышленны с ним, но в настоящее время мы признаем его сотрудничество весьма ценным (Младоросская искра. 1932. 20 авг. № 21).
Такой обширный историко-культурный экскурс в лингвистической по своей основной тематике и содержанию работе мы сочли необходимым и важным, поскольку социальная стратификация и политическая раздробленность эмигрантского сообщества оказывались одними из структурирующих (внеязыковых) факторов, оказывающих влияние на отбор языковых средств в газетной полемике и интерпретации событий. В дальнейшем мы также будем периодически обращаться к историческим фактам, помогающим понять и объяснить социолингвистические феномены русской эмигрантской прессы.
2. Зарождение эмигрантской прессы и ее специфика
Оказавшись за границей, русские эмигранты поразительно быстро наладили выпуск изданий: газет и журналов, которые служили важным средством духовного, религиозного, культурного объединения русских – или разобщенных в пределах одной страны, или разбросанных по всему миру. Повышенное внимание к прессе и, как следствие, быстрое основание печатных органов мотивировались острой необходимостью в оперативной доставке информации русскоязычной публике. Газеты и журналы, выполняя информационно-консолидирующую функцию, заняли практически единственно возможную нишу. Радиостанции, которые стали получать широкое распространение в Европе в 1920-е гг, были фактически недоступны эмигрантам даже при наличии достаточных денежных средств, так как требовалась государственная лицензия на их открытие [ПРЗ 1999: 7]. Эпистолярные формы поддержания контактов не отвечали потребностям массового охвата и информирования единомышленников. Личные контакты и встречи эмигрантов (особенно если они жили в разных странах) затруднялись визовым режимом, сдерживались финансовыми возможностями. Поэтому естественно, что главную роль в консолидации русских беженцев выполняла пресса. Каков же охват читающей публики был у эмигрантской печати?
Аудитория журналистики Русского зарубежья (по данным Подкомитета частных организаций по делам беженцев на 1930 г. и Службы Нансена на 1937 г.)
Источник: [Жирков 2001].
Газетно-журнальные публикации уже давно, еще до революции 1917 г., стали для российского читателя более актуальным и действенным способом общественных дискуссий, чем литература. Развитая инфраструктура дореволюционной (особенно послефевральской 1917 г.) прессы, политический диапазон которой охватывал все направления общественной мысли: от крайне правого, черносотенного, до крайне левого (анархистского) – фактически была перенесена и в эмиграцию. Эмигрантские газеты и журналы сохраняли такой же разброс мнений, причем характерно, что каждая политическая группа, культурно-просветительское объединение не столько стремилась примкнуть к уже существовавшим печатным органам, сколько выпускать свою газету или журнал. Второй причиной бурного роста числа эмигрантских газет был социальный и поколенческий разрыв. Поколенческие разногласия проявлялись в том, что молодые журналисты обычно не могли пробиться в солидные газеты и журналы, которые представляли собой чаще всего корпоративную, сложившуюся еще в дореволюционный период структуру. Социальные разногласия заключались в неудовлетворенности молодых идеологическим качеством публикаций в печатных органах представителей старшего поколения. Дело в том, что все первые годы эмигрантская публицистика по сути была занята выяснением двух коренных вопросов: «как большевикам удалось захватить власть» и «кто в этом виноват»? Второй вопрос касался будущего большевистской системы [ПРЗ 1999: 5]. Эмигранты старшего поколения явно не были склонны к покаянию и признанию своей вины, напротив – очень часто они обвиняли друг друга, сваливая всю вину за случившуюся трагедию (по крайней мере, хотя бы в этом они были едины!) на своего политического или идеологического оппонента.
3. Язык эмиграции как объект изучения
Открытие эмигрантского языкового материка (в первую очередь это касалось послереволюционной эмиграции как наиболее трагической по своей судьбе) происходило постепенно. В начале 90-х гг. первые работы по эмигрантскому языку констатировали в основном преобладание архаических черт в эмигрантском речевом узусе, к середине 90-х гг. XX в. уже отчетливо обозначилось исследовательское стремление к систематизированному описанию русского языка эмиграции на разных языковых уровнях (от фонетики до синтаксиса) и сличения его с русским языком метрополии. Начало XXI в. ознаменовалось выходом обобщающих монографий, нацеленных на выявление как частных особенностей в иноязычном окружении (прежде всего языковой интерференции, смешения языковых систем), так и общих процессов в развитии русского языка в метрополии и вне ее. К каким же результатам и выводам подошло изучение языка русской эмиграции к настоящему времени?
Несмотря на то что изучение языка русской эмиграции ведется не так давно, уже сформировались научно-исследовательские подходы и выявились спорные, дискуссионные моменты. Один из ведущих специалистов и пионеров-исследователей в данной области Е. А. Земская в описании речевых практик эмигрантов пытается «в многообразии фактов обнаружить общие закономерности, характеризующие особенности языка русской диаспоры, найти корреляции между историческими, социальными, культурными, индивидуальными особенностями и степенью сохранности/разрушения русского языка» [Земская 2004: 409–410]. Материалом такого исследования чаще всего служат «магнитофонные и ручные записи естественной неподготовленной устной речи», дополнительными – переписка, бытовые записки, объявления, реклама, отдельные выписки из эмигрантских газет [там же: 410].
В чем заключаются позитивные моменты сбора и анализа материала при помощи магнитофонных записей как основного инструмента получения языкового (речевого) материала? Интервью в социолингвистическом аспекте признается одним из методов получения той или иной релевантной для исследователя информации. Непринужденные разговоры, беседы на самые разные темы, неофициальность, порой шутливость, отсутствие натянутости в беседах, самые различные и незапланированные заранее места собеседования (кухня, церковный дворик, машина, кафе) – все эти, на первый взгляд, внешние атрибуты речевого общения первостепенны, по мнению Е. А. Земской, для получения языкового материала и адекватных суждений об эмигрантском узусе.
Однако при таком сборе материала исследователя могут подстерегать неожиданности и даже разочарования. Выразительные примеры такого рода приводит известный американский ученый Д. Эндрюс, изучавший язык эмигрантов третьей волны (приехавших туда в 1960–1970-е гг.) в США.
Во-первых, многие эмигранты относились к предложению взять у них интервью очень настороженно, подозрительно (leery) и никак не могли забыть о присутствии магнитофона в доме, где происходила запись непринужденной беседы;
во-вторых, интервьюеру немалого труда стоило убедить информантов в своем добром намерении использовать интервью для строго научных целей;
в-третьих, как результат этого, некоторые интервьюируемые решили, что идет проверка их русского языка и поэтому хотели доказать интервьюеру, что они говорят по-русски чисто, их русский свободен от интерференции и, напротив, другие информанты пытались «понравиться» интервьюеру весьма необычным образом – использовать в своей речи англицизмы каким-то намеренно-искусственным изощренным способом [Andrews 1999: 60–61]. Понятно, что язык эмиграции не может замыкаться только на устноречевых продуктах. Итак, критика интервью как надежного социолингвистического инструментария основывается или на отсутствии естественности речевого поведения информанта в случае повышенных эмоционально-психических реакций индивида, или на его подсознательной, недекларируемой и не демонстрируемой исследователю лингвоповеденческой самоцензуре, в свою очередь приводящей к осознанным и неосознанным искажениям информации. Справедливо признает такую возможность автоцензуры («Вполне допускаю, что мои информанты с родными и близкими друзьями говорили бы несколько иначе» [Земская 2004: 411]) и Е. А. Земская, делая на это некоторую скидку,[12] смягчает недостатки метода интервьюирования заменой термина интервью более нейтральным словом беседа, терминологизируя его для решения своих исследовательских целей: «[м]ои разговоры с информантами никогда не имели характера интервью. […]…[Н]аши беседы [везде выделено мной. – А. З.] имели дружеский, откровенный характер» [она же: 411]. Нужны и другие инструменты, методы сбора эмпирического материала и методики его исследования.
Можно ли утверждать, что у эмигрантов первой волны «такой же» разговорный язык, как у русских, проживавших в СССР/России? Это спорный, дискуссионный момент исследования языка эмиграции. Так, исходной точкой отсчета и при сборе материала, и при анализе полученных данных для Е. А. Земской являлась устноразговорная речь («магнитофонные и ручные записи»). Вывод этого исследователя таков: инновации, зафиксированные в эмигрантском узусе, «типичны и для российского русского языка (РЯ), т. е. репрезентируют различие между разговорным русским языком и книжным [выделено мной. – А. З.] русским языком» [Земская 2004: 411]. Этот вывод Е. А. Земской оспаривается, например, О. А. Лаптевой, полагающей, что в устной эмигрантской речи явственна «ориентация на литературность. […] Это приводит к практическому отсутствию различий [выделено мной. – А. З.] между устными и письменными языковыми средствами – потому что и те, и другие в речи такого типа являются общелитературными, свойственными и устной, и письменной речи одновременно» [Лаптева 1996: 141]. Причину этого О. А. Лаптева видит в слабой дифференцированности устной и письменной форм в начале XX в., строящихся на базе общелитературных черт и характеризующихся доминированием унифицирующих тенденций над дифференцирующими. Она считает, что разговорная речь как одна из коммуникативных форм русского литературного языка приобрела специфические черты позднее, уже после отъезда из страны эмигрантов первой волны, и ее обособление было обусловлено складывавшимся в 1920–1930-е гг. «партийно-производственным воляпюком» [там же: 141]. Действительно, в эмигрантском узусе отсутствуют многие лексические, грамматические, словообразовательные новшества, вошедшие и в русский литературный, и в разговорный язык после 1917 г. и представляющие, по сути, элементы партийно-политического (под)стиля. Эмигранты чутко (точнее – болезненно-иронически) реагировали на такие советские языковые новации, именно они часто и служили основной причиной именования русского советского языка «блатным жаргоном», но не в собственно терминологическом значении, а скорее с целью обобщенно-квалифицирующей характеристики «новояза». Эмигранты скорее подразумевали под «жаргоном» проникшее в письменный и устный советский язык большое количество жаргонных лексических элементов (в первую очередь тюремных, партийно-групповых, военно-профессиональных). Эмигрантская как устная, так и письменная речь характеризовалась если не полным отсутствием таких публицистических штампов, элементов официально-делового стиля, то их гораздо меньшим «удельным весом» в языковой ткани эмигранта, в сравнении с речевой практикой среднестатистического советского человека.
Одним из важных теоретико-практических вопросов является использование в работах по эмигрантологии словосочетания эмигрантский язык. Очевидно, как термин он едва ли правомерен по отношению к русскому языку вне метрополии, поскольку не имеет отличительных качеств, изолирующих его от русского языка метрополии, в отличие, например, от украинского эмигрантского языка в США и Канаде, обладающего значительными отличиями от материкового украинского. В настоящее время украинский эмигрантский (наряду с польским и английским американским языками [Press 1999]) оказывает существенное влияние в области лексических заимствований, орфографической и орфоэпической кодификации на язык в Украине. Это влияние гораздо мощнее, чем в ситуации «русский эмигрантский» – «русский материковый», хотя и высказываются предположения о влиянии первого на второй [Andrews 1999; Осипова 2001]. В случае с украинским это связано, конечно, с экстралингвистическими причинами: становлением новой украинской государственности, построением национального идентитета, попыткой «освободиться» от русизмов (и на лексическом, и на грамматическом уровнях). Справедливо утверждение Н. Б. Мечковской: «Среди языков Славии русский язык характеризуется максимальной лингвогеографической однородностью» [Мечковская 2004: 245]; говорить о русском эмигрантском языке можно только в известном обобщенном и нестрого терминированном смысле. Хотя раздаются голоса, предлагающие выделять, в частности, русский американский как самостоятельный вариант русского языка на основе интонационного рисунка речи русских в Америке,[13] однако только этот, интонологический, критерий явно не может быть необходимым и достаточным основанием для постулирования эмигрантского языка как особой разновидности, или идиомы, обособившейся от русского «стволового языка» (Stammsprache). Использование словосочетания эмигрантский язык в качестве термина непригодно по той причине, что нельзя утверждать гомогенность речевых практик эмигрантов: невозможно вычленить среди региональных вариантов русского языка какой-либо центральный, ведущий или сконструировать некий эмигрантский стандарт. Если же вести речь о языковом континууме, то скорее всего, по мнению Н. Б. Мечковской, следует говорить о «миллионах идиолектов» [Мечковская 2004: 248]. «Заграничного» особого русского языка просто не существует» [она же: 249]. К этим же выводам раньше пришла и Е. А. Земская [Земская 2004: 411]. Употребление словосочетания эмигрантский язык, эмигрантский узус в работах по эмигрантологии оправдано в узком смысле: как стремление исследователей сформулировать и поместить в известные рамки объект изучения. Хотя некоторые звенья фонетического, лексического, грамматического яруса в эмиграции могут претерпевать трансформации (это хорошо показано как на материале устных записей, так и письменных текстов), тем не менее у нас нет оснований квалифицировать появившиеся в эмигрантском узусе речевые черты, либо вызванные влиянием иностранных языков, либо законсервированные из дореволюционного речевого узуса, как некий монолит, как совокупность речевых реализаций, формирующих особую подсистему русского литературного языка в его разговорной и письменной формах. Все эти эмигрантские речевые модификации, диапазон которых варьируется от высокопарной архаичности до макаронической смеси «французского с нижегородским», все-таки не выпадают из рамок полифункционального, стилистически дифференцированного русского материкового языка. Итак, узкой трактовки терминов эмигрантский язык, эмигрантский узус мы придерживаемся и в нашей работе.
3.1. Оценки языковой компетенции эмигрантов
Полярность оценок языковой компетенции эмигрантов в терминах разрушения, умирания или, напротив, новаций, аккомодаций уже давно существуют в литературе по эмигрантологии. Так, один из первых исследователей жизни русских в США в книге, выпущенной еще в 1918 г., удивленно-скептически отмечал, что русской прессе, даже самой качественной, не удается избежать следов разрушения, не удается сохранить чистоту русского языка, находящегося в иноязычном окружении [Вильчур 1918: 71 – цит. по: Andrews 1999: 151]. Такое признание нелингвиста основывалось на элементарной, присущей «наивному» говорящему языковой рефлексии. Однако и основательные работы лингвиста М. Полинской, выполненные на базе материала речи русских в Америке (преимущественно третьей и четвертой волн эмиграции), среди основных выводов содержат утверждение о явных признаках быстрой деградации, коррозии русского [Polinsky 1998; 2000]; против такой исследовательской интенции и намерения видеть в языковых ошибках (вызванных пиджинизацией) и затруднениях в поисках слов, трудностях построения фразы в процессе порождения спонтанных высказываний возражают, например, Е. А. Земская и Д. Эндрюс. Эти (и многие другие) исследователи предпочитают говорить о функционировании русского языка в зарубежье не в терминах «умирания, истощения, разрушения», а в категориях трансформации, аккомодации [ЯРЗ 2001] и прогностики, называя русскую эмигрантскую речь даже авангардом будущих изменений в русском языке метрополии [Andrews 1999: 106, 160; Гловинская 2001; Осипова 2002]. Если и можно говорить об умирании русского языка вне метрополии, то в ограниченных сферах – прежде всего в бытовом использовании письменных навыков [Земская 1999]. Напротив, в зарубежной журнально-книжной продукции (от первой до четвертой волн) упадка или даже признаков деградации русского языка не наблюдается [РЯЗ 2001; Протасова 2004]. Ошибки, вызванные смешением языков или ориентацией на инокультурные реалии, действительно встречаются в зарубежной прессе и, аккумулированные исследователем, могут создавать впечатление испорченного русского, но число языковых погрешностей, неточностей едва ли превосходит подобные случаи в публицистическом языке метрополии.
Умирание языка совсем не то же, что его консервация или замедление темпов развития, когда данными терминами чаще всего, с позиций сегодняшнего дня, характеризуют язык первой волны. С одной стороны, русский язык зарубежья находился под языковым «микроскопом» всех волн эмиграции. Эмигрантами первой волны свой язык ни в коей мере не характеризовался в терминах умирания, хотя они сами справедливо подшучивали над речевой практикой некоторых русских (ср., например, рассказы Тэффи). Первая волна (в подавляющем большинстве) сохраняла убеждение в преимуществе русского эмигрантского языка над «советским», именно последний рассматривая в категориях «порчи», сравнивая его с «блатным жаргоном», видя в нем «языковые уродства». У эмигрантов третьей и четвертой волн наблюдалось уже гораздо более позитивное отношение к языку первой волны, первоначальная ирония над старомодностью языка довольно быстро сменялась уважением и даже несколько экзальтированным преклонением. Вот два свидетельства: Г. Покрасс, покинувший СССР в 1975 г. (третья волна) и работавший в русской службе «Би-би-си», вспоминает: «Почти все старые эмигранты имели глубокие убеждения, хотя некоторые подзабыли, откуда они или их родители в свое время бежали. Мы, “молодые” эмигранты, посмеивались над их языком. Наиболее наглые из нас со страдальческим видом заменяли их старомодные фразы убогим советским канцеляритом. Что только не неслось в эфир! “В силу слабости режима”, “больше лучше”, “извивающаяся политика”, “закон о запрете незаконных организаций”…» [Моск. новости. 1998. № 29. 18 авг.]. Живущая в Германии поэтесса О. Бешенковская восторгается «тютчевским» языком первой волны, противопоставляя его советскому воляпюку: «первая эмиграция в своих семьях сохранила язык именно Льва Толстого и Тургенева, т. е. их не коснулся советский новояз. […] [Я]…познакомилась с этими удивительными, несгибаемыми стариками, которые говорят на изумительно чистом, я бы сказала – тютчевском языке» [Рус. Германия. 2001. № 47. 23 нояб.].
3.2. Язык зарубежной прессы
Смена ведущего, приоритетного инструмента, влияющего на формирование общественных настроений на рубеже XIX–XX вв. (в XIX в. – художественная литература, с первых десятилетий XX в. – публицистика), по мнению П. Н. Денисова, сопровождалась формированием нового подстиля в уже сложившемся публицистическом стилевом регистре: «к концу XIX в. и, тем более, в первой четверти XX в. в России разыгрались такие политические бури, что политика и публицистика выдвинулись на первый план среди форм общественного сознания и словесности. Сложилась новая функциональная разновидность русского литературного языка: язык общественной мысли, публицистический стиль, “язык газеты”» [Денисов 1998: 126]. Именно язык газеты быстрее всего реагировал на динамику социально-политических, экономических, религиозных, духовных инноваций в жизни России, выступая своеобразным нейтрализующим звеном между «высокой» литературой (и языком художественной литературы) и «низким» (демократическим языком города, городским койне). Это качество газетного языка дает основание П. Н. Денисову называть формирующиеся лингвистические стандарты газеты «низовым вариантом языка общественной мысли» [Денисов 1998: 9].
Газетно-журнальный (под)стиль выполнял двоякую функцию:
1) служил рупором идеологий, средством передачи политико-экономических, социальных ценностей (и соответствующего лексикона) в массовую аудиторию;
2) являлся интеллектуально-языковым полигоном в процессе адаптации новых понятий в обществе, внедряя новые понятия в обыденное, массовое сознание.
Именно с последним обстоятельством связано то повышенное социолингвистическое и политическое внимание в Советской России в первые послереволюционные годы к изучению лексико-стилистического состава советской газеты, когда разрушались старые каноны и создавались новые экспрессивно-стилистические языковые стандарты (в этой связи см., например, одну из первых работ: [Шафир 1924, 1927; Гус & al. 1926]; критику последней работы см. в: [Винокур 1929]. Основной эмпирический базис известной работы А. М. Селищева [Селищев 1928] также основан на газетных выписках, выступающих регистраторами языковых новаций советской эпохи). Этот интерес к советскому языку (и в газетно-журнальной разновидности в том числе) определялся его прецедентным характером, закладывавшим основы нового стиля и вообще новой риторической и публицистической культуры [Романенко 2002]. Американский исследователь М. Горэм, изучавший языковую ситуацию 1920–1930-х гг. в СССР, выделяет 4 языковые модели, стихии (voice «голос», в его терминологии), которые складывались и доминировали в ту эпоху: 1) революционная (revolutionary); 2) обиходная (popular); 3) (просто)народная (national); 4) партийно-государственная (party-state) [Gorham 2003]. «Обязательным условием всякой власти является ее выражение в языке, а политика есть не что иное, как кодифицированные знаки, развертываемые при помощи акта высказывания в социально-семиотическом процессе. […] Всякая власть создает свою речевую практику, которая стремится утвердить себя в качестве универсальной, истинной и справедливой и тем самым ставит другие речевые практики в подчиненное положение» [Лассан 1995: 16]. Действительно, в послереволюционную эпоху язык становится и объектом, и инструментом манипулирования и контроля, способным оказывать влияние на мышление, мировоззрение людей, поскольку язык позволяет и помогает переформулировать старые категории и понятия, он стереотипизирует публично-личностное поведение в соответствии с социальными, политическими, моральными нормами. Язык как средство передачи информации, с одной стороны, и как средство формирования концептуальной картины мира, с другой, является объектом пристального внимания представителей той идеологии, которая стоит у власти. Активизируя прагматическую (воздействующую) функцию, власть распространяет идеологию на все сферы общественной, культурной, частной жизни.
В отличие от публицистического стиля советских газет, к середине 30-х гг. выработавшего практически универсальный для каждого издания набор структурирующих компонентов, репертуар стилевых черт в эмигрантской прессе значительно варьировался в зависимости от многих факторов:
• ориентация на дореволюционные стилистические каноны и/или зарубежные (национально-региональные);
• поиск стилеобразующих особенностей, служащих для ведения острой полемики с другими печатными эмигрантскими органами;
• многопартийность эмигрантского политического поля;
• языковая дифференцированность газет, определяемая интеллектульно-образовательными критериями потенциального круга читателей.
Трудность исследования заключается и в том, что в современной русистике, как ни парадоксальным покажется такое утверждение на первый взгляд, отсутствуют обобщающие и систематизирующие работы по языку небольшевистской публицистики начала XX в.,[14] не говоря уже об исследованиях языка эмигрантского публицистического стиля. Внимание чаще приковано к устному языку, языку художественной литературы, локальным, замкнутым социолектам (молокане, старообрядцы). Таким образом, в необходимой для полноценного описания публицистического языка триаде: русский дореволюционный язык газет – язык газет советской поры – язык эмигрантской прессы отсутствует два крайних члена, что существенно снижает наши знания о реальном функционировании русской языковой системы в сфере массовой коммуникации в первой половине XX в. в его основном, магистральном русле – газетно-журнальном. Хотя сопоставительный анализ русской эмигрантской с дореволюционной и советской прессой не является целью нашего исследования, но тем не менее обращение к ним составляет важный и необходимый фон для наблюдений над языковой практикой эмигрантских газет.
Отбор и хронологическое ограничение газетного материала определялись экстралингвистическими факторами: 1919 г., нижняя граница, – это начало массовой эмиграции из Советской России, организация печатных органов за рубежом с целью критики большевистского строя; 1939 г., верхняя граница, – это практически завершение первой волны эмиграции и подведение определенной черты в эмигрантской прессе. На протяжении двух десятилетий эмиграция (включая различные оттенки политической палитры) строила за рубежом Россию вне России, политически, идеологически дифференцированное сообщество, именно сообщество, объединяющим, консолидирующим компонентом которого являлась идейная, по сути, основа – осознание своей культурной миссии, роли в сохранении России и ее посильная реализация. Огромная по численности русская диаспора, озабоченная проблемами не только и не столько физического, психического выживания, но и генерирования новых идей, воспроизводства культурных ценностей, создавала и создала свой неповторимый мир. Начало Второй мировой войны оказало значительное, во многом деморализующее, влияние на эмигрантов. Особенно это отразилось на эмигрантской массе в Германии после прихода к власти Гитлера; эмигранты, ранее видевшие в этой стране своего защитника, покровителя и, главное, будущий ударный авангард для борьбы с большевизмом, после заключения сепаратного мира между Германией и СССР (пакт Молотова – Риббентропа), находились почти в шоковом состоянии. В течение 1940-х гг. в Германию сотнями тысяч стали прибывать перемещенные лица, т. е. военнопленные с Балкан, из Восточной Европы или люди, использовавшие гитлеровскую оккупацию как возможность бежать от советского режима. Эта категория иммигрантов оказалась за границей уже совсем по другим причинам, чем эмигранты первой волны, у них уже не было прежней объединяющей идеи – воссоздания России за рубежом, они не декларировали каких-либо культурных, политических концепций; в подавляющем большинстве они искали мира, покоя, безопасности. Кроме того, молодое поколение эмигрантов, вышедшее на культурную и политическую арену, но выросшее, а также идейно, духовно, психически сформировавшееся уже за границей в значительной мере оказалось интегрированным в жизнь приютивших стран, оно уже утратило прежний заряд «стариков» – непременного возвращения на родину. Смена жизненных приоритетов и установок в конце 1930-х – 1940-е гг. в русской диаспоре оказалась очевидной, что серьезно подорвало если не монолитность, то духовную сплоченность, основанную на общей оппозиционности советскому режиму, старшей эмиграции; русская диаспора раскололась, стала более индивидуализированной, многополюсной, полицентричной. Вследствие этого периодом существования России за рубежом, т. е. «общества в изгнании», принято считать 1919–1939 гг. [Раев 1994: 16–17; ПРЗ 1999: 4]. Печатные органы именно в конце 1930-х гг. оказались перед трудным политическим, идейным, моральным выбором: принять сторону германского фашизма, желая поражения Советской России, или встать на сторону сталинского СССР. Некоторые предпочли первый вариант, большинство – второй. Изменение отношения к войне с СССР существенно отразилось и на языке, прагматических оценках эмигрантской прессы. Эти экстралингвистические обстоятельства и мотивировали выбор хронологических рамок газетных материалов, взятых для изучения.
3.3. Лингвокультурный шок
Тот факт, что эмиграция – это культурный, языковой шок для человека, осознавался и признавался уже самыми первыми беженцами (среди языковедов следует упомянуть С. И. Карцевского, прямо использовавшего эту дефиницию для характеристики психологического состояния эмигранта [Карцевский 2000]. В последующем изучении языка эмиграции (независимо от типа и качества «волн») языковой стресс признается одним из факторов, обусловливающих появление некоторых речевых черт как на уровне отдельной эмигрантской личности, так и эмигрантского сообщества. Так, стресс как нарушение привычного для индивида образа жизни, как выведение его из культурно заданных и/или автоматизированных норм и стереотипов поведения (включая и языковые), выступает одним из нелингвистических (точнее – психолингвистических) мотивов, объясняющих появление инноваций на более «незащищенных» речевых участках, т. е. таких сферах языка, которые подвержены изменениям в настоящем или предрасположены, потенциально готовы к трансформациям. Эту теорию речевых ошибок на «слабых» участках языка в течение ряда лет развивает М. Я. Гловинская как применительно к речевой практике метрополии, так и эмиграции. «Почему язык эмиграции имеет опережающий характер? В литературе обращалось внимание на то, что в периоды социальных потрясений в языке фиксируется большее количество инноваций и изменений, чем в спокойные консервативные годы… […] тенденции в такие периоды как бы вырываются наружу. Эмиграция – это психологический, социальный, языковой и культурный шок. При шоке стихийное начало может брать верх над управляемым, консервативным» [Гловинская 2001: 57, сноска 10]. Этот же посыл акцентируется в [Andrews 1999], где рассматриваются языковые особенности эмигрантов третьей волны (в США): эмигранты, воспитанные при социализме и оказавшиеся там, испытали не только социокультурный шок при соприкосновении с реальностью (многие думали, например, что безработица в США – это один из элементов советской пропаганды), но и языковой.
Процессы культурно-психического приспособления, или аккультурации (acculturation), особенно активно изучаются в англоамериканской школе психологии в последние 25–30 лет, и библиография по этой теме весьма обширна [Acculturation 1980; Smither 1982; Куэва-Харамильо 1985; Gans 1994; Билз 1997; Faist 2000 и др.]. Как ответвление социоэтнических штудий появились работы и по языковой аккультурации [Haarmann 1987; Пфандль 1994; Noels et al. 1996]. В настоящее время практически общепризнанными являются следующие типы поведения (аккультурации) эмигрантов:
• антиассимилятивное (нежелание, по разным причинам: культурным, религиозным, социальным, интегрироваться в новые условия проживания, поддержание на высоком уровне своей национально-этнической и культурной идентичности);
• ассимилятивное (стремление к быстрой аккультурации, быстрое внедрение индивида в культурные, производственные, научные и др. микроколлективы и целенаправленное растворение в жизни новой страны проживания);
• бикультурное (стремление сохранить старые традиции, обычаи, язык с одновременным позитивным отношением к чужой культуре, быту, социальным связям людей и т. п.; осознанием себя как «другого» или, вернее, «иного», в инокультурном пространстве).
Все эти модели аккультурации свойственны и русским эмигрантам первой волны: одни из них не хотели и не допускали возможности адаптации или тем более растворения в новом культурно-этническом окружении. Другие стремились максимально быстро освоиться в новой обстановке, закрепиться на новом месте проживания, активно обзаводились, обрастали различными связями (деловыми, культурными, социальными, семейными) в новом сообществе. Третьи пытались сохранить своеобразный паритет между своим прошлым (российским) и настоящим (зарубежным) опытом, проявляя при этом собственную психоментальную гибкость и демонстрируя толерантность к чужому образу жизни. Разумеется, эти три модели на протяжении многих лет эмиграции находились в динамическом неравновесии: если в первые годы беженства многие рассматривали свое зарубежное пребывание как кратковременный этап на пути возвращения в освобожденную от большевиков Россию («жили на чемоданах»), то с годами, отодвигавшими надежды на возвращение домой и укоренявшими эмигрантов в новой жизни, все более начинают распространяться второй и третий типы: ассимилятивный и бикультурный (в эмигрантской терминологии противников ассимиляции, или традиционалистов, – «денационализация»).
В процессе осознания индивидом своего места в окружающем инокультурном пространстве, а также в системе межличностных отношений с другими беженцами важную роль играла саморефлексия: кто я? какова моя национальная (этническая) идентичность? Кроме того, эмигранту нужно было понять причины бегства из страны (России); определить и корректировать хронологические границы своего возможного пребывания за рубежом; решить вопрос: поддерживать или прерывать родственные связи с родственниками в советской России; выработать свое отношение к новому социальному строю на своей родине и мн. др. Язык в этом конгломерате вопросов занимает одну из важнейших позиций, так как самоидентификация индивида во многом строится и на языковой компетенции, на лингворецептивных особенностях (легко или трудно дается индивиду изучение другого языка/других языков), количестве языков, которыми он владеет, и др.
В эмигрантологии устойчиво выделяется два наиболее ярких конститутивных критерия, формирующих «русскость» эмигрантов: религия и язык [ЯРЗ 2001: 9]; по сути, основополагающее значение этих атрибутов подчеркивается и самими эмигрантами первой волны или их потомками. Ср. характерное признание князя Б. Голицына, родившегося уже во Франции: «Мой отец всегда говорил, что русской эмиграции нет, есть эмигранты, и у нас даже ходила такая шутка: когда в Париж попадают двое русских, они открывают три церкви и пять политических партий. Политику оставим в стороне, а вот религия, да еще в какой-то степени язык остались, пожалуй, единственными чертами «русскости» наследников первой волны эмиграции» [Сегодня. 1996. № 68. 20 апр.; курсив мой. – А. З.]. Ясно, что религиозные каноны и традиции можно без ущерба соблюдать и поддерживать и на иностранном языке (примеров тому множество), но вот сохранение языка требует от индивида намного больше интенсивных психических, моральных, интеллектуальных усилий и затрат. К анализу собственно языковых особенностей эмигрантской прессы мы и приступаем.
Глава 1
Графика. Орфография
Общие замечания
В дополнение к идеологической конфронтации людей после октябрьской революции 1917 г. законодательно принятый большевиками «Декрет о введении новой орфографии» (от 10 октября 1918 г.) еще более углубил разрыв между советским государством и беженцами. Изменение орфографических правил лично затрагивало каждого человека. О пристрастном отношении к орфографической реформе сразу после ее официального введения, даже еще до начала массовой эмиграции, красноречиво свидетельствует фрагмент письма (написанного в 1918 г.) поэта С. Боброва, отметившего социокультурную спаянность в общественном сознании орфографии и политики: «Когда я получил от [Б. Зайцева] первое письмо, меня поразило, что оно было написано по старой орфографии (и это был еще один пример неприятия Зайцевым советских реформ ни в каком виде)» (Русская мысль. 1997. 10 июля). Субъективно-художественное восприятие орфографических знаков проявляется и в утверждении А. Блока: слово «хлеб» без Ъ не пахнет. Чуткие к слову поэты не считали букву Ъ опустошенным фонологическим знаком, справедливо считая его необходимым в местах скопления согласных, например на стыке слов, «нуждающихся в опоре немой полугласной буквы, коей принадлежит некая фонетическая значимость» [Вяч. Иванов. Собрание сочинений. Брюссель, 1987. С. 689 – цит. по: Грановская 2005: 39].
Миллионы эмигрировавших из советской России людей не принимали орфографических новшеств, рассматривая их в русле большевистских (коммунистических) реформ, ведущих, по мнению многих эмигрантов, к прерыванию исторической, культурной преемственности между старой и новой Россией. Орфография – один из базовых компонентов культурного пространства, дающих индивиду ощущение социальной и психологической стабильности и чувство языкового комфорта. Смена орфографического кода («орфографических одежд», по Е. А. Земской) может болезненно и напряженно восприниматься частью общества вплоть до полного отрицания новой орфографии или ее элементов. Некоторые эмигранты и эмигрантские группы и по сей день не принимают новой орфографии, продолжая использовать в личной эпистолярной практике или в печатной книжной и газетной продукции старую, дореволюционную [Григорьева 1998; ЯРЗ 2001: 154; Грановская 2005: 266–274]. Причины этого могут быть различные:
• идеологические (неприятие всего советского, в том числе и орфографии),
• культурные (сохранение вековой преемственности),
• эстетические («уродство» новой орфографии и «красота» старой),
• локально-семейные (передача письменных навыков от поколения к поколению, основанная на привычке).
Одним из важнейших мотивов, определяющих неприятие многими эмигрантами советских газет, журналов, книг, которые были доступны на Западе в 20-е гг. ввиду своей дешевизны, было орфографическое нововведение большевиков, психологически болезненное, даже оскорбительное, с точки зрения многих беженцев: в напечатанных по новой орфографии текстах слово Бог писалось со строчной (маленькой) буквы [Раев 1994: 104; Грановская 2005: 424, сноска 76].
В 20-е гг. в эмигрантских кругах предпринимались попытки выработать более трезвое, лишенное идеологической подоплеки отношение к новой орфографии не как к «изобретению» и «орфографическому злодеянию» большевиков, но как к закономерной смене орфографических норм более новыми, облегченными, отвечающими современному состоянию орфографических требований, однако не покушающимися на уничтожение русского языка [Григорьева 1998; Грановская 2005: 271–272]. Наиболее легко приняли новую орфографию «левые» и демократические издания. Кроме них, писатели, сторонники сменовеховства и евразийства, также перешли на новую орфографию, рассматривая ее в качестве культурного инструмента по сближению Запада и Азии, евроазиатской России и западного мира. Однако охранительные, монархические, народно-патриотические печатные органы цепко держались за старую орфографию, во-первых, рассматривая ее в качестве связующего «мостика» между старой Россией и эмигрантской массой как хранительницей старины и вековых традиций, и, во-вторых, считая сохранение старой орфографии своим долгом перед «порабощенной большевиками» родиной. Справедливости ради надо сказать, что использование элементов новой орфографии проникало и в письменную практику высших, аристократических слоев. В письме В. Н. Буниной (жены И. Бунина), адресованной М. Цетлиной,[15] есть знаменательное признание: «Иногда приходится писать и по новой орфографии, так как теперь даже сама Екатерина Дмитриевна Кускова[16] написала Яну[17] письмо без “ять”, твердого знака и с другими кощунствами. Теперь меня мало что утешает» (Русская мысль. 1997. 22 мая). И сам И. Бунин не принимал новую орфографию и требовал издавать свои произведения, выходившие, например, в Германии, только по старой. Стоит упомянуть и публицистический памфлет Бунина «О новой орфографии».
1. Влияние иноязычной фонетики на русскую графику. Заимствованные слова
Оказавшись в иноязычном окружении, особенно в европейско-американском ареале, эмигранты столкнулись со словами, которые или уже давно были заимствованы русским языком, но утратили «привкус» иноязычности, или с новыми обозначениями, которые требовали написания их кириллическими буквами. Как же иноязычная языковая материя влияла на графический облик слов? Отметим наиболее открытые, подверженные такому воздействию зоны.
Говоря об особенностях произношения заимствованных слов эмигрантами первой волны, Е. А. Земская выделяет эту проблематику в «особый раздел», поскольку характерная черта фонетики таких слов – это произношение их по фонетическим законам языка-реципиента [ЯРЗ 2001: 83]. Устные нормы произношения в эмиграции могут оказывать более сильное влияние на письменные формы фиксации текста (речи), в отличие, например, от аналогичного соотношения письменной и устной форм языка метрополии: письменные формы здесь более консервативны, охраняются обществом и подвергаются процессам кодификации. Эмигрантский узус (речевой и письменный) этого (почти) лишен. В речи эмигрантов наиболее остро проявляется противоборство фонетического и орфоэпического принципа произнесения иностранных слов, в письменной же практике часто видна победа первого над вторым. Возможно двоякое понимание фонетического принципа в зависимости от точки отсчета.
1. Фонетическое произношение иностранного слова может ориентироваться на прототипическое произношение в источнике (языке-доноре), и в этом случае происходит перенос (трансплантация) иноязычных фонетических особенностей в принимающий язык (язык-реципиент).
2. С позиций языка-реципиента фонетический принцип означает ориентацию на те фонетические законы, традиции, которые уже сложились в языке и которые подчиняют, адаптируют иноязычные слова без оглядки на их письменную форму [Тимофеева 1995: 65–66].
1.1. э или е?
Одной из наиболее ярких особенностей эмигрантских газет является выбор буквы э вместо е при написании иноязычных слов: в начале, в середине и в конце слов. Мена е/э – это чаще всего отражение именно фонетического принципа письма («пишу, как слышу и говорю») в письменной практике двуязычных индивидов, постоянно вынужденных переходить с одной системы записи на другую (письма, записки, дневники, сообщения по интернету); многочисленные примеры этого у лиц, живущих в Финляндии, см. в: [Протасова 2004: 223]. Примечательно, однако, что Е. А. Земская, характеризуя процессы, протекающие в письменной форме языка эмиграции (от первой до последней волн), не отмечает данного феномена [ЯРЗ 2001: 159–163].
Как известно, буква э вошла в русскую гражданскую азбуку в XVIII в. для обозначения «действительно существующего в языке чистого звука E» [Грот 1912: 77; см. также: Максимова 1964: 33], однако «различение произношения согласного звука при помощи последующих букв е и э не является последовательным» [Орфография 1980: 28]. В принципе, Я. К. Грот предлагал оставить э только в собственных именах, в нарицательных же, по его мнению, «употребление э вместо е неуместно» [Грот 1912: 78].
В начальной позиции слова в нашем материале встретилось три слова с э: Эврипид, Эстония = Естония, Эйрлайнс. Очевидна, с одной стороны, ориентация на произнесение начального письменного е в иноязычных слова как э (написание Естония – это смешение двух систем письма, латинской и кириллической), с другой – верная передача английского графического буквосочетания ai как эй в слове Эйрлайнс. Отсутствие четкой, кодифицированной системы передачи имен видно, в частности, в двух следующих примерах: написание имени английского короля (Едуард), но в то же время и привычное Эдгар Коль.
…король (Англии) Едуард 8[18] (Рус. газета. 1937. № 1).
В середине слова написание буквы э в основном определялось попыткой передать английскую фонетику. Письменные эмигрантские тексты отразили следующие варианты.
а) Английский звук [] чаще всего передавался русским э и (в единичных случаях) как а; эти случаи таковы: Мангаттан < Manhattan, Кливланд < Cliveland (т. е. в основном при транслитерации топонимов).
В середине слова зафиксированы следующие случаи написания э:
* В СУ: спортсмен.
** В СУ: скетч (кэ).
*** В СУ: леди и лэди.
Как можно видеть, написание э между твердыми согласными было самой сильной позицией для отражения иноязычной фонетики на письме. Написание слов спроэцированный, проэкт, законопроэкт можно объяснить еще их дореволюционной орфографией. Вариативность рэкеттер и ракитир, гэнгстер и гангстер показывает разные способы освоения иноязычного слова (ориентация на фонетику и/или письменную форму). Однако особенно выразительна средняя часть таблицы: она показывает действие закона аналогии: э пишется даже перед мягким согласным, причем в том случае, когда такое произношение по нормам русской литературной фонетики и орфографии невозможно – после мягкого непарного звука [ч’]. Сюда же относится написание бреэкфест (< breakfast), где встречается невозможное для русской фонетики и графики скопление букв е и э: пишущий произвольно расчленил английский дифтонг ea на две буквы и пытается их передать кириллицей: е англ. е, э англ. а (попытка фонетической передачи, но по законам английской фонетики комбинацию ea надо читать как монофтонг [е]). Таким образом, фонетический (фонематический, согласно ленинградскопетербургской фонологической школе) принцип письма в орфографической практике эмигрантов оказывается предпочтительнее орфографического, слогового. Эмигрантская орфографическая практика идет вразрез с орфографической практикой языка метрополии, для которого расхождение между написанием е, но произношением э (дельта [дэ], пенсне [нэ], фонема [нэ]) признается «временным нарушением слогового принципа русской графики» [Моисеев 1980: 225]. А. И. Моисеев метафорически характеризует написание с е «авансом» [там же: 226] будущему, русифицированному, прогрессивному произношению. Как мы видим, эмигрантская практика такого «аванса» фонетике слова не дает.
б) Английское дифтонгическое сочетание ai в середине слова передается русскими э/е/эй: Дэйли Мэйл и Дэли Мэль/Мель.
Написание э в конце иностранных слов вызвано прежде всего влиянием французского языка, причем часто происходила субституция прежней буквы е «новой» буквой э даже в некоторых «старых» словах, заимствованных еще в конце XIX – начале XX вв. В нашем корпусе достаточно много примеров слов с буквой э, которая передает следующие французские звукобуквенные комбинации: атташэ (attach), кафэ (caf), турнэ (tourne), кабарэ (cabaret), кашнэ (cachenez), ламэ (lam), супэ (souper); купэ (coup), декольтэ (dcollet), коммюникэ (comminiqu), тэдансан (th dansant – «вечеринка с танцами»), экспозэ (expos – «отчет, доклад»).[19] Единичное заимствование (из английского через французский), кончающееся на ey: жерзэ (jersey – «джерси, трикотаж»); в языке метрополии – жерсе.
В углу купэ, у окна, он [матрос] вытянул ноги, с облегчением вздохнул и впервые, как свободный человек, закурил папиросу (Возрождение. 1937. 3 апр. № 4072).
Выйдя из больницы, она [речь идет об авантюристке Анно. – А. З.] отправилась в ближайшее кафэ и вызвала по телефону своего адвоката (Руль. 1930. 25 марта. № 2836).
Черное пальто, отделанное барашком, теперь не выглядит мрачно и даже несколько траурно, как это было раньше, потому что вокруг шеи всегда повязан хотя бы маленький шарф из простроченного ламэ или из шелка самых неожиданных ярких тонов, например, фиолетового с красным, зеленого с оранжевым (Возрождение. 1935. 1 янв. № 3499).
Золото на черном – очень красивое и эффектное сочетание, и иногда вся отделка заключается в золотых ювелирных украшениях: булавка на шляпе, крупных «клипс» у декольтэ (Возрождение. 1935. 1 янв. № 3499).
Совещание исполнительного комитета углекопов [Англии] не опубликовало никакого оффициального [sic] коммюникэ (Дни. 1926. 19 нояб. № 1163).
…решено обождать окончания прений в сейме по поводу экспозе Падеревского (Призыв. 1919. 4 (21.12) дек. № 135).
Несомненно, эти примеры свидетельствуют о стремлении эмигрантов сблизить иноязычную фонетику и русскую орфографию, ориентируясь на фонематический принцип передачи иностранных слов.
1.2. Вариативность г/х
Отражение на письме европейского гортанного звука [h] представляет трудность в русской орфографии: передавать этот звук буквой г, х или изобрести для этих целей специальную графему, поскольку в русской графике нет соответствующих графемных средств? Проблема, конечно, остается и сейчас, и вариантов ее решения в русской орфографической истории было предложено достаточно. Например, у русскоязычных, живущих в Финляндии, отражение на письме этого согласного вызывает значительные затруднения [Протасова 2004: 222–223]. В нашем корпусе встретилось несколько слов, показывающих языковые колебания пишущего при выборе русской графемы г или х для передачи этого звука. В начале слова гортанный [h] обычно передается русскими буквами х и г с крайне незначительным перевесом в сторону традиционной передачи гортанного [h] буквой г, чаще в именах собственных и их производных: Хитлер – Гитлер, хитлеровский – гитлеровский, холливудский (< англ. Hollywood). В русской орфографической традиции XIX в. более распространенной моделью было написание с буквой г [Грот 1912: 79–80]. Ср.:
Ср., однако, непоследовательную передачу звука [h] русской буквой х в Охайо (< Ohio; штат в США), но того же звука [h] – буквой г в Мангаттан (амер. Manhattan).
…в западной части Мангаттана (Руль. 1930. 25 марта. № 2836).
Итак, письменная передача гортанного звука [h] в эмигрантской прессе показывает противоборство двух сил: с одной стороны, традиции, уходящей в XIX в. (буква г), с другой – влияния на орфографию фонетического критерия (написания с буквой х).
1.3. Другие случаи
Попытки отражения фонетики языка-донора в русской графической (орфографической) системе немногочисленны: немецкое понятие LumpenProletariat передается то как лумпен-пролетариат (следование немецкому графическому прототипу; транслитерационный принцип орфографии), то так люмпен-пролетариат (передача мягким [л’] «среднеевропейского» звука [l]; комбинация транслитерационного принципа с транскрипционным); французское intrieur – рус. энтерьер (попытка передачи буквосочетанием эн носового звука), немецкое понятие Schlpfer («плащ, длинное мужское пальто») передается то как шлюпфер, то как шлипфер.
Эмигрантская публицистика отразила проникновение в орфографию таких написаний, которые были вызваны непосредственным контактированием русского языка с другими. В процессе языкового контактирования усилилось влияние языковдоноров на русский, и, как следствие, обнаружились очевидные тенденции отражения иноязычной фонетики на русской орфографии иностранных слов. Заметен отход от традиционного принципа орфографии иноязычных слов и стремление к более точной передаче фонетики на письме. Наибольшие трансформации затронули две зоны написаний: с буквой э и г/х. В сфере написаний с э сильное влияние оказывали английская (начало и середина слова) и французская (конец слова) фонетика. В сфере написаний г/х вариативность проявлялась прежде всего в передаче нового заимствования из немецкого языка (имя собственное Гитлер и его однокоренные производные).
2. Влияние иноязычной графики на русскую графику
2.1. Магия двойных согласных
Правописание двойных согласных (в лингвистике их еще называют геминатами) в заимствованных словах подчиняется в основном традиции, стихийно сложившимся правилам. Строгих рекомендаций нет, поэтому неудивительно постоянное внимание к этой проблеме в русской орфографической науке. Предлагались самые разные решения, радикальные и компромиссные:
1) отказаться от двойных согласных вообще;
2) следовать иноязычному графическому прототипу;
3) сохранить двойные согласные только в именах собственных [Грот 1912: 85–97; Гловинская 1964; Коляда 1964; Тимофеева 1995].
В написании иноязычных слов с двойными согласными сталкиваются фонетический и традиционный принципы русской орфографии. В целом же орфография таких слов кодифицируется в орфографических словарях.
Вариативность написания иноязычных слов с двойными согласными в эмигрантской прессе была велика, что обусловливалось прежде всего иноязычным окружением, контактным сосуществованием кириллического и латинского алфавитов и влиянием орфографии прототипов на уже (относительно) давно заимствованные слова. Традиционный принцип написания слов с двойными согласными в иностранных словах явно отошел на второй план, в сравнении с фонетическим и орфографическим критериями прототипических слов в языкахреципиентах. Приведем довольно обширный список иноязычных слов с двойными согласными, содержащихся в нашем корпусе примеров, и сопоставим его с написаниями, представленными в [Ромашкевич 1898] и в СУ.
* Обратим внимание, что во французском это слово выступает в форме множественного числа, но в русский было заимствовано в единственном.
** В русском языке коммерция – европейское (французское) заимствование через польский, где оно, как и в русском, – женского рода; во французском же слово – мужского рода.
*** Во французском языке, как и в заимствовавшем это слово немецком, оно – женского рода.
Таблица явственно свидетельствует об отходе от написаний иностранных слов с двойными согласными, рекомендуемых в русских орфографических словарях, например, конца XIX – начала XX в. Графическая форма слов, принятая в орфографической практике той или иной страны проживания русских эмигрантов, несомненно, влияла как на адаптацию новых заимствований, так и на трансформацию написания старых. Особенно сильным было немецкое влияние, в результате побеждавшее графический облик слов, ранее заимствованных из французского (агрегат, жираф, комиссар, лотерея, раса, тиран); французское влияние, судя по нашему корпусу, несколько уступало немецкому: аплодисмент апплодисмент, аранжировка арранжировка, ресурс рессурс, курьерский куррьерский, конкуренция конкурренция. Возможны были и альтернативные варианты написания как ориентация на фонетический и графический критерии:
а) новое заимствование может писаться то в соответствии с графическим принципом – оффис (англ. office), то в соответствии с фонетическим – офис (следование английской фонетике [Ofis]);
б) в зарубежье написание старого заимствования комерция по фонетическому критерию (в XIX в.) оказалось под угрозой прототипической графической формы: фр. commerce, нем. Kommerz, что привело к возникновению непоследовательности: комерция, но коммерческий.
Такой разброс написаний иностранных слов с двойными согласными – это несомненное наличие «слабого звена» в орфографической практике русскоязычной прессы. Оборотной стороной, но в этом смысле и лучшим косвенным подтверждением «слабости» является гиперкорректная орфография иностранных слов, т. е. появление двойных согласных в тех случаях, когда для этого не было никаких оснований даже в прототипе; именно этим мотивом можно объяснить орфографию таких написаний, как каррикатура, филлиал, эллемент. Итак, магия двойных согласных в иностранных словах зачастую превращалась в манию двойных согласных. Нам встретилось только одно иноязычное слово, написанное с отклонением от прототипического: пано < фр. panneau, вследствие, очевидно, особенностей индивидуальной фонетики (орфографии).
2.2. Другие случаи
Кроме этого самого яркого примера (влияние прототипов с двойными согласными), в нашем корпусе есть редкие случаи выравнивания (подравнивания) прежних форм написания к иноязычным графическим формам: шпек – «свиное сало» (нем. Speck) вместо давно освоенного шпик (< польск. szpik), рахат-локум (тур. rahat-lokum, франц. rahat-lo(u)koum) вместо традиционного в русской орфографии рахат-лукум.
Яков Иванович, запивая бессахарным кофе вязкий бутерброд со шпеком и не без труда преодолевая произношение и обороты языколомной немецкой речи, говорил своей жене… (Руль. 1930. 1 янв. № 2766).
3. Кавычки
Писатель, критик, театровед С. М. Волконский, находясь в эмиграции и живо реагируя на проблемы сохранения чистоты русского языка в изгнании, писал о роли кавычек: «Кавычки являются свидетельством, что говорящий […] сохраняет свое критическое отношение к явлению речевому или умственному, которому не дарит своего полного сочувствия. Кавычки, как бы подчеркивающие неодинаковость умственных уровней, несомненно, одно из проявлений культурности [выделено автором цитаты. – А. З.]. Это признак неугасшего в человеке чутья критики и самокритики» [Волконский С. М. Вопросы языка // Звено. Париж, 1927. № 6. С. 323 – цит. по: Грановская 1995: 13]. По сути, здесь Волконский сформулировал одну из функций этого знака – прагматическую, которая действительно являлась, пожалуй, одной из важнейших (среди прочих) в письменном языке эмигрантов. Важнейшей, но не единственной. Публицистические эмигрантские тексты демонстрируют умелое и разнообразное использование этого «орфографического джокера» (по образному выражению Б. А. Успенского) как возможности пишущему продемонстрировать свою оценку, свое лингвистическое «ego» по поводу приятия/отвержения реалии или явления.
Б. С. Шварцкопф, характеризуя этот знак, называет его «многофункциональным»: в синтаксисе он служит для выделения прямой речи, цитат, условных наименований (эти правила предписаны пишущему как нормативные); в лингвопрагматике – как личная сфера оценки письменного слова и стоящего за ним понятия [Шварцкопф 1997: 374]. Мы вкратце коснемся синтаксических правил испльзования этого знака (выделительная и предупредительная функция [Макарова 1969]), но в основном сосредоточимся на семантических аспектах его применения, а именно модальном [Ильиш 1968; Макарова 1969] и метаязыковом [Шварцкопф 1970].
1. Синтаксическая (пунктуационная) функция кавычек. В эмигрантских газетах последовательно закавычиваются названия печатных органов, будь то русскоязычные (все без исключения, поэтому мы не приводим примеров) или иностранные, а также названия мест досуга, обществ (ср.: общество вспомоществования «Юхасаби»), заводов, предприятий (ср.: «Эспортхлеб», контора «Интуриста»), кораблей (ср.: ледокол «Семерка») и т. д. Это касается слов как траслитерированных, так и сохраняющих свой латинский графический облик. Примечательно, что существует очевидная и доминирующая тенденция транслитерировать иностранные названия, а не использовать их исходную графическую форму. Сравните несколько примеров:
а) транслитерированные: «Дер Нойе Вег», «Пти Эрмитаж», «Чикаго Дейли Ньюс», «Дансинг-Палас», «Карлейль», «Референц», «Ипподром» и др.
б) нетранслитерированные: «Tanass», «Kunststelle», «Hakenkreuzer».
Если используется нетранслитерированное название газеты, журнала, то иногда оно сопровождается переводом понятия на русский язык: «Рестлер» (Борец), «Рестлинг» (Борьба), но такие случаи единичны:
…мы получили от К. А.Пожелло из Кливленда (штат Охайо) ворох программ, афиш и номеров журнала «Рестлинг» (Борьба) и «Рестлер» (Борец), свидетельствующих о кипучей и успешной деятельности б[ывшего] чемпиона России в роли борца и организатора матчей вольной борьбы (Возрождение. 1935. 2 янв. № 3500).
Введение в текст новых иностранных реалий в транслитерированном виде также в подавляющем большинстве случаев сопровождается кавычками: «клипса», «ави фаворабль», «доммаж энтерэ», «катчмен», «ютилитэ публик», «вочман», «бреэкфест», «бодигар», «уикэнд», «промотер», «канотье», «герл», «union sacre», «status quo» и др. Бескавычечные написания немногочисленны и обычно представляют интернационализмы (чаще всего латинского, французского происхождения): la russe, l’а, quasi, W.-C. и др. Интересен единичный случай использования закавыченной транслитерированной формы иноязычного слова с русским суффиксом, наряду с русифицированной, давно заимствованной: «gentleman» ство – джентльментство. Использование комбинированной формы явно свидетельствует о стремлении вернуть понятию его национальную (культурно-этническую) окраску и на стыке латинской графики и русской морфологии привлечь внимание читателя. В этом случае кавычки для выделения латинской графической формы выполняют кульминативную (акцентирующую) функцию:
Не каждый англичанин, в зависимости от степени развития вышеуказанных факторов умственного и нравственного значения, мог достигнуть того положения в окружающей его среде, чтобы быть названным «gentleman» ом и приобрести, как таковой, уважение, доверие и влияние среди окружающих его людей. Так, чисто английским идеалом «gentleman» ства внесен был в народ дух в высшей степени полезного и почетного соревнования, в котором, в умеренных рамках понимаемое честолюбие, и самолюбие, и сознание приобретения прав соответственно заслугам – получали широкое удовлетворение (Призыв. 1919. 7 (23.9) окт. № 77).
Однако в других, тривиальных, случаях при введении нового понятия, не наделенного особой прагматической функцией, но называющего конкретную бытовую реалию, кавычки могут отсутствовать: pull-over’ы. Варваризм на пути проникновения в русскую морфологическую систему и его освоения (в форме множественного числа) – единичный пример в нашем корпусе.
…дамские и детские pull-over’ы [реклама](Дни. 1926. 21 нояб. № 1165).
Любопытно сравнить использование кавычек в эмигрантских изданиях первой волны эмиграции с современными русскоязычными изданиями ближнего и дальнего зарубежья. Сопоставление использования синтаксической функции кавычек в нашем корпусе с подборкой графических, орфографических и других особенностей русскоязычной прессы Финляндии, выполненной Е. Ю. Протасовой, явственно демонстрирует ослабление (коррозию) этой функции в современных русскоязычных печатных органах, кавычки используются скорее как факультативный пунктуационный знак, нежели как предписывающий. Аналогичные тенденции происходят и в современной русской прессе метрополии. Эмигранты, судя по материалам прессы 20–30-х гг. XX в., более строго следовали пунктуационным правилам постановки кавычек.
2. Семантические функции кавычек в эмигрантских текстах разнообразны и связаны с тем или иным прагматическим выделением лексемы, фразы, синтагмы в письменном тексте.
а) Наиболее нейтральной в прагматическом отношении является кульминативная функция кавычек, ориентированная на выделение в тексте какого-либо акцентированного понятия. Таких случаев в нашем корпусе немного, и они обычно связаны с авторской интенцией усилить какое-либо понятие, а также показать его особое употребление, не свойственное русскому языковому узусу: «каникулы» (парламентские), «волонтер», «возвращенец», «активист», «денационализироваться» и др.:
Конгресс [США. – А. З.] распущен на «каникулы» до января 1934 года (Младоросская искра. 1933. 15 авг. № 32).
Ведь если не будет готова наша «смена», если наша молодежь распылится, «денационализируется», окончательно уйдя от России в свою личную заграничную жизнь, то эмиграция как политическая сила через некоторое время перестанет существовать (Возрождение. 1939. 14 июля. № 4192).
…некоторые «волонтеры» внешней политики [Коммунистической партии Англии. – А. З.] наивно надеются цивилизовать диких большевиков (Дни. 1925. 28 янв. № 676).
б) Тропеистическая функция кавычек акцентирует внимание читателя на метафорическом употреблении какого-либо слова: «медвежонок», «тянуть», «засыпаться», «дно», «витязь» (член детско-юношеской эмигрантской организации «Витязь»), «кровообращение», «зеленый» (молодой, неопытный), «желтые» (азиаты), «парламентские» (выражения), «смена», «отец», «дети» и мн. др.
Многие «отцы» встревожены растущей денационализацией зарубежной молодежи. Но не нелепо ли сокрушаться о денационализации «детей» и одновременно совать младороссам палки в колеса (Младоросская искра. 1932. 12 июля. № 20).
Без России, вернувшейся в мир, России целостной, державной, свободной нельзя восстановить нужного хозяйственного и политического «кровообращения» мира (Возрождение. 1939. 7 июля. № 4191).
Если, влекомый жаждой вкусовых ощущений, будешь поочередно пробовать все сорта [алкоголя], то получится так называемый «медвежонок», и ты не только не попадешь к другим знакомым, но доберешься домой, уподобляясь именно этому зверю, т. е. «на четвереньках» (Меч. 1937. 2 мая. № 17).
в) Модальнооценочная функция кавычек основана на авторском (индивидуальном или групповом) отношении к тому или иному понятию или реалии. Именно здесь особенно к месту метафора Успенского («орфографический джокер») и приведенное выше высказывание Волконского. Цель использования кавычек в этой функции – показать иное понимание явления (от легкой иронии до полного отрицания) и обособиться, отстраниться при помощи кавычек от того содержания понятия, которое вкладывает в эту же словесную (графическую) оболочку политический противник или оппонент. Разумеется, в эмигрантской прессе наиболее частым «противником», присвоившим себе право смысловой подтасовки, является весь советский строй, хотя, впрочем, и внутри эмигрантских кругов модальнооценочная функция кавычек использовалась очень активно. Могут закавычиваться практически все реалии советскогообихода:
• аббревиатуры и сложносокращенные слова («чека», «комсомол», «совдеп», «колхоз», «СССР»);
• новые понятия советского быта («пионер», «октябрины», «звездины», «безбожник» (активист, пропагандирующий атеизм), «кулак», «бедняк», «алименты», «троцкист», «сталинец», «стукач» (доносчик), «стучать» (доносить), «советский», «ленинизм»);
• «присвоенные» (референциально трансформированные) большевиками старые понятия («культурный», «хозяин», «руководитель», «вождь», «конференция», «победа», «подвиг», «верность», «справедливость», «честь», «долг», «дисциплина», «успех», «амнистия», «ученый», «манифест»). Приведем несколько примеров:
Безумная затея лишения православного населения колоколов, которая сейчас осуществляется во многих местах «безбожниками» при содействии советской власти, вызывает озлобление и вражду даже в кругах, близких к советам (Сегодня. 1930. 14 янв. № 14).
…в середине апреля начнется в Одессе процесс шести чиновников Управления Черноморского пароходства, виновников гибели «Семерки». Так как процесс будет «показательным», а «показать» он должен «высокую справедливость советской власти», окончится процесс вынесением шести смертных приговоров (Меч. 1937. 11 апр. № 14).
…во Францию едучи, там в попутчиков «ленинизма» предполагает г[осподин] Луначарский превратить последователей… «неомонархизма» [sic] (Дни. 1925. 27 янв. № 675).
Пусть подумает Н. С. Тимашев, что, если он прав, попрекая Дмитриевского его прежним «сталинизмом», то тогда правы были бы и те младороссы, попрекая академика Струве его бывшим «ленинизмом» (Младоросская искра. 1932. 20 авг. № 21).
г) Метаязыковая функция кавычек – это проявление авторского сомнения, колебания в семантической точности, верности, уместности использованного автором слова или фразы, это проявление «самокритики» (по Волконскому). Данная функция кавычек в эмигрантских газетах явно подавлена предыдущей, несущей читателю мощный прагматический (почти всегда пейоративный) заряд.
Существует слой населения – как бы «конгломерата» из всех других слоев, т. е. из интеллигентов и из рабочих, и колхозников, и военной среды – это «активисты» (Возрождение. 1939. 14 июля. № 4192).
Итак, в эмигрантской прессе кавычки выполняют важную роль: с одной стороны, они свидетельствуют о хорошем знании эмигрантами правил их использования в синтаксических функциях; с другой – показывают возросшее значение их применения как графического знака, фиксирующего внимание читателя на модально-оценочных аспектах наименования.
4. Оценка советских орфографических (графических) новшеств
Изменения, предлагаемые в советской языковедческой науке и окололингвистических кругах, пропагандировавших и проводивших партийно-советскую языковую политику, зачастую становились объектом и критики, и злого подшучивания эмигрантских авторов. В следующей цитате[20] моделируется разговор Сталина с народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским (эмигранты иронично-насмешливо часто именовали его народным комиссаром затемнения):
Главнаука настаивала не писать мягкого знака после шипящих и писать Ы после Ж, Ш и Ц, наприм.: соцыализм, шырь и т. д.






