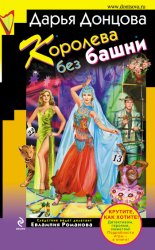Сокол и Ласточка Акунин Борис
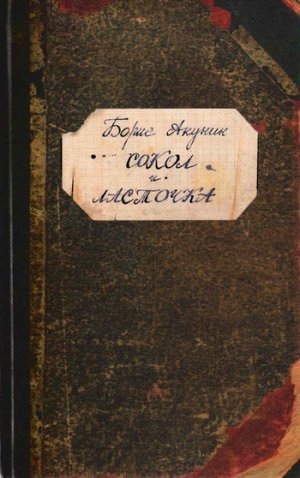
И вот мудрейший из земных попугаев, обладатель Дара Полной Жизни, покоритель ста морей (да простится мне нескромность) попался самым жалким манером, будто никчёмный воробьишка.
Нет более сильного средства против суицидальных мыслей, чем неотвратимая угроза жизни. То, чем ты не дорожил, чем готовился пренебречь, сразу обретает и ценность, и смысл. Животный ужас вытеснил все мысли и чувства.
Я забился, но тщетно.
Радостно вопя, насильник тащил меня куда-то.
Неимоверным усилием я сумел скинуть с головы покров. Это не дало мне свободы, но по крайней мере теперь я мог видеть происходящее.
Оказалось, что паршивец уже сбежал с крепостной стены и несётся по Испанской набережной, лавируя меж людьми, повозками и лошадьми.
Куда он меня тащит?
Может быть, это судьба, вдруг подумалось мне. Напряжением воли я подавил панику. Мне помогло изречение Учителя: «Худшие миги жизни дают кратчайший путь к сатори».
Сатори я не испытал, но всё же несколько воспрял духом.
Я сказал себе: мальчик увидел необычную и, скажу без ложной скромности, красивую птицу. Захотел её поймать — как ловят мечту. Проявил похвальное упорство, изобретательность и достиг цели. Так, может быть, всё к лучшему? Доселе мои питомцы были взрослыми, укоренившимися в своих грехах и заблуждениях людьми. Я мог о них заботиться, но исправить их карму был не в силах. Иное дело — душа юная, неоперившаяся. Как много пользы способен я ей принести! Сколь многому деликатно и тактично, исподволь, научить! Пусть мальчик сажает меня в клетку, я найду способ завоевать его доверие и дружбу.
И я перестал попусту барахтаться, а вместо этого осуществил ритуал сопереливания, благо пострелёнок плотно прижимал меня к груди. Я царапнул его когтем через холщовую рубашку, изогнувшись, клюнул в висок.
Я заглянул в жизнь моего маленького похитителя, проникся его внутренним взором, услышал голос его сердца.
Перед внутренним взором мальчишки длинной чередой выстроились чучела птиц: чаек, крачек, дятлов. Ещё там был ястреб и два филина. Поодаль, окружённое мечтательным сиянием, мерцало стеклянными глазами ещё одно чучело, чёрно-пурпурное, в котором я с содроганием узнал себя.
Голос сердца у маленького негодяя шептал: «Три, нет, четыре, нет, ПЯТЬ ливров!»
Он не собирался сажать меня в клетку. Паршивец зарабатывал на жизнь тем, что убивал птиц и продавал их чучельщику.
Озарение длилось долю секунды.
Клюнутый заорал от боли, взмахнул сетью и со всего маху жахнул моим бедным телом о стену. Он решил прикончить меня прямо сейчас.
Я был полуоглушён, но не лишился сознания. У моего убийцы сила в руках была ещё детская.
Сообразив это, он взялся за дело основательней. Стал раскручивать сетку над головой, чтоб увеличить мощь следующего удара.
Прощаясь с жизнью в этом головокружительном верчении, я кинул последний взгляд на облака, мачты, дома, лужи — на суетный мир, показавшийся мне в тот миг недостойным усилий, потраченных мною на его постижение.
«К чёрту такую карму», помнится, подумал я.
И невдомёк было мне, глупому попугаю, что таким диковинным образом начинается самая лучшая глава моей бесконечно долгой жизни; что я делаю первый шаг к дороге, которая позволит мне вернуться в утраченный рай. Пусть не навсегда, на время, но глубоко заблуждаются те, кто верит, что рай — это навечно. Одна из максим Учителя, которую я долго не понимал, гласит: «По-настоящему ценно лишь преходящее».
Глава вторая
Медноволосая незнакомка
В миг, когда я посчитал свой Путь оконченным, откуда-то — как показалось мне в потрясении, издалека — раздался юношеский голос, крикнувший по-французски с лёгким акцентом:
— Что ты делаешь, мерзкий мальчишка!
Меня больше не вертело, не крутило. Смертоносного удара о каменную стену не последовало.
Головокружение прошло не сразу, перед глазами всё плыло, и я разглядел лишь, что кто-то схватил моего погубителя за плечо — и, видно, крепко, ибо тот взвыл.
Я тряхнул головой, чтоб туман рассеялся. И увидел перед собой не юношу, а молодую женщину или, быть может, девушку. Она была высока ростом, одета в платье китайского перламутрового шёлка, из-под фетровой шляпы с фазаньими перьями выбивались волосы тускло-медного оттенка, длинноносое лицо пылало гневом.
— Зачем ты хочешь убить бедную птичку? — воскликнула она, взяв негодяя за ухо длинными пальцами.
По европейским меркам чудесную мою спасительницу никак нельзя было назвать красавицей. Современные мужчины почитают привлекательными женщин круглолицых, мясистых, с толстым дерьером и огромным бюстом. Эта же, как я уже сказал, была долговяза, тоща, движения не по-дамски резки, черты лица остры, не то что у щекастых рубенсовских наяд. Лиф на платье нисколько не выпячивался, а бёдра хоть и казались широкими, но исключительно за счёт фижм. Прибавьте к этому низкий, немного хрипловатый голос, нисколько не приторный и не писклявый, каким обычно стараются говорить барышни. Мне, впрочем, он прозвучал райской музыкой, а ещё сладостней был визг, исторгнутый моим мучителем.
— Мой попугай! — захныкал мальчишка. — Что хочу с ним, то и делаю! Пустите ухо, тётенька!
С юридической точки зрения он был прав, ведь человеческие законы не признают за нами, так называемыми «меньшими братьями», никаких прав личности. Я отношусь к категории «дичи», и, если не имею хозяина, могу стать собственностью первого встречного. Так уж устроен наш несправедливый мир, мне его не переделать. Учитель говорил: «если не можешь изменять обстоятельства, нет смысле на них сетовать». Я и не сетую.
— Я дам тебе за него три ливра.
Эти слова заставили меня насторожиться. Видите ли, я не избалован человеческим великодушием и привык в каждом поступке подозревать корысть — слишком много била меня жизнь. А тут ещё этот плюмаж на её шляпе. Уж не решила ли дамочка украсить свой головной убор моими маховыми или рулевыми перьями, подумалось мне. Это хорошо говорит о её вкусе, но означает, что я угодил из огня да в полымя.
— Ага, три ливра! Такого попугая поискать! Мне в чучельной лавке за него все десять дадут! — заорал маленький мерзавец, хотя, помнится, мечтал самое большее о пяти.
С минуту они торговались, а я пытался настроиться на философский лад. Возможно, на моём месте у вас и были бы предпочтения, чем вы хотите стать — чучелом или украшением на шляпе, но я меж двумя этими перспективами большой разницы не видел, да и кто спрашивал моего мнения?
Рыжая дева приобрела меня за семь серебряных монет.
Что ж, всякому существу полезно узнать свою истинную цену. Отличное средство от самомнения! Когда тебя оценивают по стоимости перьев, это здорово отрезвляет.
Мальчишка снял с меня сеть, сказав, что она ему ещё пригодится, и убежал, а барышня поставила на мостовую сундучок (я забыл сказать, что она несла прямоугольный и, судя по всему, довольно тяжёлый ларец с ручкой), взяла меня двумя руками и с любопытством оглядела.
Я тоже получил возможность рассмотреть её вблизи.
Да уж, не красавица. Разве что большие круглые глаза пепельно-серого оттенка хороши — разумеется, по европейским меркам. В Японии, например, их бы обозвали кошачьими. Кроме любопытства я прочёл в них застарелое, ставшее привычным страдание и тревогу. Такое не часто обнаружишь во взгляде молодой девицы. Хотя, конечно, я не могу считаться авторитетом в этом вопросе, поскольку прекрасный, он же слабый пол мне мало знаком. На море женщин не бывает, а тех, кого встретишь в порту, прекрасными и тем более слабыми назвать трудно.
— Лети! И принеси мне удачу, — сказала незнакомка по-немецки, верней по-швабски (на «Святом Луке» одно время половина команды была из южной Германии, и я хорошо знаю этот мелодичный, мягкий диалект).
Она подбросила меня в воздух и махнула рукой.
— Гляди, больше не попадайся!
Как же я был смущён и тронут уроком, который преподал мне мир! А ведь я только что был готов его проклясть.
Вот этот урок: да, вокруг много беспричинного зла, но есть и беспричинное добро — самое милое, что только бывает на свете. Это когда что-нибудь хорошее делают не намеренно и безо всякой помпы — просто так, не ожидая от сего никаких выгод. Пусть даже барышня в шёлковом платье спасла меня из суеверия. Допустим, ей нужна удача в каком-то деле — неважно! Если добро глупое, от этого оно только выигрывает в моих глазах.
Она взяла свой сундучок, в котором что-то звякнуло, и пошла дальше по набережной, а я летал над нею кругами, растроганный до слёз (вообще-то попугаи от чувств не плачут, сентиментальной слезливости я научился у людей). Чем бы мне тебя отблагодарить, щедрая чужестранка, думал я.
Молодая женщина шла по каменным плитам решительным и твёрдым шагом, глядя прямо перед собой. Вдруг я заметил, что прохожие, завидев её, останавливаются. Некоторые перешёптывались, другие даже показывали пальцем — она ничего этого не замечала, погружённая в свои мысли.
И тут я понял, в чём дело. Платье, шёлковое платье!
Согласно королевскому эдикту, призванному защитить французские мануфактуры, носить одежду из привозного шёлка строго-настрого возбранялось. С нарушителей указа предписывалось прилюдно сдирать запрещённый наряд и взыскивать огромный штраф, а неспособных к уплате заточать в тюрьму.
Девушка несомненно прибыла в страну совсем недавно и не знает, какой подвергается опасности. Нужно её предупредить, пока какие-нибудь завистники (а скорее завистницы) не наябедничали страже.
Я опустился спасительнице на плечо и рванул клювом узорчатый рукав так, что ткань затрещала. Казалось бы, смысл моего поступка был предельно ясен: скорее переоденься!
Но она, увы, не поняла.
— Кыш! — вскричала она, сбросив меня. — Дура неблагодарная! Ну вот, дырка!
Я летал вокруг неё и кричал, она грозила мне кулаком. Со всех сторон пялились зеваки, привлечённые необычным зрелищем.
Кто-то из женщин, добрая душа, крикнул:
— Мадам, коли вам охота форсить, носите шёлк, когда стемнеет! Все так делают!
Но медноволосая не поняла или не расслышала.
В любом случае было уже поздно. Через толпу проталкивался одноглазый человек в засаленном синем кафтане с красными отворотами. Люди неохотно перед ним расступались.
Я знал его — много раз видел на улице. То был сержант городской стражи по прозвищу Кривой Волк, грубиян и мздоимец, каковыми изобилует полиция всех известных мне стран.
— Нарушение эдикта тыща семисотого! — завопил он и схватил девушку за руку. — Попалась, киска! Сейчас сдеру твою китайскую гадость и заголю тебя всем на потеху, будешь знать!
Само собой, делать этого он бы не стал, ибо зачем же портить дорогую вещь, которую потом можно втихую продать. Вымогатель хотел лишь запугать свою жертву, чтобы «конфисковать» платье, а заодно слупить отступного.
— А ну марш за мной в караулку, дамочка!
Он потянул её за собой. И здесь случилось нечто совершенно поразительное. Вместо того чтоб идти за стражником либо упираться, вместо того, чтоб возмущаться или молить о снисхождении, барышня повела себя исключительно не по-женски.
Сначала она двинула сержанта носком острого башмака по голени. Через нитяной чулок удар должен был получиться весьма чувствительный — Кривой Волк заорал и выпустил пленницу. Воспользовавшись тем, что рука освободилась, девушка двинула служителя закона кулаком в нос, расквасив его в кровь. А в заключение стукнула полицейского сундучком по лбу. Раздался гулкий металлический звук (уж не знаю, от лба или от сундучка), и обомлевший стражник шлёпнулся на задницу.
Такая сноровка в драке сделала бы честь любому забияке из матросского кабака.
— А вы что смотрите?! — возмущённо обратилась победительница к зрителям. — На ваших глазах нападают на даму, и никто не заступится! И это галантные французы!
Топнув ногой, она пошла дальше. Зеваки молча смотрели ей вслед. Лица у них были испуганные.
Нанесение побоев королевскому стражнику при исполнении обязанностей — преступление нешуточное, тут штрафом не отделаешься.
Но бедная храбрая барышня не ведала, в какую скверную историю попала. Сержанта она приняла за обычного уличного приставалу или незадачливого грабителя.
А он меж тем начинал приходить в себя.
— Ка… Ка… Караул!!! — прохрипел Кривой Волк. — Помогите мне встать! Вы видели? Все видели? Я ранен! Сюда, ко мне, бездельники!
Эти слова были обращены к двум полицейским солдатам, спешившим на шум от ворот.
Плохо дело!
Я полетел догонять ту, над чьей головой сгустились грозовые тучи. Ей следовало как можно скорей покинуть пределы города, иначе не избежать ареста и заточения в каземат Ворчливой башни.
Не оглядываясь на крики, она подошла к трёхэтажному дому господина Лефевра, толкнула тяжёлую дверь и вошла. Как я ни торопился, как ни махал крыльями, но влететь за девушкой не успел — только с разлёту стукнулся о дубовую створку.
Через минуту у порога оказались и стражники. То ли они видели, куда скрылась преступница, то ли им указал кто-то из горожан, но полицейские встали у входа и заспорили, надо стучать или лучше подождать.
Господин Лефевр — один из отцов города. Богатый арматор. Принадлежащие ему корабли плавают по всем морям от мыса Горн до Макао. Потревожить покой большого человека стражники не решались.
После короткого спора они решили дождаться, когда обидчица Кривого Волка выйдет. Я слышал, как сержант, утирая рукавом разбитый нос, сказал:
— А если она ему не чужая, ещё лучше. Зацапаем её, а потом к нему: так мол и так, чего делать будем, ваша милость? Слушайте меня, ребята. Не будь я Кривой Волк, если не получу за оскорбление золотом! Дёшево они от меня не отделаются! А коли нет — засажу стерву в крысятник!
Теперь мне нужно было выяснить, в каких отношениях состоит моя спасительница с господином Лефевром. Если она ему родственница или добрая знакомая, беспокоиться не о чем. Арматор сумеет подмазать полицейских, чтоб не доводить дело до тюрьмы. А вдруг, в самом деле, чужая?
Удобнейшая вещь крылья. Если б мне предложили заменить их на руки с десятью пальцами, я поблагодарил бы и отказался. Во-первых, пальцы у меня есть и свои. Пускай только по четыре на лапе, но мне хватает. А во-вторых, способность летать неизмеримо ценнее.
Пока стражники решали, сколько они слупят с Лефевра и как поделят добычу, я взлетел до второго, парадного этажа и заглянул в окно. День был ясный, уже совсем весенний, утренний бриз поутих, и створки были открыты настежь.
Судя по всему, здесь находился кабинет хозяина. Редко доводилось мне видеть столь роскошное убранство. Однажды в Лондоне я провожал лейтенанта Беста до адмиралтейства и, конечно, не удержался — заглянул в окно покоев первого лорда (коль мне не изменяет память, в ту пору им был граф Торрингтон). Так вот, скажу я вам, если размером приёмный зал его светлости и превосходил арматорский кабинет, то по части изысканности и богатства явно ему уступал.
Нигде я не видывал такой исполинской мебели, похожей на величественные испанские галеоны. Резной шкаф, весь в блестящих заклёпках, был длиной футов в пятьдесят. По стенам висели шёлковые гобелены с рельефным рисунком: на золочёных консолях переливались красками изумительные китайские вазы, в хороший корвет ценою каждая; портьеры были драгоценного утрехтского бархата — думаю, и герцогиня не побрезговала бы сшить из такой ткани парадное платье.
За столом чёрного дерева, в кожаном кресле с высокой, замысловато украшенной спинкой, сидел сухонький человек в пышном золотистом парике. На его жёлтом, в цвет парика, лице застыло выражение едкой недоверчивости. Знаю я этот тип людей. Спасёшь такого из пожара, а он вместо «спасибо» скажет: «Думал, поди, что я тебя озолочу? Ах ты хитрец!».
Это несомненно и был мсье Лефевр, собственной персоной. Он скрипел по бумаге пером, время от времени отрываясь от этого занятия, чтобы скорчить брезгливую гримасу. Должно быть, писал кому-нибудь неприятному.
Моей барышни здесь не было. Я уж хотел подлететь к другим окнам, но дверь кабинета вдруг приоткрылась, в щель сунулся некто в чёрном парике, не столь пышном, как у арматора. Должно быть, секретарь.
— Патрон, вас желает видеть молодая дама. Она назвалась госпожой Летицией де Дорн, дочерью баварского тайного советника. Велеть, чтоб обождала?
— Нет-нет, проси!
Лефевр накрыл одни бумаги другими. Похлопал себя по щекам, и его лицо, только что бывшее желчным и кислым, осветилось любезнейшей из улыбок.
— Милости прошу! — вскричал он, поднимаясь навстречу посетительнице. — Жду, давно жду! И всё приготовил, как обещал. Однако позвольте спросить, как прошло ваше путешествие? Представляю, сколь опасным и малоприятным оно было с учётом нынешних обстоятельств!
Арматор несомненно имел в виду большую войну, начавшуюся в прошлом году и поделившую Европу на два лагеря. Причиною конфликта был опустевший мадридский трон, и речь шла о том, кому достанутся богатейшие владения Испании — ставленнику французского короля, либо австрийским Габсбургам. На стороне Вены выступили Англия и Нидерланды; Версаль поддержали Испания и Бавария, так что медноволосая драчунья, стало быть, прибыла из государства, союзного Франции.
Услышав о «тайном советнике», я уж решил, что здесь разворачивается какая-нибудь шпионская интрига и огорчился, ибо, как говорил Учитель, «худшие из людей — торговцы пороком и соглядатаи». Мне не хотелось, чтоб моя благородная избавительница оказалась из этой породы. Все политические интриги и козни, на мой взгляд, ужасная мерзость. Человеку, заботящемуся о своей карме и внутренней гармонии, лучше держаться от таких дел подальше.
Но дальнейший ход беседы показал, что моё предположение ошибочно. Хоть я и мало что поначалу понял, однако сообразил: шпионство тут, кажется, ни при чём.
— Да, поездка заняла целых двадцать дней, — сказала госпожа Летиция де Дорн. — Местности, где идут бои, пришлось объезжать стороной. Но обозы и войска движутся по всем дорогам, это совершенно несносно. Однако, слава Богу, теперь я в Сен-Мало, так что давайте не будем терять времени. Вот задаток, о котором мы условились. Полторы тысячи ливров. — Она поставила на стол ларец, а сама села в кресло. — Вторую половину вы получите, когда корабль доставит сюда моего отца. Вся сумма выкупа в сундуке, который я оставила в гостинице. Я передам сундук капитану.
Лефевр открыл ларец и начал пересчитывать деньги, очень быстро и ловко. Он складывал монеты столбиками. Сразу было видно, что это занятие для него приятнее всего на свете.
— Всё точно, — сказал он, закончив, и сделал скорбное лицо. — Но… К моему глубокому сожалению, обстоятельства переменились. Всё из-за этой проклятой войны, от которой я несу кошмарные, совершенно чудовищные убытки.
— Вы хотите поднять стоимость вашего вознаграждения? — нахмурилась барышня. — Могу я узнать, на сколько?
Он негодующе замахал руками.
— Что вы, что вы! Слово Лефевра — булатная сталь!! Дело не в моей комиссии. Она останется такой же. Но вот накладные расходы…
Арматор выпорхнул из-за стола и оказался у географической карты, висящей на стене.
— Плавание в Барбарию — сущий пустяк. В мирное время наше маленькое дельце не представляло бы большой трудности. Капитан, доставляющий в Испанию или Марсель груз нашей сушёной трески, завернул бы в Сале, это разбойничье гнездо, провёл бы необходимые переговоры, взял на борт вашего батюшку, и вся недолга. Но из-за войны морская торговля прекратилась. Купеческие корабли больше не плавают.
Девушка порывисто поднялась.
— Это довольно странно! Война идёт не первый месяц! Вы могли бы написать, что отказываетесь от поручения, но вместо этого в вашем письме было сказано: приезжайте. Объяснитесь, сударь!
— Именно это я и собираюсь сделать, мадемуазель. Не хотел делать этого письменно, ибо в нынешние тревожные времена почта может быть перехвачена, а моё предложение несколько… деликатно.
— В чём оно состоит? Говорите же!
— Я не могу отправить в Барбарию купеческое судно, потому что оно станет лёгкой добычей проклятых англичан. Но можно снарядить корсарский корабль. Он быстроходен и хорошо вооружён.
— Вы предлагаете послать за моим отцом пиратов? — поразилась госпожа де Дорн.
Он засмеялся.
— У вас, сухопутной публики, довольно путаное представление о таких вещах. Корсары вовсе не пираты.
— Разве они не грабят корабли?
— Разумеется, грабят.
— В чём же разница?
— В том, что захваченного пирата вешают на рее, а корсар считается военнопленным. Потому что корсары грабят лишь те корабли, что ходят под вражеским флагом. Чтобы стать корсаром, нужно иметь патент от адмиралтейства. Получить его может далеко не всякий. А у меня патент есть. Учтите, мадемуазель: пока не закончится эта война — а она может продлиться и пять, и десять лет — никаким иным способом до Барбарии не добраться.
Барышня наморщила лоб — она всё-таки не понимала.
— Если корсарский патент — нечто совершенно законное, к чему тайны? Почему вы боялись, что ваше письмо попадёт в чужие руки?
— Потому что негоциантский дом «Лефевр и сыновья» имеет репутацию, сударыня. И я ею дорожу. Хоть многие арматоры Франции, Англии, Голландии в военное время подрабатывают корсарством, никто этого не афиширует. Ведь приходится потрошить корабли, принадлежащие вчерашним и завтрашним торговым партнёрам. Это порождает недобрые чувства, обиды, озлобление. Вот почему я могу сделать вам такое предложение только устно. У меня как раз подготовлено отличное судно: лёгкий фрегат «L’Hirondelle»,[16] с лихим, надёжным капитаном, господином Дезэссаром.
— Дез Эссаром? — повторила девушка, как бы поделив это имя на две части. — Что ж, я согласна! Корсары так корсары, только б отец поскорее вернулся! По рукам, мсье!
Она сняла перчатку и протянула арматору свою руку — слишком большую, не особенно белую и нисколько не округлую, то есть совсем не совпадающую с каноном женской красоты. Лефевр не пожал её, а склонился и почтительно чмокнул губами воздух над пальцами мадемуазель де Дорн.
— Отрадно видеть столь трогательную дочернюю привязанность. Я тронут до слёз. Однако, сударыня, как вы понимаете, одно дело — завернуть в Сале по дороге, сделав небольшой крюк, и совсем другое — снаряжать специальную экспедицию. Я имею в виду расходы.
— В какую сумму они выльются? — деловито спросила она.
— Минуточку… Сейчас прикинем.
Почтенный арматор сел на место, положил перед собой абакус и, щёлкая шариками из слоновой кости, принялся за подсчёты.
— Во-первых, жалованье экипажу с доплатой за военное время и плаванье в опасных водах… Допустим, испанцы нам союзники, а у султана Мулай-Исмаила с нашим великим монархом мир и согласие, но эти пронырливые англичане кишат во всех морях, прошу прощения, будто вши в лохмотьях. Итак, сорок матросов в среднем по 70 ливров в месяц… Кладём три месяца: покуда туда, покуда обратно, да переговоры — у мавров ничего быстро не делается… М-м-м, офицеры и капитан… Теперь припасы. Люди у меня не балованы разносолами, но по полсотни монет на каждого потратить придётся… Итого расходы на содержание команды… Ага, с этим всё.
Он записал цифру на бумажке, застенчиво прикрывшись ладонью.
— Идём дальше. Страховка.
— Что?
— Как, вы не слышали об этом чудесном изобретении, которое всем так выгодно? Вы платите страховой компании некий взнос, и больше ни о чём не беспокоитесь. Если ваш корабль пропал — утонул, захвачен пиратами, пропал бесследно, — компания возмещает вам ущерб. Естественно, взнос зависит от дальности плавания и рискованности предприятия. В мирное время за путешествие в Средиземноморье берут всего 3 % стоимости судна и товара, ибо французов мавры не трогают, а больше там опасаться некого. Но сейчас ставки, увы, поднялись в десять раз. «Л’Ирондель» стоит 25000, следовательно… — Он поколдовал над счётами ещё немного и подвёл итог. — В общем и целом вам придётся раскошелиться на 21358 ливров и шесть су. Не будем мелочиться, — здесь последовал широкий взмах шитого золотом обшлага, — двадцать одна тысяча триста пятьдесят.
— Сколько?! — ахнула госпожа де Дорн, выхватывая у него листок. — О боже…
— Меньше никак нельзя, — твёрдо молвил Лефевр и долго ещё толковал ей про военные трудности, алчность моряков, обязательные отчисления в казну и возмутительную дороговизну солонины.
— Мне нужно подумать, — наконец произнесла девушка упавшим голосом. — Я возвращаюсь в гостиницу…
Арматор пошёл её провожать, а я встрепенулся и тоже слетел вниз.
Судя по разговору, этот алчный кровосос и не подумает откупаться от Кривого Волка. Нужно было как-то предупредить её! Бедняжка, вымогатели кружили вокруг неё, будто коршуны. На свете нет тварей кровожадней и отвратительней коршунов! Однажды на острове Мадейра, когда я замечтался, любуясь солнечными бликами на волнах, на меня напал один такой убийца… Впрочем, не хочу вспоминать этот кошмар.
Слетая вниз, я уже знал, как поступлю.
Когда тяжёлая дверь скрипнула и полицейские угрожающе сдвинулись плечо к плечу, я взмахнул крыльями и устремился вперёд.
Влетел в приоткрывшуюся щель и ловко опустился Летиции де Дорн на плечо. Она ещё не успела переступить порог и от неожиданности попятилась, но не завизжала, как сделала бы всякая барышня, а воскликнула по-немецки «чёрт побери!», что, согласитесь, довольно необычно для дочери тайного советника.
Стражников, однако, и она, и провожавший её арматор разглядеть успели.
— Какой красивый попугай! Это ваш? — спросил Лефевр. — А что делает перед моей дверью полиция?
— Именем короля откройте! — закричали с той стороны. — В вашем доме укрывается преступница!
— Этот невежа — полицейский? — удивилась госпожа де Дорн. — Зачем же он на меня накинулся, будто пьяный мужлан?
Не обращая внимания на стук (довольно робкий), хозяин расспросил гостью о случившемся и в двух словах объяснил ей, какими это чревато последствиями.
— Я вас выпущу через кухню. На счастье, стражники не знают вашего имени. Бегите в гостиницу и спрячьтесь. Шелка уберите в багаж. Без вуали на улицу не выходите, а лучше в светлое время дня вообще сидите в номере. Полицейских я впущу, когда вы уйдёте, и скажу, что знать вас не знаю. Вы желали совершить плавание в Новый Свет на одном из моих судов, но я вам отказал, ибо по случаю войны мы не берём пассажиров. Так это ваш попугай?
Он осторожно потрепал меня по хохолку, и я с трудом сдержался, чтобы не клюнуть его в палец. Терпеть не могу фамильярности.
— Мой.
Она погладила меня по спине, но это прикосновение не было мне неприятно. Совсем напротив.
— Красавец! Не желаете продать? Он слишком приметен, на вас будут обращать внимание, а это вам сейчас ни к чему. Я посажу молодца в золочёную клетку и научу приветствовать посетителей. Хотите 40 ливров?
— Нет. Птица не продаётся.
Когда она это сказала, что-то дрогнуло в моём сердце. Уже во второй раз. В первый — когда Летиция де Дорн так решительно ответила: «Мой».
Её поведение объяснилось, когда мы — Лефевр, она и я у неё на плече — быстро шли тёмным коридором.
— Ты спасла меня от тюрьмы, птичка. Спасибо, — шепнула мне девушка по-швабски и — вы не поверите — поцеловала меня!
Я чуть не свалился.
Меня никто никогда не целовал. Что и не удивительно. Лейтенант Бест, когда напивался, поил меня ромом изо рта в клюв, но это совсем не то, что девичий поцелуй, уж можете мне поверить.
Вдруг меня осенило. А, собственно, почему нет?
Кто сказал, что мой питомец обязательно должен быть мужчиной? Допустим, мне никогда не приходило в голову приручить существо противоположного пола — я ведь старый бирюк, морской бродяга и совсем не знаю женщин. Но эта рыжая барышня меня заинтересовала.
Была не была! Вероятней всего, когда я её оцарапаю и клюну, она меня сгонит. Ну, значит, не судьба мне держаться за бабьи юбки. Полечу искать нового подопечного в таверну или в порт. Свой долг госпоже де Дорн я честно вернул.
Я свесил хвост ей на грудь, соскользнул по шёлку и сжал пальцы, а клювом как можно мягче (но всё-таки до крови, иначе нельзя) ударил девушку в смуглый висок.
Глава третья
Летиция де Дорн
Моментально, сменяя друг друга с непостижимой быстротой, перед взором моей души пронеслась череда ярких картин. Жизнь девушки по имени Летиция была прочитана мной, словно книга, с первой и до последней буквы. Если мой избранник не оттолкнул и не сбросил меня хотя бы в течение одной секунды, этого довольно. Процесс сопереливания двух Ки почти мгновенен.
Попробую рассказать, как это происходит, хоть слова и неспособны передать состояние абсолютного познания.
Сначала я услышал… нет, не услышал, а узнал полное имя своей новой питомицы.
Летиция-Корнелия-Анна фон Дорн (а не «де Дорн») — вот как её звали.
А дальше — яркие вспышки, будто зарницы в небе.
Повторяю, я увидел и познал всю её жизнь и мог бы её пересказать до малейших несущественных подробностей. Но хватит и нескольких образов, выхваченных наугад. Иначе рассказ растянулся бы на все двадцать пять лет, прожитые Летицией.
Вот небольшой серокаменный замок на холме, в окружении дубовых лесов и зелёных полей. У ворот, на сломанном подъёмном мосту, стоит рыжая девочка в простеньком платье и отчаянно машет рукой вслед удаляющемуся всаднику.
Это её отец, Фердинанд фон Дорн. Он едет навстречу восходящему солнцу, и вся его фигура кажется вытканной из ярких лучей. Сверкает аграф на шляпе, сияют шпоры и эфес шпаги, отливает золотом круп игреневого коня.
Про всадника я знаю многое — столько же, сколько знает про него моя питомица, которая любит этого человека больше всего на свете — не за то, что он дал ей жизнь и нарёк красивым именем Laetitia (по-латыни оно значит «радость»), а потому что Фердинанд фон Дорн излучает счастье. Он и в самом деле будто сшит из солнечного света, и восход тут не при чём. У Фердинанда золотисто-рыжие волосы, которые с возрастом обретут оттенок благородной бронзы, у него солнечный смех, искрящиеся весельем глаза и лучезарная улыбка.
Есть люди, которых жалует Фортуна. Во всяком случае, в этом уверены окружающие, которые испытывают по отношению к баловням удачи лютую зависть, смешанную с восхищением. Вообще-то ударов судьбы на их долю приходится не меньше, чем улыбок, просто счастливцы никогда не унывают и не жалуются. Несчастье они сбрасывают с себя недоумённым пожатием плеч, а в счастье запахиваются, словно в ослепительно нарядный плащ. Они не удостаивают замечать невзгод, и так до самой своей смерти. Если кому-то на земле и нужно завидовать, то обладателям этого чудесного дара.
Фердинанд фон Дорн родился вторым сыном в некогда богатой и славной, но захудавшей швабской семье. Никакого наследства ему не досталось, лишь боевой конь. Но Фердинанд говорил, что его в любом случае не прельщает скучная участь землевладельца, а конь чудо как хорош. На таком превосходном скакуне милое дело отправиться на войну и сделать блестящую военную карьеру. И так вкусно он это рассказывал, что остальные братья ему завидовали — даже старший, наследник родового замка. Никто не сомневался, что везунчик станет полковником, а то и генералом.
Но в первую же кампанию Фердинанд был ранен. Пуля пробила ему лёгкое, он чуть не умер, а когда вылечился, с армией было покончено. Какая тут воинская служба, если при малейшей простуде начинается жестокий затяжной кашель?
Другой бы пал духом, опустил руки, но не таков был Фердинанд фон Дорн. Он твердил лишь о том, как несказанно ему повезло — с пробитым лёгким, и жив. Чудо из чудес! И вообще солдатская карьера хороша для людей порывистых и бесшабашных, вроде брата Корнелиуса, а для настоящего мужчины истинное счастье заключается в семейной жизни. Подобными речами и своей сияющей улыбкой Фердинанд покорил сердце богатой невесты. Женился, произвёл на свет двух сыновей и дочь, а тут ещё скончался бездетный старший брат Клаус, и счастливое семейство поселилось в дорновском фамильном замке Теофельс.
Фердинанд отремонтировал и украсил дедовское гнездо, привёл в порядок хозяйство и зажил образцовым помещиком, на зависть знакомым и соседям. Но и эта стезя, подобно военной, его подвела. Оспенный мор унёс жену с сыновьями, изрыл красивое лицо фон Дорна рытвинами и пощадил только маленькую дочку. Обычный человек сошёл бы от горя с ума, но вечный счастливец и тут не утратил бодрости. Да я в рубашке родился, не уставал повторять он. Во-первых, обманул лекарей и не умер, пусть метки на лице будут постоянным напоминанием об этом подарке судьбы. Во-вторых, уцелела моя крошка Летиция, даже личико не пострадало — это ли не чудо? В-третьих же, глупо сидеть в глуши барсуком, зарывать свой талант. Есть вещи увлекательней яровых и озимых. Например, карьера дипломата.
И он поступил на службу к Электору баварскому. Странствовал по свету, выполняя неофициальные, часто рискованные поручения. Если удачно с ними справлялся — все говорили, что советник фон Дорн невероятно везуч. Если миссия проваливалась, говорили: везёт Дорну, как это он только жив остался.
На рассвете дня, который я описываю, Фердинанд отправляется в очередное путешествие, из которого бог весть когда вернётся, а может, не вернётся вовсе. Рыжей девочке ужасно хочется, чтобы он обернулся, хочется его окликнуть, но она не решается. Машет рукой, по искажённому личику текут слёзы.
Но всадник не оборачивается. Он уже забыл о сером замке, о рыжей девочке — его манит сверкающая солнечными искрами дорога.
Другая картинка.
Девочки-подростки (все в одинаковых коричневых платьицах с белым кружевным воротничком) сбились в кучку у подоконника и смотрят, как по узкой улице фламандского города движется свадебный поезд. В открытом экипаже едут молодые: он очень хорош в алом плаще и треуголке с перьями, она — в пышном бело-серебряном наряде. У всех пансионерок одинаковое выражение лиц — мечтательно-восторженное. Нет, не у всех. Долговязая худышка сложила губки коромыслом, а рыжеватые бровки домиком. Бедняжка знает, что некрасива. Никогда ей не ехать в белом гипюре под приветственные крики, рядом с писаным красавцем.
Ещё.
Летиция подросла. Уже девушка. Высокая, стремительная в движениях, с загорелым лицом и облупившимся от солнца носом. Она ловко сидит в седле — не амазонкой, а по-мужски, потому что одета в кюлоты и рубаху (ей ужасно нравится носить старые вещи отца). Рядом, тоже верхом, Фердинанд. «Не трусь, — говорит он. — Ты из рода Дорнов. Вперёд!».
Ей очень страшно, но она гонит коня к барьеру — дереву, поваленному бурей. Не выдерживает, зажмуривается. Лошадь чувствует состояние всадницы и перед самым препятствием делает свечку. Будто памятью собственного тела я ощущаю удар о землю, черноту обморока. Потом вижу над собой нахмуренное лицо отца. Первое чувство — паника. Он разочарован!
«Я попробую ещё раз», — говорит девушка.
Снова разгон, но теперь она глаз не закрывает. Полёт, перехватило дыхание — и обжигающее счастье. Я сделала это! Он может мной гордиться!
Опять вдвоём с отцом.
Фердинанд фон Дорн пытается делать свирепое лицо, что у него плохо получается.
«Я проткну тебя, как перепёлку!» — рычит он, размахивая шпагой, на острие которой насажена винная пробка. Но, если клинок пробивает защиту и бьёт в живот или грудь, это всё равно очень больно.
Летиция уворачивается, парирует удары, а стоит противнику ослабить натиск, немедленно переходит в контратаку.
Фердинанд доволен
«Барышне полезно прикидываться слабой и беззащитной, чтобы дать возможность мужчинам проявить рыцарство, — говорит он во время паузы, закуривая трубку. — Однако нужно уметь за себя постоять. Не всегда рядом с тобой окажется рыцарь. Если у тебя нет оружия, бей обидчика носком в голень или коленкой в пах, и тут же лбом или кулаком в нос. На такие удары большой силы не нужно».
Дочь кивает. Думает: «Он знает, что у меня никогда не будет мужа, поэтому и учит. И очень хорошо, что не будет».
Теперь мне понятно, почему Кривой Волк потерпел на Испанской набережной столь быстрое и позорное поражение.
Больше всего картин, где Летиция одна. Собственно, она почти всегда одна.
С книгой в саду.
Зимой у окна — смотрит на пустое поле.
Вот поле стало зелёным — уже весна, но девушка сидит в той же позе.
Иногда она держит в руках письмо и улыбается — это прислал весточку отец. Но чаще пишет сама.
Я без труда могу заглянуть ей через плечо и проследить за кончиком пера, выводящего на бумаге ровные строчки.
«Умоляю вас, батюшка, не верить мягкости константинопольского климата. Я прочла, что ветер с Босфора особенно коварен в жару, ибо несомая им прохлада кроме приятности таит в себе опасность простуды, столь нежелательной при вашей слабой груди…»
Или другое письмо, более интересное, но пронизанное горечью: