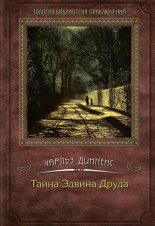Драконы никогда не спят (сборник) Дяченко Марина и Сергей

Они свернули за угол.
– Ряшка, душа моя! Дай чмокну…
– Наливай!
– Дурного не скажу! Но и доброго!.. Свиньей жил, свиньей дожил!..
– Ряшенька, ну дай щипнуть…
– А хату кому?
– За хату деточки судиться хотят!
Из-за щелястого забора несся пьяный гогот. Визжала девка – ее тискали. Визг был скорее радостный, для приличия, чтоб соседи не ославили. Кто-то горланил песню о рыбаке и кривом удилище. Ему не в лад подпевали. Чавканье, бульканье, топот плясунов – гомон мутной волной растекался по улочке.
– Что там? Свадьба?
– Поминки. Хромого Тузла закопали, гори он синим пламенем. Теперь провожают…
– Хороший человек был?
– А тебе не один ляд? Пошли зайдем: нальют…
– Нет, я в трактир.
– Ну и я в трактир…
В трактире сидели те строгали, кто был побогаче. Дородный хозяин сновал меж столами, разнося пиво и мясо. Он внимательно следил за едоками: чтоб не сбежали, «забыв» о плате. В дверях скучал верзила с дубинкой на поясе. Охранник посторонился, впуская Нихона со спутником.
– Зачнешь бузить, – предупредил верзила мелкого гостеприимца, – скулу набок сворочу. Я тя знаю, ты шиш бузинный.
Заваришь кашу и сбежишь. Уразумел?
Мужичок плюнул ему под ноги и увернулся от подзатыльника.
– Вот так ушлый плут Требля… – Толстяк за центральным столом возвысил голос, заканчивая какую-то историю. – … объегорил глупого купца Цыбулю!
– Хо-хо! – взорвались слушатели. – Х-хы!
– Облапошил!
– А женку купцову: ты, грит, к сундуку передом, ко мне – задом!
– Гы-гы-гы!
– Купцу теперь одна дорога: в петлю!
– И ладно! А чего он богатый?
– Пусть висит, язык набок…
– Песню! Кемуль, части!
Толстяк Кемуль, явно – местный байкарь, готовый импровизировать за шмат ветчины, ломаться не стал. Он напрягся, пустил ветры, хмыкнул басом – и заорал на весь трактир:
– Я попал, как кур в ощип, Только не желаю в щи – Ты тащи меня в борщи, А не то ищи-свищи!
– Еще!
– Валяй!
– Полюби меня, козла, Отличи добро от зла, Путь-дороженька кривая От меня к тебе свезла!
– Ха-ха-ха!
– Жжешь, Кемуль!
– Деньги есть?
Последняя реплика принадлежала трактирщику. Он стоял, загораживая Нихону путь к свободной лавке. Толстая морда трактирщика лоснилась от недоверия.
– Есть.
– Покажь. Все вы: есть, мол… Только есть и горазды. – Он хохотнул, гордясь удачным каламбуром. – А как доели, так карман с дырой…
Нихон достал гость мелких монет.
– Садись. Туда, в угол. Натрясешь вшей…
– Нет, не сяду.
– Стоймя жевать будешь? Как вол?
– Пойду я. Тускло у тебя…
– Свечи им жечь, босякам, – ворчал трактирщик, пялясь в широкую Нихонову спину. – Брезгуют, значит. Иди, иди, шалопут! Мы не обеднеем…
– Проклинаю!
Весь поселок вскочил на зорьке как пчелой ужаленный.
– И во второй раз: проклинаю!
Где бы ни находились жители Ясных Заусенцев – дома, в канаве, на сеновале, под забором или на полу в трактире, – везде они видели одно и то же, словно злодей-чародей швырнул каждого на окраину поселка. Вон напротив: холм, бузина… А под деревом – облом-бродяга, которому не волхвовать бы, а телеги из грязи выволакивать.
Нихон стоял в красивом ореоле из пламени.
– За что? – хором выдохнули строгали.
– И вы еще спрашиваете?!
– Дык это, – согласился поселок. – Интересуемся.
– За то, что никого не любите! Нет любви в ваших сердцах! А раз так, то положу свое проклятие на души ваши. И пусть тяготеет до скончания веков!
– Ты погодь! – возмутились строгали. – Как это: никого не любим?
– Я мамку люблю!
– А я – Ряшку! Ить, кругленькая…
– Я пиво люблю!
– Любим!
– Лю-бим! Лю-бим!
– Всем сердцем!
Пламя вокруг мага налилось темным багрянцем.
– Врете! И потому – проклинаю в третий раз! Отныне едва наступит Гурьин день, первый от начала осени… ни один из вас не переживет сего дня, ни один не застанет нового рассвета, если в сердце его не зазеленеет хоть малый росток любви! Не возлюбите ближнего, так и в гроб ляжете! Поняли, суесловы?
– Поняли…
Ясные Заусенцы перевернулись с боку на бок.
– Ишь, шлендра…
– Тоже мне, проклял!..
– Да у нас любви, если хочешь знать, – на сто лет жизни!
Позже многие поднялись на холм: глянуть, что да как. Бузина сгорела без остатка.
До конца лета проклятие бродяги служило неизменным поводом для шуток. О нем и не вспоминали. Да-да, никакой ошибки! Именно так, одновременно. При встрече два честных яснозаусенца, обсуждая отел коров или урожай проса, рано или поздно скатывались к сакраментальному:
А проклятие?
– Какое?
– То самое!
– Да я о нем давно забыл!
– И я забыл!
– Еще о всякой ерунде помнить!
– Ага! А колдуняка-то дурень!
– Горлохват! Думал, мы тяпкой деланные…
– Ну! Любви, грит, нету…
– У меня любви: вайлом!
– А у меня – хоть на зиму соли!
– А то!
И расходились, довольные разговором.
Впрочем, за неделю до Гурьина дня болтовня угасла. О колдуняке помалкивали. О любви и не заикались. Разве что поглядывали искоса друг на дружку. На чужую семейную жизнь. На родительское уважение. На дело молодое: шашни, посиделки, тайные прогулки в заросли лещины. Кто детей ремнем порет, кто жене глаз синькой подкрасил. Кто к дряхлой мамане носа не кажет. Кто в колья пошел, с закадычным дружком.
Не судили-рядили, будто и не видели.
А так, примечали.
Утром Гурьина дня Юрась Ложечник, свежачок-гостеприимец, с которого все началось, сидел во дворе. Обложившись загодя битыми баклушами, он собирался резать ложки. Рядом на кожаном фартуке блестели инструменты: резцы, рашпили, ложкарный топорик, тесло и нож.
– Гей, Юрась!
За плетнем возвращался с ярмарки сосед, резчик Никлаш Тесля. Пегая кобылка волокла телегу, пустую после удачной торговли. Сосед, свесив ноги, махал Юрасю цветастым платком. Ночная дорога не утомила Теслю. Напротив, он сиял медным грошиком.
– Как оно?
– Помаленьку! – откликнулся Юрась, приглядываясь.
«Нет, не платок это, – сказал он сам себе. – Цельный полушалок! С бахромой…» А что там у тебя, Никлаш?
– Где? – Подлец сосед притворился, будто не понял.
– Да в руке?
– В левой? Вожжи у меня там…
– А в правой?
– Вот ведь!.. – Сосед уставился на яркую обновку. – Так это шаль, Юрась! С выручки купил! Славная вещь, кучу денег отвалил…
– На кой тебе шаль? Нос утирать?
Сосед натянул вожжи, останавливая кобылку.
– Нет, Юрась, – строго сказал он. – Нос я и рукавом утру. А шальку мы супруге везем. В подарок. Негоже с ярмарки пустым возвертаться. Мы, значит, шаль, а нам, значит, почет и уважение. И эту… как ее… – Он сделал вид, что припоминает. – Любовь! Любовь, брат, ее в окошко не кинешь! – И рявкнул на лошадь, будто страсть как торопился: – Н-но, мертвая! Шевели копытами!
Провожая соседа взглядом, Юрась чувствовал, как настроение стремительно портится. В душе закопошились гадкие червяки. Ясно представилось: утро следующего дня, двор, открытый гроб на четырех табуретках… В гробу – он, Юрась Ложечник. Острый нос, синие щеки. Жена воет – притворяется, что убита горем. Чужие дети тайком жуют поминальные калачи.
А гад сосед распинается над домовиной: «Любовь – это вам не ерш начихал! Спи спокойно, дорогой Юрасик!..»
От расстройства чувств он пнул ногой баклуши. Вспомнил, что бил-то баклуши сам, а шкурила и полировала жена – и совсем огорчился. Желая вернуть душе покой, Юрась вышел со двора. Вот, привычное житье-бытье. Малышня из грязи куличики лепит. Спит в луже поросенок. Напротив, за своим плетнем, бабка Сычиха в огороде копается.
– Бабуля! Ну дайте подмогну!
– Кыш, оглоед! Срамить явился?
– Ну бабуля! Я ж от чистого сердца!
– Сроду у тебя сердца не было, стоерос! Иди, не то камнем кину!
– Бабулечка! Не губите…
У плетня мялся Фица Сыч, внук старухи. Пьяница и шалопай, Фица если и навещал бабку, так только чтоб набить брюхо на халяву. И тащил со двора все, что плохо лежало, – продавать заради выпивки.
– Хмельной? – сурово поинтересовалась Сычиха, с кряхтеньем разгибая спину. – Залил очи спозаранок?
– Трезвый, бабуля…
– Похмельный?
Честное слово, не знай Юрась характера Сычихи, так мог бы подумать, что старая готова достать из подполья заветный жбан – похмелить гулящего внучка.
– Не-а… Вчера дома сидел!
– А ну дыхни!
Фица дыхнул через плетень.
– Ладно, иди сюда! Ох, сердце мое бабье, слабое… Будешь подзимний чеснок убирать. Закончишь, польешь капустку. А я в хату…
– Да куда ж вы, бабуля? – охнул внук. – Вы что, глядеть не станете?
– На что?
– На работу мою!
– А чего мне на нее глядеть, на твою работу?
– Да чтоб узнать, как я вас сильно того… ну, этого…
– Я о тебе, шалопут, и без работы всю правду знаю. Иди спасайся. А я пока обед спроворю. Утомишься, жрать захочешь… чарочку, туда-сюда…
Смотреть дальше Юрась не стал. Воображение живо поставило над его завтрашним гробом эту парочку: молодого Сыча с древней Сычихой. Ишь, лыбятся! – в последний путь, выходит, провожают.
Вконец огорчившись, он отправился в трактир. По дороге печали добавилось: Темка и Семка, двое знатных буянов, обнимались возле колодца. Рядом валялись многократно сломанные колья. Похоже, колья нынче ломались не об спины драчунов, а о колодезный сруб – в знак примирения.
– Звиняй, братан! – гудел Семка.
– И ты, братан, звиняй!
– Я ж не по злобе!
– А я?
– Я ж от удальства!
– А я?
– Ты кого не любишь? Хошь, мы ему на пару рыло начистим?
– Я, Семушка, всех люблю! Страсть как обожаю!
– Хитрец ты, Темка! Ух, хитрец! За то и любим тя, прохвоста!
– А ты?
– И я…
В трактир Юрась заявился мрачней тучи. По причине раннего времени трактир пустовал. Лишь в углу на лавке сидел байкарь Кемуль, сосредоточен и напряжен. В руках его тихо пели гусли. Уж и не вспоминалось, когда толстяк вынимал из чулана гусли, не востребованные здешней публикой. Строгали предпочитали озорные «частики» или байки о плутах, ворах и разбойниках.
Кемуль тихо напевал себе под нос.
Юрась прислушался.
- – Как на огороде
- Расцвела морковь,
- А в моем народе
- Выросла любовь…
«А что? – подумал былой гостеприимец. – Складно! И уху приятно, и сердцу…»
- – Выросла обильно,
- Радуя народ,
- Как ее ни били,
- А она растет!
Тут байкарь заметил Ложечника и застеснялся. Сделал вид, что так, шутит. Даже руками широко развел: сам видишь, какие глупости!.. В другое время Юрась поддержал бы: мол, глупости! Да только представил, как над его гробом и этот толстый песни распевает…
– Еще пой! – сказал Юрась, садясь рядом. – Хошь, я тебе пива спрошу? – И добавил, чувствуя, как сразу полегчало: – Я сердечные песни страсть как люблю!
– Трудно мне, – пожаловался Кемуль. – Я ведь сирота! Папки-мамки нет, деда-бабки нет… Жениться забоялся. Кого мне любить, а? Трактирщика? Ну, кашу я люблю. С телячьими мозгами. Так каша, пожалуй, не в счет. Вот и не складывается про эту… про телячью…
И задумался, напевая:
- – У любви есть крылья,
- У любви есть… э-э…
– Хвост! – подсказал Юрась.
– Хвост? – засомневался байкарь.
– Ага! Красивый такой, пушистенький…
– Ну допустим…
- – У любви есть крылья,
- У любви есть хвост,
- Пусть ее забыли…
– Лезет в полный рост!
– Да? А что, разумно…
Честное слово, Юрась Ложечник чувствовал себя счастливым.
Домой он вернулся к обеду. Жена сидела во дворе, перед битыми баклушами, и сосредоточенно резала уже третью ложку. Получалось красиво: с ручкой в виде свитых вместе хвостов. Вспомнив про «хвост любви», Юрась растрогался. Тихонько подкравшись к супружнице, он присел рядом на корточки.
Притих, думая о чем-то странном.
Сам не заметил, как погладил жену по тощей спине.
– Иди есть, – ответила жена. – Стынет.
– Успеется…
– Горячее для брюха полезней.
– А, моему брюху хоть гвоздь давай! Слушай, а почему у нас детей нет?
Не прекращая работы, жена пожала плечами.
– Кто его знает, Юрась. Не сложилось. А может, я пустая.
– Полно языком молоть! Пустая она! Такая лапушка, и пустая!
– Ты-то у нас орел…
– Где там орел… Петух я драный!
– Я ж помню. Бил девок, как кречет уток. Меня в лещину заволок, глазом моргнуть не успела. Маманя ругалась, говорила: обманет, не женится… А ты взял и ей назло женился.
– Будут, – уверенно заявил Ложечник. – Я тебе точно говорю: будут дети. Мы с тобой еще совсем молодые…
И с пронзительной ясностью увидел, как обещанный на завтра гроб тает в тумане.
На рассвете следующего за Гурьиным дня Баська Хробачиха, главная поселковая сплетница, ринулась в обход.
– Как дела?! – кричала она, притворяясь глухой. – Ась?
Дела-то как?!
Кликуша останавливалась у каждой хаты.
– Как дела, Янчик? А у Ирмы как дела? А детки что, здоровы?
Вслед Баське лаяли собаки. Кто-то бранился спросонок. Кто-то отзывался сразу, кто-то – погодя. Старая Сычиха бросила в кликушу мокрой тряпкой. Юрась пообещал вытянуть кнутом. А Баська все неслась как оглашенная, все голосила:
– Как дела, Семочка? Как дела, Темочка?
Плевать ей было на чужие дела. Просто до смерти хотелось знать: кого будем сегодня хоронить? К сожалению, по всему выходило, что никого.
– Как дела, Кемочка?
– Не дождешься! – напрямую ответил байкарь Кемуль. И вслух подумал, глядя на Хробачиху: – А ведь и эта шишига кого-то любит. Раз жива покамест…
– Сплетни она любит, – буркнул хмурый трактирщик.
Вчера вечером он устроил всем посетителям праздничную скидку. Сегодня эта идея уже не казалась ему столь привлекательной.
– Нет, – не согласился Кемуль. – Сплетни, они не в счет.
* * *
…Малефик вздохнул и отпустил пратеритные нити.
Прошлое начало таять, глубоководной рыбой возвращаясь в пучины человеческой памяти. Прошлое устало ничуть не меньше мага. Сперва тебя без лишних церемоний извлекают на поверхность, где ты чуть не лопаешься мыльным пузырем; затем отряхивают пыль, вертят, разглядывают со всех сторон… И не захочешь, а утомишься. Фигуры Никлаша Тесли, пьяницы Сыча, Темки с Семкой, Баськи Хробачихи истончились, делаясь прозрачными…
Исчезли.
Вместо прадедов и прабабок во дворе стояли правнуки и правнучки. Пришли все, кого звали. Никто не увильнул. Правда, их воспоминания мало что добавили к картине, возникшей перед малефиком во время рассказа Юрася Ложечника.
Люди с надеждой смотрели на столичного гостя. Магистра Высокой Науки, мага высшей квалификации. Люди ждали его слова. Вердикта. Приговора. Черты под сотней проклятых лет.
А маг медлил.
Выходя из транса, он успел прощупать складки Вышних Эмпиреев над поселком. А кое-какие замеры сделал еще утром, на подъезде к Ясным Заусенцам. Результаты наблюдений лишь подтвердили то, в чем малефик не сомневался с самого начала.
Но озвучивать выводы он не спешил.
– Так что, мастер? Эта… Изучили? – не вытерпел наконец староста.
– Изучил, – кивнул Андреа Мускулюс.
– И… как? Выветрилось?
– Сгинуло?
– Выдохлось?
Малефик самую малость – чтоб не сглазить кого ненароком! – приоткрыл третий глаз: «вороний баньши». Когда он хмуро обвел собравшихся взглядом, люди попятились. Строгалей мороз продрал по коже. Но ретироваться никто и не подумал.
Все жаждали узнать ответ.
– Вы б язычки-то попридержали, любезные! Выдохлось? Сгинуло? Проклятие великого – нет, величайшего! – Нихона Седовласца? Губителя Жженого Покляпца?! Изобретателя скреп-горгулий?! Вы меня изумляете…
Строгали опустили взоры.
– Он вашим предкам что сказал? «Пусть тяготеет до скончания веков!» А Нихоново слово – тверже камня. Уж я-то знаю! У меня и диплом, и диссертат…
– Эх! – зашептались в народе. – Вона!
– Слыхала, Малася?
– Ага. Как сказал, значит, так и будет.
– До скончания? Это сколько: до скончания?..