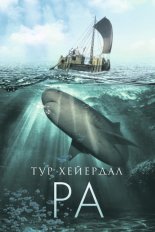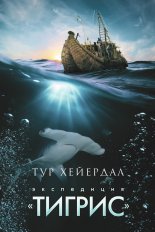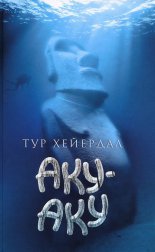Своя Беда не тянет Степнова Ольга
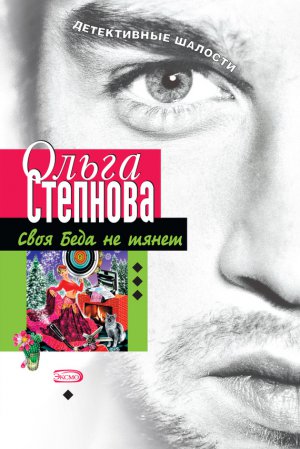
— Я тут похозяйничал немного, — смущенно сказал Женька, и я обнаружил, что чайник уже горячий, буржуйка растоплена, а в жестяном баке умывальника свежая порция воды, налитой из ведра, которое я каждый вечер приносил с собой из школы.
Я посмотрел на мужика. Здоров он был сильно: ростом с меня, широченный в плечах, костистый; лет ему было, не поймешь сколько: может, тридцать, а может, шестьдесят. Он снял сапоги и телогрейку, остался в растянутом свитере и босиком.
— Только ни заварки у тебя, ни кофе, — сказало чудовище по фамилии Возлюбленный. — Все баночки пустые. Что, хреново сторожам платят?
— Хреново, — согласился я и налил в граненый стакан кипяток из железного электрического чайника.
— А ты сахарку туда кинь, веселее будет, — посоветовал Женька. Говорил он с трудом из-за разбитого рта, но советы давал охотно.
Я взял из коробки два куска рафинада и алюминиевой ложкой размешал его в кипятке.
— Присоединяйся, — позвал я Возлюбленного разделить со мной трапезу.
Он шагнул к столу, взял железную кружку и повторил мои манипуляции с кипятком и сахаром.
— Да, — вздохнул он, отхлебнув кипяток, — скуден быт доблестных сторожей.
— Я учитель, — счел нужным я на этот раз поправить его, и достал из шкафа пакет с сушками. Вообще-то по утрам я варю себе пакет геркулеса, но сейчас на это не было времени. Женька взял одну сушку и бросил ее в кружку с кипятком. Я усмехнулся потихоньку — с его зубами только манку-размазню хлебать.
— Скуден быт самоотверженных учителей, — сказал Женька, жадно рассматривая, как набухает в кипятке сушка.
— А ты знавал лучшие времена? — хмыкнул я.
— Хочется сказать, что да, но придется признать, что нет. — Для своего бомжеватого вида он очень витиевато выражался. — Но я точно, брат, скажу: стакан кипятка и крыша над головой — это уже хорошо.
— У тебя все цело — руки-ноги? Кто тебя такого коня так уделал? Ты что, не отбивался?
— Так пацаны, дети еще! Я если такого пацанчика ударю, даже вполсилы — убью сразу! Подошли, говорят, дай, батя, курить! А я уже год не курю — не на что! — он гоготнул. — Так и сказал, не курю я, пацан, и тебе не советую. Их трое подошло, а потом человек пять еще откуда-то налетело. И столько в них злости! Не столько силы, сколько злости! Повязки какие-то белые на рукавах, на них черный крест нарисован. С ног меня сбили, пинать начали. Я думаю, если задену кого — сяду потом, у них мамы-папы, а я — бомж, хоть и Возлюбленный, но отброс общества. Поднялся я на корточки и побежал, сначала на четырех, потом на двух. Слышу, они сзади догоняют и орут кому-то: «Игореха, стреляй!» И ведь, правда, пальнули, гады, только темно, промазали. Гнались они за мной метров двести. Стрелять больше не стреляли, но гнались. Я уже все, думаю, выдохся. У меня ноги больные, почки они отбили, глаза кровью залило, не вижу ничего. Тут смотрю, забор высокий, я через него и перемахнул. Думаю, раз забор, может, охрана какая есть. Слышу, сзади кричат: «Отбой, пацаны, там Дрозд в сарае, он от бабы своей свалил!» Я до кустов добежал и сознание потерял. — Он потер заскорузлой ладонью-лопатой висок. — Сотрясение у меня, наверное, ну ничего, оклемаюсь, да пойду потихонечку.
То, что я услышал, мне не понравилось настолько, что расхотелось и пить и есть.
— Дрозд в сарае — это ты? — спросил Женька.
Я кивнул. Хоть я и стал официально Глебом Сазоновым, погоняло Дрозд, данное мне детками, когда я был Петром Дроздовым, приклеилось ко мне намертво.
— Будем знакомы, — тоже кивнул Женька и посмотрел на меня, странно вывернув шею, как косые люди рассматривают иногда вблизи предмет. Я не сразу понял, что он так смотрит на меня, потому что левый глаз у него не открывался вообще, превратившись в синюю сливу, а правый он все-таки раздирал в узкую щель.
Женька вилкой подцепил размокшую сушку и закинул ее в несимметрично открывшийся рот. Я отвел глаза и не стал смотреть, как беззубый Возлюбленный справляется с размоченной сушкой. Кстати, для беззубого человека он на удивление чисто говорил — не шепелявил, чудом выговаривая все буквы, не коверкал слова.
Я отвел глаза и задумался. Мне было о чем подумать. Из рассказа Женьки следовало, что на него напали и избили подростки. Подростков было человек восемь, и на рукавах у них были белые повязки с черным крестом. Одного из них звали Игорь, и у этого Игоря было огнестрельное оружие. Подростки не рискнули преследовать Женьку на территории школы, потому что знали, что «Дрозд в сарае, он от своей бабы свалил». Значит, подростки эти учились в моей школе. Или, по крайней мере, некоторые из них.
Неделю назад, когда в городе начались первые толчки, в школу пришла Ритка Грачевская, инспектор по делам несовершеннолетних, курировавшая нашу школу. Всегда подтянутая и веселая, Ритка была встревожена, не накрашена, и чем-то сильно расстроена. Она была в форме капитана милиции, хотя редко ходила в погонах, предпочитая узкие брючки и свитера.
— Слышь, Петь, — начала она.
— Глеб, — поправил я, не собираясь мириться с не своим именем.
— Глеб, — кивнула Ритка. — Пойдем в учительскую, поговорить надо.
Мы устроились в учительской, Ритка в дерматиновом кресле, я — верхом на стуле, спинкой подперев подбородок. Я никогда не видел Ритку в таком виде, поэтому приготовился к тому, что не услышу ничего хорошего.
— Петь, тьфу, Глеб, тут такая история, вся инспекция на ушах стоит! У нас, конечно, план на группировки, и в некотором смысле для нас это подарок для галочки, но такое…!
— Какой Галочки? — испугался я. — Скинуться что ли надо?
— Галочка, Глеб, тьфу, Петь, это отметка в отчетности, усек? Понимаешь, — Ритка достала из кармана кителя пачку дешевых сигарет и спросила:
— Можно?
— Кури, — кивнул я и открыл фрамугу, впустив в комнату поток морозного воздуха.
— Понимаешь, как это ни несуразно звучит, у нас в инспекции существует план, его спускают сверху, и зачастую, чтобы поставить галочку о проделанной работе, на какие только ухищрения не приходится идти! Наши иногда писающего пацана в кустах ловят и тащат на учет ставить, для галочки. Но самое ужасное, это план по группировкам. Где взять преступные группировки подростков для галочки, если их нет? Вот мы их и выдумываем, чтобы наверх отчетность отправить. Иногда до смешного доходит. Идешь на дискотеку дежурить, смотришь, ага, Вася Пупкин поздоровался за руку с Ваней Попкиным — ура, группировка! Парням потом в армию идти, в институт поступать, их любой по компьютеру пробьет — бац! — член преступной группировки. Мы-то, инспектора, знаем, что это фигня полная, но для других — член! Короче, кроме придуманных, не было у нас группировок, хоть тресни! До недавнего времени. И вот неделю назад в городе началось такое! Слышал про Андрея Хабарова?
Я кивнул. Слышал я про Андрея Хабарова, жуткая история. Он учился в соседней шестой гимназии, в одиннадцатом «а». Недели две назад город облетела новость, которая повергла в шок не только взрослое население, но и самых невпечатлительных деток. Хабаров пригласил свой класс на загородную дачу родителей, чтобы отпраздновать день рождения. Поздно вечером подвыпившие подростки возвращались в город и пошли на электричку. Хабаров со своей девчонкой решили не подниматься на мост вместе со всеми, а пошли через пути. Встали на рельсах, чтобы пропустить встречную электричку и не заметили, что сзади идет товарняк. Машинист товарняка сигналил отчаянно, но парень, решив, что гудит электричка, оттащил девчонку назад, под колеса товарняка. Машинист предпринял экстренное торможение, но было уже поздно. В последний момент Андрей понял, что происходит, и буквально выкинул девчонку из-под поезда. Она осталась жива, Хабаров погиб. Все это видели его одноклассники с моста, и они поделились на тех, кто забился в истерике, и тех, кто буквально отскребал Андрея от поезда. Трагедия эта потрясла весь город и почему-то обросла такими подробностями, которые превратили Андрея в безусловного, стопроцентного героя, пожертвовавшего собой ради любимой девушки.
— Так вот, — продолжила Ритка, — спустя несколько дней, после того, как шестая гимназия отрыдала на похоронах Хабарова, в городе стали твориться странные вещи. Вечером, когда стемнеет, на улицах появляются группы подростков с белыми повязками на рукавах, на которых нарисован черный крест. Они нападают на людей с криками: «Ты, гад гнилой, живой, и, падла, землю топчешь, а Андрюха, молодой, здоровый, в земле гниет, червей кормит!» И нападают они, главное, только или на пожилых, подвыпивших, с виду бомжеватых людей, или хромых, увечных… Двое из них уже умерли в больницах от побоев, успев перед смертью рассказать, кто их избил, но описать никого не смогли: темно было, подростки все на одно лицо, в черных, надвинутых на глаза шапочках…
— Вот тебе и подарок для галочки, — я озадаченно почесал затылок. — Ты считаешь, что в этой компании есть и мои охламоны? Голову даю на отсечение, моих там нет!
— Верю, — кивнула Ритка. — Только что у тебя там с мужским одиннадцатым «в»? Ведь это бывшая восьмая гимназия, которая по соседству с шестой, очень уж они там между собой дружили…
Я снова почесал затылок и еле удержался, чтобы не попросить у Ритки сигарету.
В середине учебного года приключилась грустная, но забавная история. Одна из гимназий — восьмая, вдруг получила вожделенный статус «женской». Не в силах ждать следующего года, дирекция и учителя, в порыве творческого вдохновения, взяли и расформировали классы, а точнее, отправили всех своих мальчиков подыскивать себе новые школы. Превращение восьмой гимназии в «женскую» было обставлено с помпой, как очень важное событие в городе. Неделю все средства массовой информации умильно рассказывали и показывали, какое уникальное учебное учреждение появилось в городе. И форма-то у девочек: пилоточки, галстучки, манжетики; и предметы-то: кулинария, танцы, этикет. Вот только к директорам других школ зачастили замотанные мамаши, умоляя их взять доучиться своих сыновей хотя бы до конца года.
После того как я был схвачен за руку в коридоре очередной взмыленной родительницей, я пошел с ней к Ильичу и убедил его набрать пару старших и пару младших классов из мальчиков, пообещав, что буду вести у них почти половину предметов. Ильич повздыхал, поохал, намекнул на прохудившуюся крышу, старые трубы и отсутствие в школе евроремонта, но пообещал что-нибудь придумать. После этого я каждую родительницу тащил к нему, и он, покивав, посочувствовав от души, в конце беседы с хитрым видом двигал по столу бумажку, где был распечатан расчетный счет, на который нужно было перечислить деньги на ремонт крыши и замену гнилых труб. Еще совсем недавно Ильич беззастенчиво брал родительские деньги налом и прятал в сейф, но с тех пор как по телевизору часто зазвучали слова «операция чистые руки», он, не разобравшись, что они имеют отношение только к правоохранительным органам, срочно сменил схему взимания «спонсорской помощи» с родителей. Если же какой-то родитель все же сильно желал расплатиться немедленно и наличными, то Ильич под диктовку заставлял писать его расписку о том, что деньги переданы школе «строго добровольно, в качестве спонсорской помощи». Когда я первый раз прочитал такую расписку, то чуть не помер со смеху — внизу была приписка: «данная расписка написана по собственному желанию, без всякого принуждения».
Ильич, озадаченный моим хохотом, осторожно спросил:
— Что, Петька, что-то не так?
— Глеб, — поправил я. — Глеб, Владимир Ильич. Все, в принципе, так.
— Ну и ладненько! — довольно потер Ильич коротенькими ручками.
В общем, появилось в нашей школе, в середине учебного года четыре мужских класса — пятый, четвертый, восьмой и одиннадцатый. В одиннадцатом «в» я взял на себя классное руководство, хотя мне выше крыши хватало моего неблагополучного десятого «в». С родительских денег, собранных в честь такого прибавления, я отжал у Ильича средства на оборудование в школе тира, убедив его в том, что ни в одной школе военно-патриотическое воспитание, входящее в программу предмета ОБЖ, не будет обставлено с таким размахом. Я две недели ездил ему по ушам фразой «патриотическое воспитание требует применения различных форм и методов работы». Наконец, он завопил: «Делай, как хочешь, только отстань!» и выдал деньги на тир. Ни в одной школе не было тира, а в нашей был. Я страшно этим гордился.
— Значит, ты считаешь, что твои парни здесь не при чем? — спросила Ритка.
Я вскочил со стула и заходил по учительской. Все это мне очень не нравилось.
— Понимаешь, Ритка, я считаю, что парни из одиннадцатого «в» не могут быть при чем. Исключительно благополучные дети. Они, скорее, сволочные карьеристы, чем ночные разбойники. У них в голове только отличный аттестат, хорошие характеристики и набор экзаменов, которые нужно сдавать. Нет, никто из них не подходит на роль мстителя. Нет, — подумав, отрезал я, — никто не подходит. А почему есть подозрения на моих?
— Да нет особо никаких подозрений, — вздохнула Ритка. — Никто из избитых не может описать нападавших подростков. Люди-то, как правило, пожилые, больные, иногда подвыпившие. Твердят только: белые повязки с черными крестами.
— Я понаблюдаю за новенькими, — пообещал я, чтобы успокоить Ритку.
— Понаблюдай, Дроздов!
— Сазонов.
— Тьфу, да какая разница! Тебе легче на Дроздова откликаться, чем всех переучить!
— Мне, Ритка, легче переучить, чем откликаться.
— Ну, ладно, — Ритка затушила сигарету и встала. У нее был такой несчастный вид, что я не удержался и спросил:
— Что, сильно от начальства влетит, если с группировкой не разобраться?
— Не то слово, — Ритка снова села и вытянула из пачки еще одну сигарету. — Не то слово, Дроздов, тьфу, Сазонов! Галочка галочкой, а группировку мы должны обезвредить. Дается установка на дискредитацию лидера.
— Это как?
— Чтобы разбить группировку, нужно выявить лидера и дискредитировать его в глазах членов группы.
— Это как?
— Обычно, это наговор на лидера. Работаем с операми из уголовки. Они вызывают пацанов к себе и говорят, что их любимый Вася Пупкин дал показания, всех сдал, и машут перед носом мифическим протоколом допроса. Иногда получается — пацаны ломаются и начинают колоться. Иногда начинаем работу с родителями. Узнаем, есть ли бабушки-дедушки где-нибудь в деревне и просим на время отправить чадо к ним в гости. Иногда тоже получается. Все в гостях — и нет группировки.
— Ясно. А за галочку премия? — усмехнулся я.
— Какая к черту премия. Если ты группировку разбил, тебя, по крайней мере, не…
Ритка не успела закончить глагол, который не имел права звучать в стенах школы, но очень точно отражал сущность работы инспектора по делам несовершеннолетних и его отношения с начальством.
Фрамуга задребезжала шатким стеклом, на столе забряцали карандаши в стакане. Ритка вскочила, и, не затушив сигарету, бросилась к двери.
— Опять трясет! Давай быстрей эвакуироваться, Дроздов!
— Сазонов, — поправил я и пошел за ней.
— Один хрен, эвакуация, — пробормотала Ритка. Стремительно добежав до гардероба, она схватила свою шубу и, поднабрав еще скорости, первой выскочила из школы. Я видел, как она понеслась к своей крошечной «Оке», припаркованной у школы.
Выслушав рассказ Возлюбленного, я понял две вещи: по крайней мере, один из нападавших был из моей школы, по меньшей мере, имя одного из группы мне известно — Игорь. «Игореха, стреляй!»
Женька встал из-за стола, достал из-под лежака какое-то свое тряпье и, обмотав им ноги как портянками, напялил кирзовые сапоги.
— Ну, спасибочки, — сказал он и взял со стула замусоленную телогрейку. — Пойду я.
— И куда ты с такой рожей? — хмуро спросил я. — Тебя сразу в ментовку заметут и навесят все глухари за последние полгода. Для галочки.
Женька натянул на себя женскую трикотажную шапочку, островерхую, с немыслимым ярким узором.
— Да не, я дворами пойду, доберусь до домов двухэтажных, деревянных, там замков кодовых на подъездах нет, и подвалы — роскошь, а не подвалы, теплые, с электричеством, и наших там еще нет, не расчухали. Я, можно сказать, единственный квартиросъемщик. Пойду я потихонечку, жаль, что только спасибо тебе и могу сказать. — Он несимметрично улыбнулся своей распухшей, лилово-синей физиономией, помахал мне рукой-лопатой и вышел за дверь осторожно и быстро, чтобы не впустить в комнату холодный воздух.
Нужно повесить в дверной проем брезентовую штору, чтобы мороз не лез, когда дверь отрывается, подумал я и вылил сахарную воду из стакана в помойное ведро под умывальником. Давно у меня на душе не было так паршиво.
Я вышел на крыльцо и посмотрел Возлюбленному в след. Он шел медленно, нелепо размахивая руками, высоко и неуклюже поднимая ноги, словно боясь повредить свежевыпавший снег.
Он был страшен как смерть, этот Женька Возлюбленный. Он был плохо одет. От него пахло сырым подвалом и немытым телом. Он возбуждал щемящее чувство вины, от которого хотелось вылезти из собственной шкуры. Хотя в том, что он стал таким, виноват только он, а никак не общество, и уж ни в коем случае не я. Если бы он попросил у меня денег, или хотя бы съел весь пакет сушек, это чувство вины, может, и не взяло бы меня за горло. Но он просто закрыл за собой дверь — аккуратно и быстро, чтобы в мое жилище не проник холодный воздух. И как это ни смешно, я почувствовал себя лично ответственным за его разбитую морду, отбитые почки, и то, что он чудом не замерз в кустах, потеряв сознание.
— Эй! — крикнул я Женьке. Он не понял, что это ему, и продолжал шагать, высоко поднимая ноги.
— Возлюбленный! — заорал я, и это слово странно прозвучало в пустом, заснеженном школьном дворе.
Женька застыл на секунду и резко обернулся.
— Куда ты шагаешь? — крикнул я, злясь на себя. — Ворота там. Ключ у меня.
— Да я перелезу, — махнул рукой-лопатой Женька. — Чего тебе бегать?
— Ходи сюда, — приказал я, и Женька потрусил ко мне, высоко задирая ноги в кирзовых сапогах.
— Ты бы, брат, зад не морозил, мне этот забор перемахнуть как два пальца… обплевать, — запыхавшись, сообщил он мне радостно.
— У тебя же почки отбиты и ноги болят, — буркнул я и пошел зачем-то к воротам, хотя ключей у меня с собой не было.
— Да ух ты господи, справился бы, — бежал за мной Женька вприпрыжку.
Мы подошли к воротам.
— Ключи забыл, — хлопнул я себя по карманам и пошел обратно в сарай.
Женька попрыгал за мной.
— Да через забор я, чего ноги топтать…
В сарае я взял ключ от ворот, положил его в карман, но никуда не пошел, а сел на лежак. В конце концов, подумал я, я в этом сарае только ночую. Ну, иногда между уроками прибегаю сюда, чтобы попить кофе или чай — уж больно они в столовой паршивые.
— Знаешь, — сказал я Женьке, — я в этом сарае только ночую. Иногда кофе пью днем. Куда ты попрешься с такой рожей? Оставайся.
Женька вытаращился на меня глазом, который мог открыть.
— А можно? — шепотом спросил он.
— Я же говорю, оставайся, — раздраженно ответил я. Терпеть не могу чувствовать себя благодетелем. Не дай бог, руки кинется мне целовать. Но Женька не кинулся. Он сказал:
— Ты это, не думай, я не нахлебник. Если в школе чего надо… Хочешь, я территорию от снега чистить буду?
— Хочу, — сказал я. — Принесу тебе из школы лопаты. Ты только пока не высовывайся с такой рожей. Тут дети ходят, и учительницы… того, дамы все-таки.
Женька закивал и стал усиленно тереть свой единственный худо-бедно открывающийся глаз. Я испугался, что его прошибла слеза, схватил ключ от школы и выбежал из сарая.
Я люблю школу утром. Когда коридоры пустые, звуки шагов гулко отлетают от стен и уносятся вверх, на третий этаж. Когда технички гремят ведрами и возят мокрыми тряпками по полу, делая его блестящим и чистым, словно миллион ног не носились по нему вчера вечером. Я чувствую себя королем в этой утренней, пустой школе, и жду, когда хлопнет входная дверь, и первые ученики поднимут гомон в раздевалке. Девчонки оккупируют все зеркала, а пацаны походят-походят, да найдут повод начать дружески-боевые действия друг с другом. Я очень люблю школу утром. Только утром тут бывает какой-то особенный запах, до сих пор не знаю, что это такое — может, это просто запах свежевымытого пола? Только утром бывает ощущение, что новый день принесет что-нибудь неожиданное и приятное. Например, охламоны из десятого «в» выучат, наконец, по датам ход Великой Отечественной войны, а то беда у них с датами. Я с трудом смог вдолбить им сорок первый и сорок пятый года, остальные же вехи этой войны они озвучивают даже с цифрой «тысяча восемьсот». В общем, есть, над чем работать. И это радует.
Открыв школу, я стал командовать техничками, распорядившись, особенно тщательно промыть спортзал и помещение тира. Тиром я особенно дорожил. Пацаны визжали от восторга, когда помогали мне его обустраивать — продумывать ловушки и отражатели для пуль, устанавливать мишени. Помещение под свою идею я выклянчил у Ильича на первом этаже, и все, что было связано с тиром, обставил особой, важной атрибутикой: оружие выдавалось только под роспись, комната была на сигнализации, на двери дорогущий кодовый замок. А также я взял за правило каждый раз, когда закрывал тир, опечатывать его.
Я содрал бумажную полоску с двери, открыл замок, и впустил в тир техничку с ведром и шваброй. Мытье полов здесь происходило исключительно под моим присмотром.
— И чего ты меня всегда караулишь? Что, думаешь, я твои ружья попру и торговать ими пойду? — раздраженно проворчала под нос баба Капа, начиная возить плохо отжатой тряпкой по полу.
— Тряпочку получше отжимайте, — посоветовал я ей. — Каждый должен делать свое дело хорошо.
— Вот и делай. Я же не учу тебя патроны вставлять.
— И слава богу, что не вы меня учите вставлять, только тряпочку все равно получше отжимайте, а то сохнет долго и разводы остаются.
— Это у тебя разводы, а у меня — узоры, — пробурчала баба Капа.
Странные люди, эти женщины. Даже если ей без двух дней сто лет, даже если ей можно играть Бабу Ягу без грима, и даже если ее статус определяет ведро и тряпка, все равно последнее слово должно остаться за ней. Бабе Капе плевать, что я не последнее лицо в школе, правая рука директора, и вообще, незаменимый человек. Она тоже и правая рука, и незаменимый человек. Потому что, помыв полы, бежит вниз, исполнять обязанности гардеробщицы. А кто пойдет махать тряпкой за пятьсот рублей в месяц, а потом весь день таскать тяжелые дубленки учеников за то же количество рублей?
Я промолчал, не дав ей больше возможности тренировать свое остроумие. Устал я от женского юмора.
Дождавшись конца уборки, я закрыл тир и пошел в учительскую. Там, у зеркала, уже крутилась новая учительница рисования и музыки Марина Анатольевна. Она устроилась в школу недавно и была самой молодой, самой хорошо одетой, самой стройной и самой красивой учительницей города. Еще она была самой натуральной блондинкой, и никогда не закалывала длинные волосы. По-моему, она искренне не понимала, почему я — единственный в школе мужик востребованной внешности и возраста, до сих пор не извелся от любви к ней. Впрочем, сегодня она пошла на абордаж.
— Глеб, — намеренно грудным голосом обратилась она. Марина была единственным человеком в школе, который никогда не называл меня Петей, потому что в школу пришла, когда я уже стал Глебом. — Глеб, я зацепилась. — Она подергала задранной вверх рукой.
Я посмотрел, за что она там зацепилась, и вынужден был признать, что самая-самая не врет. На запястье у нее красовался золотой браслет, а на нем висюлька — якорек, выполненный до безобразия натуралистично, с запилами в виде рыболовных крючков с обеих сторон. Этими крючками она намертво запуталась в своих распущенных волосах. Может, она и специально это сделала, но не оставлять же девушку с задранной рукой ходить по школе. Я стал осторожно отцеплять якорь, распутывая светлые волосы.
— Глеб, ты не знаешь, какой идиот утащил с подоконника мой кактус? Это очень редкий вид, ему нужна солнечная сторона и особый режим полива. Я принесла его из дома, потому что у меня все окна на север, вдруг смотрю, нет моего кактуса.
— Не знаю, — пожал я плечами. — Мне показалось, он вечно сухой, думал, может, домой кто забрал поухаживать.
— Поухаживать! — фыркнула Марина. — Зальют ведь, заразы! Его зимой ни в коем случае нельзя поливать. Тогда он зацветет. Раз в сто лет.
— Можно не дождаться, — вздохнул я, борясь с паутиной светлых волос.
— А может, повезет, — продемонстрировала Марина оптимизм, легкость характера и добрый нрав, чуть приблизившись ко мне, но я сделал вид, что не заметил маневра.
Я тянул очередную длинную светлую прядь, когда дверь учительской открылась. Я обернулся и увидел на пороге… Беду. Тонкая дубленочка распахнута, джинсы заправлены в сапоги на шпильке, короткие волосы вздыблены каким-то особым, художественным, дорогим манером, и очки — она подхватила их мизинцем, словно надеялась, что все увиденное ей просто померещилось без нужных диоптрий.
Сердце мое забыло, что должно биться. Я отбросил Маринины волосы, будто случайно схватил оголенный провод, и не придумал ничего лучшего, как вытереть вспотевшие ладони о штаны.
— Ну, ну, — сказала Беда.
— Ну и ну, — добавила она.
— Ну-ну, — заело ее как кучера в разговоре с норовистой лошадью.
— Это Марина, — сказал я зачем-то.
— Ну-ну, — Беда стащила с носа очки, сдула с них воображаемую пыль и закрыла дверь. В коридоре раздались ее энергичные шаги.
— Что это за дылда? — спросила самая красивая учительница города.
— Это моя жена.
— Ой.
— Ничего, — простил я ее и помчался вслед за Бедой.
Не заладилось, думал я, скачками преодолевая расстояние до лестницы.
— Эй! — крикнул я ее дубленочной спине. — Стоять!
Она послушалась и, не оборачиваясь, спросила:
— Ну?
— Это Марина, — опять брякнул я. — Баковая группа.
— Какая?
— Швартовая. Якорь у нее там.
— Где?
До сих пор я считал, что она понимает мои шутки, но…
Не заладилось, снова подумал я.
— Не делай гнусных намеков.
— Я?! — она захлебнулась возмущением, обернулась, и уставилась на меня.
— Это Марина, — снова зачем-то сказал я, словно это имя стопроцентно меня оправдывало.
— Мне нет дела, как зовут твою швартовую группу, — с металлом в голосе сказала Беда, развернулась и умчалась по ступенькам вниз, оставив в воздухе аромат незнакомых, дерзких духов.
Я не стал ее догонять. Я гордый. Я надоел и я ушел.
Права была баба Капа — у нее узоры, а у меня разводы.
Какого черта Беда приперлась в учительскую?! Она никогда не приходила в школу, только в сарай.
Я вернулся в учительскую и выплеснул злость на Марину.
— Ты это, монисты попроще на себя цепляй. А то, не дай бог, где-нибудь в уединенном месте зацепишься.
Но это было только начало дня. Перед тем как прозвенел звонок, меня схватила за руку Лилька-трудовичка. Неделю назад она вышла замуж и с тех пор ходила томная и загадочная.
— Петь, а Петь! Ты забыл закрыть свой сарай. Я видела. Шла мимо — замка нет.
— Я не Петь. У меня там нечего брать.
Лилька женственно пожала плечами и красиво пошла по коридору с видом пресыщенной женщины, которую мужики достали своей тупостью.
Навстречу мне из-за угла вылетел Ильич. Он был красный и тяжело дышал. У Ильича новый бзик — он решил худеть и укреплять сердечную мышцу. Ради этого он отказался от моих шоферских услуг, оставив свою «аудюху» в мое полное распоряжение. Теперь он встает ни свет ни заря, и в стиле спортивной ходьбы чешет от своего дома до школы. К школе он подходит уже никакой: красный как рак, ловит ртом воздух, кричит, что устал, как ломовая лошадь, плюхается в директорское кресло и кемарит в нем, пьет кофе и снова кемарит.
Ильич стянул с себя черную трикотажную шапочку, вытер ею вспотевшее, несмотря на мороз лицо, и сказал:
— Петька, у тебя сарай открыт. Я мимо пробегал, видел.
Не сбиваясь со спортивного шага, он направился в свой кабинет, мягко перекатываясь с пятки на носок.
— У меня там нечего брать, — сказал я ему в спину и не успел два шага сделать, как ко мне бочком подошла Машка-отличница. Она носила тугие косицы, несмотря на то, что училась в десятом, и всегда напрягала меня наивным взглядом.
— Глеб Сергеич, — робко начала она, — я шла в школу и обратила внимание, ну, в общем, я увидела, что ваше жилище не закрыто. Обычно там висит замок, а сегодня… Наши ребята, конечно, хорошие, не залезут, но из других школ такие заходят…
— Спасибо, Маша, — прервал я ее, и решил, что после первого урока обязательно закрою Женьку на замок, иначе мне житья не дадут.
Ситуация с Бедой мне не давала покоя. Было ощущение, что я проглотил пчелу и она жалит меня то в желудок, то в печень, то в сердце. Я кое-как объяснил восьмому классу новую тему и твердо решил, что на перемене позвоню Беде. Зачем она приходила в учительскую? Выяснять отношения не в ее правилах. Она скорей заведет любовника и вычеркнет меня из своей жизни, чем будет ковыряться, кто и в чем был не прав. В крайнем случае, она выплеснет эмоции на бумагу, потому что все свободное время пишет свои романы, но припереться ко мне на работу, зная милый нрав, цепкий взгляд и вездесущие уши женского коллектива… Я твердо решил позвонить Беде.
На перемене в учительской было не протолкнуться. Естественно, мне не захотелось радовать трудовой коллектив разговором со своей бывшей женой. Я покрутился немножко с деловым видом и пошел в директорский кабинет.
— Ильич, — сказал я, — мне нужно сделать очень личный звонок!
— Здрасьте, жопа! — Ильич оторвался от компьютера, и уставился на меня осоловелыми глазами. Раздался виртуальный взрыв. — Сколько раз тебе говорить, купи мобилу! Мобилы есть даже у уборщиц и детей третьих классов. А ты — здрасьте, жопа! — очень личный звонок!
— Очень личный, — подтвердил я.
— Нет! — Ильич по-бабьи схватился за виски. — Никуда из кабинета не пойду. Я устал. На, — он протянул мне свой мобильник, — позвони. Вычту потом из зарплаты.
Я взял телефон и пошел в мужской туалет.
В туалете никого не было. Я ввел моду в своей школе на здоровый образ жизни, поэтому пацаны заходили сюда только по честной нужде, а не покурить и поширяться. Я потыкал кнопки, набирая номер, который без запинки произнес бы и во сне, несмотря на то, что в нем было десять цифр. В отличие от меня, у Беды был мобильный.
— Да! — рявкнула она в трубку, и я понял, что настроение у нее не радужное.
— Это я, — только и смог сказать я, в очередной раз признавая, что она действует на меня, как удав на кролика.
— Здорово, ангел мой, — вдруг пропела она, — ты когда сегодня освободишься?
— Ты переигрываешь, — прошипел я, от злости чуть не укусив серебристую трубку.
— А, это ты, — старательно сыграла она разочарование.
— Ты зачем приходила сегодня?
— Я?! Да просто ехала мимо, смотрю, твой коттедж не закрыт, замок не висит, швейцар не стоит, а ты по времени уже должен быть в школе. Думала у тебя опять утренний приступ забывчивости.
— У меня там нечего брать, — сказал я и понял, что не должен был звонить. Теперь счет стал не в мою пользу.
— Не скажи, — усмехнулась она и отсоединилась. Она набрала себе кучу очков тем, что первая отсоединилась. От злости я швырнул трубу на пол.
«Не скажи», усмехнулась она.
Она одна знала, что в сарае есть тайник и в тайнике лежит «ствол». Она одна знала, что, разгребая свои прежние делишки, я не смог, не захотел от него избавиться, и предпочел хранить оружие под половицей у изголовья лежака, чем превратиться в до конца законопослушного гражданина и учителя. Сейчас пойду и навешу на сарай амбарный замок. Мне все надоели. Я устал. Как Ильич.
Я наклонился и стал разыскивать на полу телефон. Я хотел рассмотреть его останки, чтобы с зарплаты купить Ильичу такой же. Ну, или с пяти зарплат. Телефона нигде не было, и я заглянул под батарею. Там лежала пустая пластиковая бутылка, в каких продают минералку. Я вытащил ее, еще больше свирепея от злости на засранцев-учеников и лентяек-уборщиц. Я хотел швырнуть бутылку в урну, но заметил, что это странная какая-то бутылка. У нее было срезано дно и вместо него внутрь вставлен полиэтиленовый мешок, к мешку привязан шнурок, горлышко вместо пробки запечатывал наперсток. Это была какая-то приспособа: бутылка воняла гарью, была закопчена, видно было, что ей пользовались совсем недавно. Ничего хорошего эта находка означать не могла.
В моей школе не курят, в моей школе не пьют — это культ, это стиль, это образ жизни, примером которого стал я сам. Когда я понял, что дети — и старшие и младшие, смотрят мне в рот и во всем подражают, я завязал с вредными привычками. Я бросил курить, я не пью даже пива, я своим примером доказал, что сильному и свободному человеку не нужны никакие допинги. И они мне поверили.
И вдруг — эта бутылка.
Я понюхал ее, запах резкий, сладковатый, я не знаток, но, кажется, так пахнет травка. От злости я ударил кулаком в кафельную стенку, чуть не сломал пальцы и выскочил из туалета, забыв про телефон. Я помчался к Ильичу, словно сзади меня подгоняли палками.
— Это что? — сунул я ему под нос сооружение.
Он сфокусировал на нем взгляд и прилежно ответил:
— Бутылка. С мешком и наперстком.
— Я вижу, что это не флакон духов. Что это?! — чуть не заорал я.
— Не знаю, — пожал плечами Ильич. — Бутылка. Не духи, конечно, но… тоже воняет. Где ты ее взял, Петька?
Я дернул за шнурок, полиэтиленовый пакет с шумом выскочил наружу.
— Да не переживай ты так, — махнул рукой расслабленный Ильич. — Ты где работаешь? В школе. Этим уродам чего только в голову не взбредет. Если бы я на все так реагировал, то сдох бы давно. Выбрось и забудь!
Я развернулся и пошел из кабинета.
— Эй, Петька, а мой телефон?
— Я не Петька! — заорал я, хлопнул дверью, и пошел в туалет искать телефон.
Только я в школе мог так разговаривать с директором. Особенно он зауважал меня, когда я из Дроздова превратился в Сазонова. Я особо не стал объяснять ему подробности превращения, и, по-моему, он сделал вывод, что я ни больше ни меньше — тайный агент, и со мной лучше дружить.
Я на карачках облазил весь сортир, подключил двух пацанов, но мобильника так и не нашел. Видно, его прикарманил тот, кто зашел в туалет сразу после меня.
— Это что? — сунул я бутылку под нос двум восьмиклассникам, помогавшим мне искать телефон.
— Бутылка, — честно глядя мне в глаза, сказали хором они. — С мешком и наперстком.
Я треснул бутылкой себе по коленке и ушел. Пропавший мобильник меня волновал меньше, чем эта вонючая бутылка. Кто-то бросил мне вызов, а я понятия не имею, кто, и даже не могу разобраться в этих гнусных приспособах. Прозвенел звонок, но у меня было «окно». Я нашел на первом этаже пустое ведро, налил в него воды и пошел в сарай.
Возлюбленный ползал в углу, в руках у него была рулетка, он что-то вымерял.
— Слышишь, брат, — сказал он, когда я зашел, — ты так и не сказал как тебя зовут.
— Глеб Сазонов, — я поставил ведро около умывальника. — Помойся, там под столом таз есть.
Женька криво улыбнулся разбитым ртом.
— Я тут это, печку тебе положу, а то с буржуйкой — это не жизнь.
— Это что? — я поднес к его чуть приоткрытому глазу бутылку.