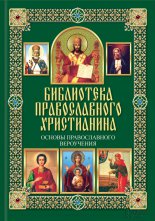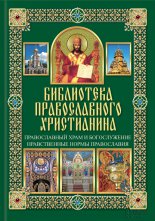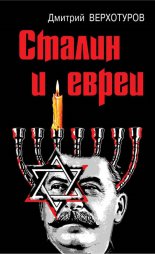Женщины в любви Лоуренс Дэвид

Затем его сердце наполнилось жарким желанием нежности. Он встал и взглянул ей в лицо. Оно было новым и о! удивление и страх озаряли его таким нежным светом. Он обнял ее и она спрятала лицо у него на плече.
Он чувствовал умиротворение, простое умиротворение, стоя на проселке и нежно обнимая ее. Наконец-то покой! Старый, отвратительный мир напряжения наконец-то исчез, он чувствовал, что его душа обрела силу и спокойствие.
Она взглянула на него. Удивительный золотой свет в ее глазах теперь стал мягким и приглушенным, они чувствовали себя друг с другом легко. Он нежно целовал ее, много-много раз. В ее глазах появилась улыбка.
– Я обидела тебя? – спросила она.
Он улыбнулся в ответ и взял ее руку, такую мягкую и податливую.
– Неважно, – сказал он, – все к лучшему.
Он вновь осыпал ее многочисленными поцелуями.
– Правда? – спросила она.
– Конечно, – ответил он. – Подожди, я еще с тобой расквитаюсь.
Она внезапно рассмеялась с диким лукавством в голосе и крепко обхватила его.
– Ты мой, любовь моя, не так ли? – воскликнула она, притягивая его к себе.
– Да, – мягко ответил он.
Его голос был таким мягким и совершенным, что она притихла, словно подчиняясь судьбе, которая наступила. И в то же время она неохотно подчинялась, но все произошло и без ее согласия. Он нежно повторял свои поцелуи с мягкой, тихой радостью, от которой ее сердце почти перестало биться.
– Любимый мой! – воскликнула она, поднимая к нему лицо и глядя на него испуганным, нежным, удивленным, полным блаженства взглядом.
Неужели это было на самом деле? Но его глаза были прекрасными, ласковыми, лишенными напряжения или волнения, они были красивы и слегка улыбались ей, улыбались вместе с ее глазами. Она спрятала лицо у него на плече, пытаясь укрыться от него, потому что он видел ее насквозь. Она знала, что он любит ее, и ей было страшно, она попала во власть неведомой ей стихии, вокруг нее возник новый рай. Она хотела, чтобы он пылал страстью, потому что страсть не вызывала у нее волнения. Эта тихая и хрупкая ситуация пугала ее гораздо больше подобно тому, как пространство пугает сильнее, чем давление.
Она вновь быстро подняла голову.
– Ты любишь меня? – быстро и импульсивно спросила она.
– Да, – ответил он, не замечая ее движения, а только ее неподвижность.
Она знала, что это было правдой. Она высвободилась из его объятий.
– Так и должно быть, – сказала она, оборачиваясь и смотря на дорогу. – Ты нашел кольца?
– Да.
– Где они?
– У меня в кармане.
Она просунула руку в его карман и вынула их. Она горела нетерпением.
– Может, поедем? – спросила она.
– Да, – ответил он.
И они снова сели в машину и примечательное поле их битвы осталось позади.
Они ехали по безлюдной местности, день уже клонился к вечеру, и вокруг ощущалась умиротворенность и красота. В душе он чувствовал приятную легкость, жизнь наполняла его словно из какого-то нового фонтана, казалось, он будто только что появился на свет из содрогающегося чрева.
– Ты счастлив? – спросила она его в своей странной восторженной манере.
– Да, – ответил он.
– Я тоже, – воскликнула она, охваченная внезапным экстазом, обнимая его одной рукой и судорожно прижимая к себе, в то время как он вел машину.
– Остановись, – сказала она. – Мне не нравится, что ты всегда должен что-то делать.
– Нет, – сказал он. – Вот закончим наше маленькое путешествие и будем свободны.
– Будем, любимый, будем, – восторженно воскликнула она, целуя его, когда он повернулся к ней.
Он продолжал вести машину с обновленным сознанием, напряжение, сковывавшее его сознание, исчезло. И, казалось, что сознание разлилось по всему его телу, во всем его теле пробудилось простое, сияющее понимание, словно он только что родился, подобно младенцу, подобно вылупившемуся из яйца птенцу, навстречу новой вселенной.
Уже в сумерках они спустились с длинного склона холма и внезапно справа, под ней, в долине, Урсула увидела очертания кафедрального собора Саутвелла.
– Так вот где мы! – радостно воскликнула она.
Строгий, мрачный, уродливый собор готовился раствориться во тьме наступающей ночи, когда они въехали на узкую городскую улицу, и золотые огни превращали витрины магазинов в фон для библейских сценок.
– Отец приезжал сюда с мамой, – сказала она, – когда они впервые познакомились. Ему здесь очень нравится – он обожает этот собор. А ты?
– Да. Кажется, будто кристаллы кварца торчат из темной долины. Мы устроим свой «большой чай» в «Сарациновой голове».
Когда они спустились вниз по холму, они услышали, что колокола на соборе отзванивали гимн, когда часы пробили шесть.
- Славлю тебя, мой Бог, сегодня ночью,
- За то, что ты благословил весь свет…[64]
Урсуле казалось, что мелодия капля за каплей падала с невидимых небес на сумрачный город. Казалось, так звучат покрытые мраком, минувшие века. Все казалось таким отдаленным. Она стояла в старинном дворике маленькой гостиницы, ощущая запах соломы, конюшен и бензина. Над головой она видела первые звездочки. Что все это было? Это не было реальным миром, это был сказочный мир из детства – великое нашедшее свои очертания воспоминание. Мир перестал быть реальным. Она сама была странной, божественной реальностью.
Они сидели вместе у огня в маленькой комнате.
– Это правда? – удивляясь, спросила она.
– Что?
– Все это – это истинно?
– Истинно только самое прекрасное, – сказал он, состроив ей гримасу.
– Правда? – смеясь, усомнилась она и взглянула на него.
Он все еще казался таким далеким. Ее душа смотрела новыми глазами. Она видела в нем странное существо из другого мира. Она была точно во власти чар и все преобразилось. Она вновь вспомнила старое волшебство Книги Бытия, где сыновья Господни увидели прекрасных дочерей человеческих. Он был одним из них, одним из этих странных существ из запредельного мира, которое смотрело на нее и видело, что она была прекрасна.
Он стоял на коврике возле камина и смотрел на нее, на ее лицо, повернутое кверху прямо как цветок, свежий, наполненный светом цветок, слабо мерцающий золотым сиянием, орошенный каплями первого света. И он едва заметно улыбался, словно слов не существовало в этом мире, кроме молчаливого восторга, который один цветок вызывает в другом. Они, улыбаясь, радовались присутствию друг друга, чистому присутствию, о котором нельзя было и подумать, не то что уж познать. Но в его глазах сияла легкая ирония.
Она внезапно прильнула к нему, словно во власти чар. Встав перед ним на колени на коврик, она обвила руками его бедра и прижалась к ним лицом. Сокровища, сокровища! На нее нахлынуло ощущение, словно ее одарили сокровищами.
– Мы любим друг друга! – восторженно сказала она.
– Больше чем любим, – ответил, глядя на нее со своей высоты с сияющим, спокойным лицом.
Неосознанно, она скользнула своими пальцами по его ягодицам, по ходу некоего волшебного жизненного потока. Она отыскала что-то, что-то более восхитительное, более прекрасное, чем сама жизнь. Там, в задней части его бедер, вниз по бокам, скрывалось странное волшебство движения его жизни. Это была странная реальность его существа, самое средоточие его, там, куда стремились бедра. Именно дотронувшись до этого места, она увидела в нем сына Господня, какие существовали в начале мира, не человека. Кого-то иного, кого-то большего, чем просто человек.
Это наконец принесло ей облегчение. У нее были любовники, она знавала страсть. Но это была не любовь и не страсть. Так было, когда дочери человеческие возвращались к сыновьям Господним, странным нечеловеческим сыновьям Господним, которые существовали, когда только был создан мир.
Теперь ее лицо превратилось в одно сияющее пятно вырвавшегося наружу золотого света, когда она смотрела на него, и она положила свои ладони сзади его бедер, когда он стоял перед ней. Он посмотрел на нее сверху вниз и казалось, что его яркие густые брови словно диадема венчают его глаза. Она была прекрасной, словно новый великолепный цветок, распустившийся у его ног, она была райским цветком, чем-то большим, чем просто женщиной, настоящим испускающим свет цветком. Однако в нем была какая-то натянутость и скованность. Ему не нравилось, что эта скорченная фигура испускала такой свет.
Ей больше нечего было желать. Она нашла одного из сынов Господних из Книги Бытия, а он нашел одну из первых самых светлых дочерей человеческих.
Она проводила руками по линии его живота и бедер, сзади, и живительный огонь пробежал по ее жилам, темной струей переливаясь в ее тело из его. Это был темный поток наэлектризованной страсти, который она вызвала в нем и который вобрала в себя. Она создала новую насыщенную электрическую цепь, новый поток страстной электрической энергии между ними, которая возникала в самых темных полюсах тела и замыкалась в идеальную Цепь. Этот темный электрический огонь бежал от него к ней и захлестывал обоих безмерным покоем и удовлетворением.
– Любовь моя, – воскликнула она, поднимая на него взгляд и раскрывая в порыве страсти глаза и рот.
– Любимая, – отвечал он, наклоняясь и целуя ее, постоянно целуя ее.
Она сомкнула руки на полной, округленной выпуклости его живота, когда он наклонился над ней. Ей казалось, что она касается средоточия волшебной темноты, которая и была им. Казалось, она теряет сознание и падает вперед, и он тоже словно потерял сознание, наклонившись над ней. Для них обоих это было совершенное забвение и в то же время самый невыносимый переход к жизни, великолепная наполненность, волшебное блаженство, захлестывающее, устремляющееся потоком из источника глубинной жизненной силы, самой черной, самой глубинной, самой странной жизненной силы человеческого тела в основании живота и внизу спины.
После молчания, когда потоки странной темной жидкости покинули ее, захлестнув ее, унеся с собой ее разум, пробежав вниз по спине, к коленям, через ступни, странный поток, уносящий все с собой и превращая ее в совершенно новое существо, она стала абсолютно свободной, она ощущала себя свободной в совершенном покое, в своей совершенной сути.
Она безмолвно и блаженно поднялась, улыбаясь ему. Он стоял перед ней и сиял, он был настолько реальным, что ее сердце почти прекратило биться. Он стоял перед ней, странное, целостное тело, обладавшее удивительными токами, какими обладали тела сыновей Господних, живших в начале мира. В его теле существовали странные потоки, более загадочные и мощные, чем она знала или могла себе представить, дарующие большее удовлетворение, насыщающие и душу, и плоть, насыщающие до конца. Она считала, что нет источника глубже фаллического источника. А теперь, смотрите, из охваченной страстью скалы – человеческого тела, из странно-восхитительных богов и бедер, более глубоких, более загадочных, чем фаллический источник, струились потоки непередаваемой словами тьмы и непроизносимых сокровищ.
Они были счастливы и могли совершенно обо всем забыть. Они рассмеялись и решили насладиться принесенной ранее едой. Там кроме всего прочего был пирог с олениной, большой, нарезанный широкими ломтями окорок, яйца, кресс-салат и красная свекла, мушмула, яблочный пирог и чай.
– Как вкусно! – с удовольствием воскликнула она. – Как изысканно все это выглядит! Давай, я разолью чай.
Когда ей приходилось исполнять такие светские обязанности, как, например, разливать чай, она обычно нервничала и чувствовала себя неуверенно. Но сегодня она от всего отрешилась и, чувствуя себя легко, полностью забыла о дурных предчувствиях. Чай изящной струйкой лился из торчащего вперед тонкого носика. В ее глазах сияла теплая улыбка, когда она подавала Биркину чай. Наконец-то она научилась быть спокойной и совершенной.
– Все это наше, – сказала она ему.
– Все, – ответил он.
Она издала странный гукающий звук, полный ликования.
– Я так рада! – воскликнула она с непередаваемым облегчением.
– Я тоже, – сказал он. – Но мне кажется, нам следует отказаться от наших обязанностей, и чем быстрее, тем лучше.
– Каких обязанностей? – удивленно спросила она.
– Нам нужно в одночасье бросить работу.
В ее лице забрезжило новое понимание.
– Разумеется, – сказала она, – само собой.
– Мы должны выбраться отсюда, – сказал он. – Не остается ничего, кроме как выбраться отсюда и как можно быстрее.
Она с сомнением посмотрела на него через весь стол.
– Но куда? – спросила она.
– Не знаю, – ответил он. – Просто побродим немного по свету.
И она вновь вопросительно поглядела на него.
– Я была бы совершенно счастлива на мельнице, – сказала она.
– Это слишком близко к прошлому, – сказал он. – Давай немного поскитаемся.
Его голос мог быть таким мягким и беззаботным, он, проникая в ее жилы, наполнял ее воодушевлением. Тем не менее она мечтала об аллее, о заросшем саде и о покое. Еще она желала роскоши – аристократической экстравагантной роскоши. Шатание по свету вызывало в ней беспокойство, неудовлетворенность.
– И где же мы будем скитаться? – спросила она.
– Не знаю. Мне кажется, что я только что тебя повстречал, и мы отправились в путешествие – просто куда глаза глядят.
– Но куда мы можем прийти? – обеспокоенно спросила она. – В конце концов, мир только один и в нем нет особенно отдаленных мест.
– И все равно, – сказал он, – мне бы хотелось поехать вместе с тобой – в никуда. Мы просто побредем в никуда. Вот туда-то и надо стремиться – в никуда. Хочется убежать от определенных мест этого мира, убежать в свое собственное никуда.
Она все еще обдумывала его слова.
– Понимаешь, любимый, – сказала она, – боюсь, что поскольку мы всего-навсего люди, нам придется принять мир таким, каков он есть – потому что другого не существует.
– Нет, существует, – ответил он. – Есть место, где мы можем быть свободными – в этом месте не нужно носить много одежды – можно вообще ее не носить, там можно встретить немногочисленных людей, которые достаточно пережили, можно принимать все таким, какое оно есть, там ты будешь сама собой и не будешь ни о чем беспокоиться. Там, где есть это место, есть несколько людей…
– Но где? – вздохнула она.
– Где угодно – в любом месте. Давай отправимся на поиски. Именно это и нужно сделать – отправиться на поиски.
– Да, – сказала она, заинтригованная мыслью о путешествии. Но для нее это было всего-навсего путешествие.
– Стать свободными, – сказал он, – стать свободными в свободном месте с несколькими другими людьми.
– Да, – жалобно сказала она. Мысль о «нескольких других людях» ей не нравилась.
– Хотя это даже и не определенное место, – сказал он. – Это совершенные отношения между тобой и мной и другими – совершенные отношения, в которых мы могли бы быть свободными.
– Это так, любимый, так, – сказала она. – Есть ты и я. Это ведь ты и я, да?
Она протянула ему руку. Он подошел к ней и наклонился, чтобы поцеловать ее лицо. Ее руки вновь обняли его, ее ладони легли на его плечи и начали медленно двигаться, переходя на спину, потом медленно по спине, с необычными повторяющимися ритмичными движениями, и продолжая медленно скользить вниз, волшебно спускаясь по животу, по бокам. Ощущение полноты счастья, которому никогда не будет конца, вскружило ей голову. Ей казалось, что она может умереть в момент обретения восхитительных благ, обретения магической веры. Она вобрала его в себя так полно и нестерпимо, что лишилась сознания. В то же время она всего лишь тихо сидела в кресле, обнимая его и забывшись.
Он вновь мягко поцеловал ее.
– Мы никогда не должны разлучаться, – тихо пробормотал он. Она же не говорила ни слова, а только крепче прижимала руки вниз к источнику его темноты.
Они решили, очнувшись от блаженного забытья, написать о своем уходе из мира работы здесь и сейчас же. Она этого хотела.
Он позвонил в колокольчик и приказал принести бумагу для писем без адреса. Официант убрал со стола.
– Итак, – сказал он, – ты первая. Поставь свой домашний адрес и дату – затем пиши: «Директору отдела образования, Городская ратуша – Сэр…». Так! Я не знаю, как это обычно делается – мне кажется, о своем уходе нужно уведомить заранее… В любом случае: «Сэр, прошу вас удовлетворить мое прошение об отставке с поста школьной учитепльницы в средней школе Виллей-Грин. Была бы вам очень признательна, если бы вы смогли освободить меня от занимаемой должность как можно скорее, не ожидая истечения месячного срока». Вот так. Записала? Дай-ка посмотреть. «Урсула Брангвен». Отлично. Теперь я напишу свое. Я должен дать им три месяца, но я сошлюсь на здоровье. Я смогу это устроить.
Он сел за стол и написал прошение об отставке.
– Теперь, – сказал он, когда конверты были заклеены и надписаны, – давай опустим их я почтовый ящик вместе. Я знаю, Джеки скажет: «Вот совпадение!», когда получит два совершенно одинаковых письма. Заставим его сказать так или нет?
– Мне все равно, – сказала она.
– Нет? – размышляя, предложил он.
– Это же неважно, правда? – сказала она.
– Да, – ответил он. – Их воображение не коснется нас. Я отправлю твое отсюда, а мое потом. Я не могу позволить себе стать пищей для их сплетен.
Он посмотрел на нее с удивительной, предельной искренностью.
– Да, ты прав, – сказала она.
– Она подняла на него лицо, все сияющее и открытое. Он словно мог погрузиться в самый источник своего сияния. На ее лице появилось отстраненное выражение.
– Поедем? – спросил он.
– Как пожелаешь, – ответила она.
Скоро они выбрались из маленького городка и ехали по извилистым проселкам. Урсула уютно пристроилась рядом с ним, погрузившись в его постоянное тепло и смотрела, как бледный движущийся свет разрезал, делая видимой, ночь. Иногда это была широкая старая дорога с кусками травы с каждой стороны, пролетающая мимо, волшебная и эльфийская в зеленоватом свете, иногда виднелись склоненные над их головами деревья, иногда это были кусты ежевики, иногда стены дома для прислуги или торец фермерской усадьбы.
– Ты пойдешь в Шортландс на ужин? – внезапно спросила его Урсула.
Он удивленно вздрогнул.
– Бог мой! – воскликнул он. – В Шортландс! Да ни за что на свете! Только не туда. Кроме того, мы опоздали бы.
– Куда мы в таком случае поедем? На мельницу?
– Куда захочешь. Жалко ехать куда-то в такую прекрасную темную ночь. Вообще жалко выходить наружу. Жаль, мы не можем остановиться в этой прекрасной темноте. Это было бы лучше всего на свете – эта прекрасная окутывающая нас темнота.
Она сидела и удивлялась. Машина урчала и раскачивалась. Она знала, что ей не удастся уйти от него – темнота поглотила их обоих и скрыла в себе, ее нельзя было преодолеть. Кроме того, в темноте она могла полностью познать волшебство его темного гладкого живота, облаченного в темное и гладкое, и в этом познании была какая-то неизбежность и красота обреченности, обреченности, которую человек желает, которую полностью принимает.
Он вел машину, сидя тихо, словно египетский фараон. Он чувствовал, что он сидел, обличенный древним могуществом, как великие резные статуи реального Египта, что он настолько же реален и наполнен скрытой силой, как они, что на его губах играет рассеянная едва заметная улыбка. Он знал, что такое иметь странный волшебный поток силы в спине и животе, расходящийся по ногам, силы такой совершенной, что она лишала его движений и оставляла на его лице легкую, бездумную улыбку. Он знал, что такое проснуться и получить силу он этого примитивного сознания, глубочайшего физического сознания. И этот источник наделял его истинной и волшебной властью, магической, мистической, таинственной силой, словно электричество.
Было трудно говорить, так прекрасно было сидеть в этой живительной тишине, тонкой, полной немыслимого знания и немыслимой силы, замерев на веки, поддавшись этой вневременной силе, словно обездвиженные, наполненные высшей силой египтяне, застывшие в своей живой, утонченной тишине.
– Нам не нужно возвращаться домой, – сказал он. – У этой машины сиденья опускаются, образуя кровать, а еще мы можем поднять верх.
Она почувствовала радость и испуг и смущенно прижалась к нему.
– А как же дома? – спросила она.
– Пошлем им телеграмму.
Больше они ничего не говорили. Они ехали молча. Но каким-то вторым потоком сознания он направлял машину к выбранной цели. Потому что его свободный разум мог вести его к цели. Его руки, грудь и голова были округлыми и живыми, как у греческих статуй, у него не было застывших прямых рук египетских статуй, и не было мумифицированной, погруженной в сон головы. Искрящийся разум образовывал второй уровень над его истинно египетской сосредоточенностью на мраке.
Они подъехали к деревне, протянувшейся вдоль дороги. Машина медленно ползла, пока они не увидели почту. Тогда они остановились.
– Я пошлю телеграмму твоему отцу, – сказал он. – Я просто напишу: «Осталась на ночь в городе», хорошо?
– Да, – ответила она. Ей не хотелось задумываться над этим.
Она смотрела, как он заходит в здание почты, где, как она увидела, был также и магазин.
Биркин выглядел странно. Даже когда он оказался в освещенном общественном месте, в нем все равно сохранились тьма и загадочность. Живительная тишина, казалось, была его реальностью – едва заметной, мощной и неразгаданной.
А вот и он! Со странным воодушевлением она смотрела на него, на существо, которое никогда не будет разгадано, ужасное в своей мощи, волшебное и реальное. Темная, таинственная его реальность, которая никогда не будет выражена словами, делала ее необычайно свободной, высвобождала ее обретшее совершенство существо. В ней тоже жил мрак, и она тоже обрела свое завершение в тишине.
Он подошел и забросил в машину несколько пакетов.
– Тут хлеб, сыр, виноград, яблоки и шоколад, – сказал он и его голос казался насмешливым из-за безупречной тишины и силы, которые составляли его суть. Ей нужно было прикасаться к нему. Говорить, видеть – все это было пустое. Было бы издевательством смотреть и видеть перед собой мужчину. Она должна была полностью погрузиться во мрак и тишину, тогда перед ней откроются возможности мистического познания через невидимые прикосновения. Она должна была легко и беззаботно соединиться с ним, обрести знание, которое положило бы конец всякому знанию, обрести реальность уверенности в незнании.
Скоро они вновь оказались в темноте. Она не спрашивала, куда они едут, ей было все равно. Она сидела, ощущая наполненность и силу, которая точно лишала ее движения, силу безрасудную и обездвижушую. Она была рядом с ним, все напряжение оставило ее, она, подобно зависшей в равновесии звезде, не думала ни о чем. И она не переставала чувствовать темную радость предвкушения. Она прикасалась и прикасалась к нему. Своими прекрасными нежными кончиками пальцев, своей реальностью, она касалась его реальности – гладкой, чистой, непередаваемой реальности его сотканных из мрака чресл. Прикасаться, инстинктивно находить простым касанием его живительную реальность, его гладкие, чудесные чресла и сотканные из мрака бедра, – вот что она постоянно ощущала.
Он также ждал, замерев на месте в магическом трансе, чтобы она извлекла из него это знание, как он извлек его из нее. Он познал ее своим мраком, всей полнотой своего темного познания. Теперь она должна была познать его, и он тоже обретет свободу. Ночь перестанет существовать для него, как перестала она существовать для египтян, он застынет в тщательно взвешенном равновесии, он превратится в истинно-мистический средоточие физического существа. Они подарят друг другу это звездное равновесие, которое одновременно даст им свободу.
Она увидел, что теперь они едут между деревьями – огромными старыми деревьями с засыхающим папоротником под ними. Бледные, искривленные стволы казались призрачными, и, словно жрецы древнего культа, в отдалении вздымались волшебные и загадочные папоротники. Это была кромешно-черная ночь, с низко нависшими облаками. Машина медленно двигалась вперед.
– Где мы? – прошептала Урсула.
– В Шервудском лесу.
Было очевидно, что это место ему знакомо. Он ехал медленно, оглядываясь по сторонам. Затем они выехали на зеленую дорогу между деревьями. Они осторожно развернулись и поехали между лесными дубами по зеленому проселку. Зеленый проселок вывел их на небольшую травянистую лужайку, где между холмиками струился маленький ручеек. Машина остановилась.
– Мы останемся здесь, – ответил он. – И выключим свет.
Он тут же выключил фары, и осталась только ночь; тени деревьев казались реальностью другого, ночного бытия.
Он постелил плед на папоротник, и они опустились на него в абсолютной, немыслимой тишине.
Лес издавал слабые звуки, но ничто не нарушало тишины, ничто не могло ее нарушить, на мир был наложен какой-то странный запрет, порождая новое волшебство.
Они сбросили одежду и он привлек ее к себе, нашел ее, нашел истинно прекрасную действительность ее навсегда невидимой плоти. Жаждущие, какие-то нечеловеческие, его пальцы на ее скрытой наготе были пальцами тишины на тишине, тело волшебной ночи – на теле волшебной ночи, ночи-мужчины и ночи-женщины, которых никогда не увидит глаз, которых никогда не познает разум, которые были только пульсирующим откровением иного живущего существа.
Она воплотила в жизнь свое влечение к нему. Она дотрагивалась, она получала максимум непередаваемой информации в прикосновении. Темное, таинственное, совершенно тихое чудесное приобретение и вновь утрата; полное принятие и подчинение, волшебство, реальность которого никогда не будет познана; живая чувственная реальность, которую никогда нельзя будет перевести на язык разума, которая останется снаружи, в виде живого организма тьмы, молчания и таинственности, волшебного тела реальности.
Она удовлетворила свое желание. Он удовлетворил свое желание. Потому что она была для него тем, чем он был для нее – древним великолепием, волшебной, пульсирующей реальностью другого существа.
В эту прохладную ночь они спали под пологом машины, и это была ночь непрерванного сна.
Когда он проснулся, было уже довольно поздно. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, а затем отвели глаза, наполненные мраком и тайной. Затем они поцеловались и припомнили, как прекрасна была ночь. Оно было прекрасно, это наследие вселенской темной реальности, и им было даже страшно вспоминать. Они спрятали свои воспоминания и знание в дальние уголки своих сердец.
Глава XXIV
Смерть и любовь
Томас Крич умирал медленно, невыносимо медленно. Все считали невероятным, что нить жизни могла так истончиться и все же не рваться. Больной мужчина был невероятно слаб и изможден, жизнь в нем поддерживалась только морфием и напитками, которые он медленно потягивал. Он был только наполовину в сознании – лишь тонкая ниточка сознания связывала мрак смерти со светом дня. Однако его воля была непоколебима, он был целым и единым. Только вокруг него все должно быть тихо и спокойно.
Присутствие посторонних людей, помимо сиделок, теперь были трудно для него, он должен был делать над собой усилие.
Каждое утро Джеральд приходил в его комнату, надеясь найти, наконец, своего отца мертвым. Однако он все время видел то же прозрачное лицо, те же спутанные темные волосы на восковом лбу и ужасные, жуткие темные глаза, которые, казались, растворялись в бесформенной темноте, оставляя только маленькую искорку зрения. И все время, когда эти темные, жуткие глаза поворачивались к нему, все тело Джеральда пронзала горящая стрела отвращения, которая, казалось, отдается во всем его существе, угрожая расколоть его разум своим ударом и погрузить его в безумие.
Каждое утро его сын стоял там, прямой и полный жизни, сияя белизной своего существа. Эта сияющая белизна этого странного, близкого существа вводила отца в лихорадочную дрожь боязливого раздражения. Он не выносил жуткого, устремленного на него, пусть даже и на мновение, взгляда голубых глаз Джеральда. Поскольку ни один из них не стремился к длительному контакту – отец и сын смотрели друг на друга, а затем расставались.
В течение долгого времени Джеральд сохранял совершенное хладнокровие, он оставался потрясающе собранным. Но, в конце концов, страх переселил его хладнокровие. Он боялся, что что-то в нем сломается самым ужасающим образом. Он должен был остаться и вытерпеть все до конца. Какое-то извращенное желание заставляло его смотреть, как его отец выходит за грань жизни. И в то же время сейчас каждый день был страшен. Раскаленная до красна стрела ужасного страха, пронзающая все его тело, вызывала дальнейшее воспламенение. Весь день Джеральд постоянно от чего-то ежился, словно кончик Дамоклова меча покалывал основание его шеи.
Бежать было некуда – он был связан с отцом, он должен был увидеть его конец. А воля его отца никогда не давала слабину, никак не поддавалась смерти. Она разорвется только тогда, когда смерть оборвет ее – если только она не продолжит существовать и после физической смерти. И таким же образом воля сына тоже должна быть непреклонной. Он должен оставаться твердым и неуязвимым, смерть и процесс умирания не должны были коснуться его. Это было испытание судом божьим. Мог ли он выстоять и увидеть, как его отец медленно умирает и поглощается смертью, не сломается ли его воля, не отступит ли он перед всемогущей смертью. Словно краснокожий индеец во время пытки, Джеральд переносил весь этот процесс умирания, не дрогнув ни единым мускулом, без трепета. Это даже вызывало в нем ликование. В некоторой степени он желал этой смерти, насильно заставлял себя наблюдать за ней. Он словно сам нес смерть, даже когда он сам дрожал от ужаса. Но он все же мог нести ее, он мог торжествовать через смерть.
Но, истощив все силы во время этого испытания, Джеральд потерял хватку над внешней, повседневной жизнью. То, что было для него всем, стало пустым местом. Работа, удовольствие – все это осталось позади. Он более менее машинально продолжал вести дела, но все эти занятия стали ему чуждыми. Сейчас его занимала эта чудовищная борьба со смертью в собственной душе. Его воля должна была восторжествовать. Будь что будет, но он не склонит голову, не подчинится, не признает себя рабом. Смерть не станет его повелителем.
Но по мере того, как эта борьба продолжалась, все, чем он был, постепенно продолжало разрушаться, и, в конце концов, жизнь вокруг него превратилась лишь в выеденную оболочку; бушующий и бурлящий, словно море, шум, в котором он участвовал лишь поверхностно, а внутри этой полой оболочки были только темнота и мрачное пространство смерти. Он чувствовал, что должен на что-то опереться, в противном случае он упадет внутрь, в великую черную дыру, возникшую в центре его души. Его воля заставляла его жить внешней жизнью, думать внешним разумом, не позволяя внешней его сущности разрушиться или измениться. Но давление было слишком велико. Ему нужно было найти что-нибудь, что помогло бы создать равновесие. Что-то должно было проникнуть в полую пропасть смерти в его душе, заполнить ее и уравновесить своим давлением изнутри давление снаружи. Потому что день за днем он ощущал, что превращается в пузырь, заполненный темнотой, вокруг которого играет переливающаяся разноцветными красками оболочка его сознания и на которую внешний мир, внешняя жизнь, давила с ужасающим напором.
Это крайнее состояние инстинктивно заставило его обратиться к Гудрун. Теперь он готов был отказаться от всего – ему нужно было только создать с ней связь. Он провожал ее в мастерскую, чтобы только быть рядом с ней, говорить с ней. Он ходил по комнате и останавливался то тут, то там, бесцельно беря инструменты, кусочки глины, маленькие фигурки, которые она забраковала – они были странными и гротескными, – смотря на них и не видя.
А она чувствовала, что он следует за ней, ходит за ней по пятам, словно рок. Она отстранялась от него и в то же время она чувствовала, как он подкрадывался все ближе и ближе.
– Послушай, – сказал он ей однажды вечером необычно отстраненным и неуверенным голосом, – может, останешься сегодня на ужин? Мне бы очень этого хотелось.
Она слегка удивилась. Он произнес эту просьбу так, как мужчина мужчине.
– Меня ждут дома, – сказала она.
– О, они же не будут возражать, правда? – сказал он. – Я был бы ужасно рад, если бы ты осталась.
Ее длительное молчание в конце концов стало знаком согласия.
– Так я скажу Томасу, да? – спросил он.
– Мне нужно будет уйти сразу же после ужина, – сказала она.
Это был темный холодный вечер. В гостиной камин не горел, поэтому они сидели в библиотеке. Большую часть времени он рассеянно молчал, а Винифред говорила очень мало. Но когда Джеральд действительно оживлялся, он улыбался и говорил с ней мило и просто. Но затем он вновь впадал в длительное молчание, сам того не замечая.
Он чрезвычайно привлекал ее. Он ей казался таким задумчивым, а его необычная, отрешенная молчаливость, которую она не могла разгадать, трогала и заставляла ее удивляться ему, и даже вызывала в ней некоторое почтение к нему.
Но он был очень заботливым. Он передавал ей самое вкусное, что только было на столе, он приказал принести к ужину бутылку сладковатого золотого вина с тонким ароматом, зная, что она предпочтет его бургундскому. Она чувствовала, что ее ценят, что в ней почти нуждаются.
Когда они пили кофе в библиотеке, в дверь тихо, очень тихо постучали. Он вздрогнул и сказал: «Войдите». Тембр его голоса, точно звук, высокий дрожащий звук, лишил Гудрун спокойствия.
Сиделка в белом, словно призрак, нерешительно появилась в дверях. Она была очень привлекательной, но несколько странной, застенчивой и неуверенной в себе.
– Доктор хотел бы с вами переговорить, мистер Крич, – сказала она низким, едва слышным голосом.
– Доктор! – воскликнул он, вскакивая на ноги. – Где он?
– Он в столовой.
– Скажите ему, что я сейчас приду.
Он залпом допил кофе и пошел за сиделкой, которая растворилась, словно тень.
– Что это была за сиделка? – спросила Гудрун.
– Мисс Инглис – она мне больше всего нравится, – ответила Винифред.
Через некоторое время Джеральд вернулся, он казался озабоченным собственными мыслями и в нем чувствовалась та напряженность и отстраненность, которая свойственна слегка подвыпившему человеку. Он не сказал, зачем он понадобился доктору, но встал перед камином, сложив руки за спиной и его лицо было просветленным, и даже каким-то экзальтированным. Он не то чтобы думал – он просто застыл в чистом напряжении внутри себя, и мысли беспорядочно проносились в его разуме.
– Мне нужно пойти повидать мамочку, – сказала Винифред, – и повидать папочку, прежде чем он уснет.
Она пожелала им обоим доброй ночи.
Гудрун также встала и собралась уходить.
– Ты ведь еще не уходишь, да? – спросил Джеральд, быстро взглянув на часы. – Еще рано. Я провожу тебя, когда ты пойдешь. Садись, не убегай.
Гудрун села, словно хотя он и витал мыслями где-то далеко, его воля подчинила ее себе. Она чувствовала себя почти загипнотизированной. Он был незнакомцем для нее, чем-то непознанным. О чем он думал, что чувствовал, стоя там с таким отрешенным видом и ничего не говоря? Он удерживал ее – она чувствовала это. Он не отпустит ее. Она смотрела на него, смиренно подчиняясь.
– Доктор сказал тебе что-нибудь новое? – через некоторое время мягко спросила она с тем нежным, робким сочувствием, которое затронуло тонкую нить в его сердце. Он приподнял брови в пренебрежительном, безразличном выражении.
– Нет, ничего нового, – ответил он, словно этот вопрос был совершенно обычным, тривиальным. – Он говорит, что пульс очень слаб, что он очень прерывист. Но это ничего еще не значит, ты и сама знаешь.
Он посмотрел на нее. Ее глаза были темными, мягкими, распахнутыми, в них было растеранное выражение, которое всколыхнуло в нем волну возбуждения.
– Нет, – через какое-то время пробормотала она. – Я в этом ничего не понимаю.
– Как и я, – сказал он. – Знаешь, не хочешь ли закурить? – давай!
Он быстро достал портсигар и протянул ей зажженную спичку. Затем он вновь встал перед ней возле камина.
– Да, – сказал он, – в нашем доме до болезни отца никто никогда особенно не болел.
Он какое-то время размышлял. Затем, взглянув на нее сверху вниз, глубокими, выразительными глазами, от которых ей стало страшно, он продолжил:
– Это что-то, с чем не считаешься, пока не столкнешься с ним. А тогда сталкиваешься, то понимаешь, что это всегда находилось рядом – всегда рядом. Понимаешь, о чем я говорю? О возможности этой неизличимой болезни, этой медленной смерти...
Он напряженно оперся ногой о мраморный порожек камина и взял сигарету в рот, глядя в потолок.
– Я знаю, – пробормотала Гудрун. – Это ужасно.
Он рассеянно курил. Затем он вынул сигарету изо рта и, просунув кончик языка между зубами, выплюнул крошку табака, слегка отворачиваясь, словно человек, рядом с которым никого нет или который погрузился в мысли.